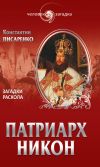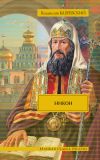Текст книги "Патриарх Никон. Том 2"

Автор книги: Михаил Филиппов
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Обрадовался Тимошка и подумал:
«Вот уж приворожу кого ни на есть, и будет мне благо».
Поднялся он радостно и отправился обедать в кухню.
Пообедав, он лег немного поспать, как влетают в их келью повар и Михайло. Повар ревет:
– Как! Да чтоб я, да испортил патриарха… Да в петлю готов… что ты, что ты…
– А кто ж?.. Ежели бы я кухтовал… а то кто же? А там патриарх, игумен, казначей, ризничий и наместник лежат, задрамши ноги, за животики держатся, орут: ратуйте, батюшки светы… Значит, зелье какое ни на есть… аль приворот…
– Приворот! Богородица Святая, да уж не я ли? – воскликнул Тимошка.
– Как ты? – крикнули оба.
Плача и чуть-чуть не вырывая волосы из головы своей, Тимошка-портной рассказал им о приворотном зелье, которое дал ему чернец Феодосий и как он сунул шарики в хлеб.
– Беги же, – крикнул ему повар, – к патриарху, а ты, Михайло, отыщи чернеца… Он, кажись, в кузне… с кузнецом… тот взял его к меху…
Вошли повар и портной Тимошка в келью патриарха.
Это была довольно большая комната в несколько окон; на полу разостлан был большой татарский ковер, вокруг стен татарские диваны, и в углу виднелись дорогие образа с лампадкою. Стол не был еще убран. Начальство обители лежало в больших муках на диванах, а патриарх бегал по комнате и сильно стонал.
– Батюшка, святейший патриарх… без вины виноват… Дал мне чернец Феодосий приворотное зелье… да наделал я катушки, да в хлеб тебе… Хотел милости твоей заслужить…
– Какое зелье… говори скорей, – закричал патриарх.
– И сам-то не знаю… точно крупа мелкая… а он говорил: мука-де…
– Крупа?.. Да это не мышьяк ли?.. Хорошо, что сказал, – произнес с лихорадочным жаром патриарх. – Повар! скорей кипятку… кипятку… да в два чайника… да несколько постаканчиков… А ты, Тимошка, пойди в свою келью и жди приказа.
Тимошка ушел в свою келью, и повар спустя несколько минут возвратился к патриарху с кипятком и со стаканами.
Патриарх достал из ларца две пачки и из каждой из них высыпал в чайник горсть порошка и помешал там ложечкою.
Спустя некоторое время он разлил приготовленное и обратился к страдающим монахам:
– Пейте вот это – это безуй-камень… Да чтоб вы не боялись, так глядите, и я пью… А там мы из другого чайника выпьем индроговый песок.
Монахи едва волочили ноги, приблизились к столу и начали пить настой; после того патриарх налил им по стакану настоя индрогового песка. Монахи, выпив того и другого, почувствовали как будто лучше, и патриарх велел принести еще горячей воды.
Между тем как патриарх спасал и себя и монастырское начальство от смерти, поляк Ольшевский отправился в кузню, находившуюся на берегу Онеги.
Он застал там чернеца Феодосия и Михайлу.
– Альбо то можно, – начал дипломатически Ольшевский. – Святейшего да зельем, да приворотным…
– Що це таке, – выпучил глаза Михайло, ничего не понимая.
– Що?.. да вот что… Эвтот, значит, чернюк дал Тимошке-портному приворотное зелье, и тот всунул его в хлеб… Ну и у святейшего животики, ой! ой! ой!
Едва он это произнес, как чернец шмыгнул из кузни.
Поляк и Михайло бросились за ним; последний захватил из кузни молот.
– Лайдак! Кеп! – кричал ему вслед поляк, а тот мчался прямо к реке.
Прибежав к Онеге, Феодосий бросился в реку, чтобы переплыть на другую сторону.
– Альбо то можно… а я и плавать не умею…
– Я за вас, пан Ольшевский… а вы вон в ту лодку… вон стоит…
Ольшевский побежал к лодке, а Михайло кинул на берег молот, имевшийся у него в руках, и бросился в воду. Отплыв несколько саженей, ему сделалось жаль молота. «Еще украдут!» – подумал он и возвратился на берег, взял увесистый молот и, бросившись в воду, поплыл оригинальным образом; он как будто по грудь ходил, подняв высоко молот над головою, и, помахивая им, выкрикивал:
– А ну! а ну же… ну!..
Феодосий, слыша такие восклицания за собою, сильно заторопился.
– Ай, дожену! – кричал ему хохол.
Так проплыли они более половины ширины реки; но вот Феодосий, вероятно, от того, что сильно торопился, чувствует, что слабеет.
Медленнее он начинает двигаться, и течение начинает его сносить.
– Ага! утонешь… держись за воду! – раздается за ним хохот хохла.
– Да не бись… серденько… ере… ере… как вас там… Феодосий… Не втопитесь – не дамо… еще нам треба знати, звиткиль узявся ты, да кто навчив… робить нам пакость, – кричал ему вслед Михайло.
– Батюшка… ратуй… тону, – завопил Феодосий.
– Не втонешь…
И вот могучая левая рука хохла схватывает его за руку, а правая все же не выпускает молота.
– Теперь кажи… звиткиль взявся?.. Кто навчив? Кажи, не то молотом по лбу.
– Никто.
– Никто… гляди. – И Михайло погрузил его в воду.
– Скажу, скажу, дяденька…
– Кажи.
– Митрополит Питирим…
– Як? як? В пятерых?
– Питирим… Питирим…
– Чую… Еще кто?
– Больше никто.
Кузнец снова погружает его в воду.
– Ай! дяденька, скажу…
– Кажи.
– Архимандрит Чудовский Павел.
– Добре.
Переплывают они на другой берег, – в это время показывается лодка с Ольшевским.
– Добже… дзинькую пана, – кричит он и, причалив лодку, выскакивает на берег.
Кузнец рассказывает, что Феодосий сказал, что дал ему зелье митрополит в «пятерых» и архимандрит Павел.
– Врет он, – отрицает Феодосий свое прежнее признание.
– А коли ты кажешь, шо то брехня, що я казав, так поплывем зновь…
Михайло схватывает его в охапку, бросает в реку и сам кидается туда.
– Ай, утопит, – вопит Феодосий.
– Покайся! – кричит ему поляк. – Надея на Бога, правды доищемся… Втопи его, Михайло.
Михайло погружает того на несколько минут в воду.
– Михайло правду говорил, – ревет Феодосий.
– Коли правду, так подашь ты сказку патриарху? – спрашивает поляк.
– Подам.
– Коли подашь, так поедем домой… Только гляди, коли вновь отречешься и не напишешь сказки, мы спустим тебя в реку, – крикнул ему поляк.
Они уселись втроем в лодку и переплыли в монастырь.
В келии Феодосий написал сказку о том, что он уговорил Тимошку-портного дать приворотное зелье патриарху, и все это по приказанию митрополита Питирима и архимандрита Павла. Сказку он скрепил своею подписью.
Патриарху между тем сделалось легче, и Ольшевский доложил ему о раскрытии ими истины.
Никон велел игумену арестовать и Тимошку и чернеца и на другой же день отправить в Каргополь.
Спустя некоторое время оправившись, напуганный этим событием, он 28 июня написал в Москву боярину Зюзину:
«Едва жив в болезнях своих: Крутицкий митрополит и чудовский архимандрит прислали диакона Феодосия со многим чаровством меня отравить, и он было отравил, егда Господь помиловал, безуем-камнем и индроговым песком отпился; да иных со мной четверых старцев испортил, тем же, чем и я, отпились, и ныне вельми животом скорбен».
Неизвестно, по чьему докладу, но по отписке патриарха, осведомись об этом, государь велел произвести следствие и суд.
Что государь близко принял это к сердцу, доказывается тем, что 5 сентября назначены для следствия: первый тогдашний боярин князь Алексей Никитич Трубецкой, думный дворянин Елизаров и думный дьяк Алмаз Иванов.
Алексею Михайловичу казалось, что он отдал дело в руки первых столпов истины и правосудия и что поблажки никому не будет.
Но боярство нарочно отрекомендовало этот суд: все эти лица были кровные враги Никона, и они хотели оскандалить его во что бы то ни стало, показав его злобу и ненависть к царским любимцам: блюстителю патриаршего престола Питириму и к архимандриту Павлу.
И вот началась следующая трагикомедия: привезены Тимошка-портной и чернец Феодосий в Приказ тайных дел, и дьяк Алмаз, в присутствии Трубецкого и Елизарова, снял с них показания. Чернец при этом отрекся от говоренного в Крестовом монастыре о митрополите и архимандрите, а Тимошка-портной показал, что он, по наущению Феодосия, состав делал, жег муку пшеничную, волосы из головы вырывал и в поту валял, – велел ему этот состав делать диакон для приворота к себе мужеска пола и женска.
Дали обоим очную ставку: чернец снова отрекся, а портной сказал, что тот-де и повинную челобитную подал патриарху.
На это чернец возразил:
– Повинную писал по научению и по неволе, за пристрастием поляка Николая Ольшевского, который бил меня плетьми девять раз.
По тогдашнему судопроизводству следовало обоих подвергнуть пытке; но перед пыткой снималось показание.
По порядку это совершалось не тотчас, а на другой день.
Вечером пристав зашел к заключенным, содержавшимся в разных застенках.
Феодосия он убеждал в том, что если он будет держаться отрицания, то ему не будет пытки, хотя и поведут его в пыточный застенок. Портному же он сказал: «Уж ты лучше свали на кузнеца да на поляка – они-де подговорили тебя. А будешь стоять на том, что Феодосий виноват, то тебе и пытка и казнь. Гляди, коли до пытки снимешь с Феодосия зазор, то и пытка будет такая, как бы и не пытка»…
На другой день князь Трубецкой снова потребовал в присутствие подсудимых.
Феодосий стоял на прежнем: не я-де научил портного.
Портной же снял с Феодосия поклеп и повинился, что приворотное зелье дали ему кузнец и поляк.
По порядку суда Трубецкой, Алмаз и Елизаров должны были присутствовать при пытке, а тут послали их в пыточный застенок с приставом.
Пристав вводил их туда и выводил; была ли пытка или нет – неизвестно.
Но подсудимые, выйдя оттуда, вновь показали в присутствии, что и прежде, и подписали сказку, в которой говорилось, что при пытке присутствовали князь Трубецкой, Елизаров и Алмаз.
После того, по обычаю, следовало привлечь к ответу кузнеца, и поляка, и хохла, но этого не сделано; да кроме того, по законам, по окончании дела следовало Никона выдать головой митрополиту и архимандриту, то есть он должен был заплатить им за бесчестие, а тут зачли дело оконченным и предали его забвению…
Дело вышло очень темным и для современников и для потомства. Мы вправе сказать, что истина была на стороне патриарха, а Питирима и Павла рисует это не в блестящем свете: как враги Никона они не разбирали средств, чтобы от него отделаться. Они же были впоследствии и свидетели на суде и сами судьями.
XVII
Дело боярина Романа Боборыкина
В московских хоромах боярина Романа Боборыкина идет пир.
На пиру этом множество бояр и высшего духовенства, даже Аввакум и Неронов, но их не тешат ни домрачеи, ни бахари, ни скоморохи, ни гусельники, как это было во времена царя Михаила, и калики перехожие поют духовные песни.
Сами лица боярские более постные, чем праздничные, а беседа идет шепотом между отдельными группами, и у всех шел разговор богословский или же о Никоне.
Толки идут самые разнообразные: и отзываются голоса умеренные, слышатся суждения резкие, раскольничьи, говорится даже о Никоне как о деятеле политическом, и он осуждается как гонитель боярства. Между умеренными слышны возгласы:
– Все едино, как ни молись, была бы у тебя в сердце молитва; а другой и по-старому молитву слушает, да на две души кушает, – по-старому спасается, а кусается… А Никона все же насмарку – уж больно зазнался.
Аввакум и Неронов пели иное:
– Времена Антихриста настали. Было Никона имя поповское, Никита, а это из греческого Никитиос и соответствует слову «победитель», одному из названий нечистой силы. Уничтожил он древлее благочестие и баню паки бытия[13]13
Вот откуда взял Аксаков это знаменитое изречение. Под этим раскольники подразумевали крещение. И так как Никон установил в крещении миропомазание лица и погружение в воду, то раскольники отрицали и самое крещение это как таинство; а свое крещение назвали банею паки бытия, то есть ради будущей жизни.
[Закрыть].
Бояре же толковали меж собою:
– А он и великим государем именуется и местничество на деле уничтожил, ни во что не ставил родовую доблесть и честь…
Ну и шалишь, мы-де сами с усами.
Словом, все партии были заодно, что нужно ссадить Никона.
Но как отделаться от него?
Постановление собора русских святителей царь не утвердил, а на Вселенский собор не соглашался.
Собрались поэтому кровные враги Никона в комнату, или кабинет Боборыкина: и для совещания и для келейной выпивки.
Тогда духовные и светские были более сближены одинаковостью интересов и обычаев, чем теперь: они были поэтому откровеннее друг с другом и не стеснялись меж собою.
Раз гости приглашены в комнату или в кабинет хозяина, были они уж, как говорится, нараспашку.
В кабинете сидели: сам хозяин; митрополит Питирим, толстый, с брюшком и заплывшими от жира глазами; архимандрит Павел, – как уже я говорил в одном месте, – красивый, чернобровый, с белыми ручками господин, немного женоподобный; Родион Стрешнев, Алмаз Иванов и Хитрово.
Все они полулежали на топчанах, и перед ними, на столе, стояли наполненные мальвазиею золотые подстаканчики.
От Алмаза Иванова они узнали уже исход извета Никона об его отравлении, и вот они собрались потолковать, что делать дальше.
– Да что и поделать, – молвил дьяк Алмаз, – ведь пятнышка на нем, хитреце, нетути… Управлял он государевым делом шесть лет и всей казной заправлял… перебрали, пересмотрели все дела во всех приказах и судах – чист, как божья роса… светел, как алмаз…
– Я, – прервал его митрополит Питирим, – отписал всюду, во все монастыри и протопопам: нет ли на Никона челобитчиков аль не брал ли посул?., и ниоткуда ничего, – только бьют челом, что он не так скоро их посвящал… Да и то в те поры было ему не до них.
– Да что же делать? – с отчаянием спросил архимандрит.
– А вот что я надумал, – молвил Алмаз, – нужно сделать так, чтобы его бесить… выводить из терпения… и он учнет продерзости делать и царским послам аль, быть может, и царю, и тогда… тогда мы напустим на него митрополита Газского Паисия… Тем же часом нужно Паисия сблизить с царем. Это, Хитрово, уж твое дело… твоя тетушка Анна Петровна пущай митрополита к себе в терем впустит, а там и с царицею познакомит.
– Вот я так попрошу дядюшку Семена Лукича Стрешнева; пущай, как царский дядя, возьмет Паисия под свою высокую руку и доложит батюшке-царю.
– Я же, – вставил Боборыкин, – берусь начать дело. Должен я вам поведать, что вотчина моя на границе Нового Иерусалима и на границе вотчины бывшего коломенского архиерейского дома. Архиерейская вотчина была тоже наша, да отец мой по завещанию отписал ее коломенскому епископу… Вот затеял патриарх строить на моей земле Новый Иерусалим и купил у меня землишку, а как упразднил он коломенскую епископию, так получил от царя грамоту, что к обители отходят все вотчины той епископии… Так и отошла к нему и отца моего вотчина.
– И прекрасно, – крикнул Алмаз. – Теперь ты и бей челом царю: отписать-де вновь вотчину к себе.
– Я и того не сделал, – прервал его Стрешнев, – пожаловал я вотчину на Новый Иерусалим, а потом ничего не дал, жалованной грамоты не дал, и делу конец. Так и тебе, боярин, мой совет: запиши ты свою землю и скажи «моя», и делу конец.
– Пожалуй, – заметил Алмаз, – так и лучше будет; он разгневается, а коли царь твою, боярин, руку возьмет, то он осерчает и пойдет писать.
– Ладно, ладно… – велю запахать землицу и засеять хлебом, – обрадовался Боборыкин. – Только глядите, чтоб царь не осерчал…
– Мы все за тебя…
– Отстоим, – раздались голоса.
– Одного только попрошу у вас, – сказал Боборыкин, – залучите к себе всех раскольничьих протопопов и попов, особливо Аввакума и Неронова… Они много нам помогут…
– Я берусь переговорить с царем, – сказал Питирим. – Аввакум духовником у родственников царицы: Федосии Морозовой и Евдокии Урусовой; а Неронова и царь жалует, с ними Морозов поладит.
– Ладно, ладно, – закричали все, – мир с раскольниками… Они нам помогут низложить Никона, для них он антихрист, латынянин, лютеранин, кальвинист – что хотите…
После того пошли здравицы, и позднею ночью всех развезли по домам, с перенесением на ложе сна.
На другой день Боборыкин послал своего дворецкого нарочито распорядиться о засеве монастырской земли; Хитрово же на другой день рано утром заехал в Чудов монастырь, взял оттуда митрополита Газского и свез его к тетушке Анне Петровне, где он оставил его вести с нею душеспасительные беседы.
Митрополит был красивый, женоподобный, черноглазый и чернобородый грек, составивший себе карьеру своей красотой, но теперь он был уже желчный, лукавый и нервный человек.
Говорил он витиевато, льстиво и вкрадчиво. Анну Петровну он в один сеанс привлек на свою сторону: он наговорил ей столько любезностей, столько льстивого, что вдовушка растаяла…
Неудивительно, что вскоре она познакомила его и с царицею Марьею Ильиничною, которая часто ее посещала; а там он добрался и до царя.
Охотно Питирим, при церковной службе и обряде, стал уступать ему первенство, будто бы как представителю двух патриархов: Константинопольского и Иерусалимского, и делалось это для того, чтобы царь обратил на него серьезное внимание.
Молитвами его царица вскоре зачала и в следующем году родила желанного сына Федора.
Бояре в это время и в приказах, и на воеводствах, и в Боярской думе овладели решительно всеми не только светскими, но и духовными и церковными делами.
Была совершенная анархия, и нельзя было даже в точности определить, чья партия господствовала и какой приказ старший. И в это-то время установилось понятие: чем честнее (в смысле чествовать) боярин, тем более прав имеет и его приказ.
Так было и на воеводствах.
Между тем как такие дела совершались в Москве, Никон прибыл из Крестового в Новый Иерусалим.
Здесь он застал в большой горести крестьян, приписанных к этому монастырю: все поля их засеял боярин Боборыкин своим хлебом, и им грозил в тот год голод.
Никон возмутился этим поступком и написал государю жалобу, в которой просил, чтобы разобрали дело по документам.
На это не последовало ответа. Тогда Никон послал царю другую жалобу, в которой объяснил, что не могут же крестьяне его монастыря остаться зимой без средств к существованию, а потому он просит ускорить решением дела, иначе он должен принять против Боборыкина иные меры.
Ответа не воспоследовало. Приближалась однако ж жатва, и Боборыкин мог бы снять хлеб, а потому монастырские крестьяне, не дождавшись указа из Москвы, вышли в поле, сжали и свезли в монастырь весь хлеб.
Боборыкин подал царю жалобу. Тогда немедленно же получен указ: всех крестьян выслать в Москву.
В день получения этого указа, после обеда, явился к патриарху Ольшевский и объявил, что нищенка-странница желает его видеть и принять от него благословение.
Никон, принимавший всех безразлично, велел ее впустить в свою келью.
Нищенка, подойдя к его благословению, остановилась и глядела на него пристально и молча.
– Инокиня Наталья! – воскликнул Никон, бросившись обнимать ее.
– А я думала, что ты, Ника, забыл меня.
– Не забыл я тебя, а горя было столько… столько забот, что я и себя не помнил. Да и от тебя вестей не было…
– Жила я у Богдана Хмельницкого… его похоронили… нельзя было покинуть семью его: скорбную жену Анну… а там Нечая схватили наши, и жена его, то есть Катерина, дочь Богдана, тоже осиротела… Да и Даниил Выговский тоже умер по дороге в Москву, и старшая дочь Богдана, жена его, тоже сиротствует… Было много мне горя… Потом в Украине резня… плач и горе всюду. Нет Богдана, чтобы мстить ляхам за убиение его старшего сына, о котором он плакал до могилы и которому он клялся быть вечным врагом ляхам. Нет его батога и для своих…
– Бедная, несчастная страна, и все оттого, что нет там хозяина.
– Умирая, Богдан все кричал: дайте мне Никона… Да, кабы ты приехал туда, иное дело… Да и Юрий Хмельницкий, коли ты не приедешь туда, отречется от гетманства и пойдет в монастырь.
– Да как же туда приехать? Царь не пущал при Богдане, а теперь подавно.
– Беги.
– Бежать, да как?
– Я средства дам… Приедут сюда из Украины семь казаков с охранными листами, поступить в монастырь; ты с теми же листами да и на их лошадях и уезжай. Они приедут из Конотопа, а ты поезжай на Нежин и Киев.
– Но как бежать?.. Царь озлится, изменником станет обзывать.
– Уходи, Ника, от зла. Осудил тебя их собор православный к лишению архиерейства, священства и чести… Гляди, пойдут они еще дальше: соберут раскольничий собор и сожгут тебя… аль навеки заточат… А Малороссия, гляди, гибнет без тебя, а там погибнет и Русь… Коли тебе не жаль себя, пожалей народ… пожалей о том, что ты сделал… Отвернулся ты от государева дела и гляди: под Конотопом конница наша вся погибла, в Литве все войско наше истреблено. Шереметьев в Польше у татар, Юрий Хмельницкий поддался ляхам.
– Нельзя… как бежать?.. А Новый мой Иерусалим кто кончит?.. Что станет со всею братиею?.. Да и бояре и раскольники обрадуются… Бояре и теперь говорили, как я в Крестовом жил: «Вот, дескать, наша взяла, – Никон испужался». А Неронов да Аввакум всюду смущают народ. «Никона, – говорят они, – прогнали за еретичество; нас же с честью вернули, как страстотерпцев за православие, да за древлее благочестие»; а иным говорят они: «Никон покаялся в еретичестве, да удалился, во пустыножительстве льет слезы покаяния». А коли я бегу, еще хуже будет… Да и жаль мне царя Алексея… люблю я его, как сына… дорог он мне… да и Русь-то мою так жаль, так жаль… иной раз заплакал бы…
У Никона показались слезы на глазах.
Инокиня Наталья расплакалась.
– Поеду я в Москву, – сказала она, – буду у царя, у царицы и боярынь. Узнаю всю подноготную… и коли опасность какая ни на есть, отпишу тебе… У тебя же будут сегодня же казаки… и ты приготовься к отъезду. Я тебе из Москвы отпишу… Теперь благослови… я поеду.
– Поезжай, Натя… Бог да благословит тебя… Но ты там скажи им… приемлют они на себя суд по делам веры, и им – грех… тяжкий грех… Духовный суд судит по евангельскому обету – с любовью… а они режут языки, отсекают руки, сжигают во срубах… Чем, опосля того, мы лучше инквизиторов Гишпании?.. Наделают они бед, коли возьмутся да своим судом судить раскольников: начнутся пытки, пойдут в ход и плеть, и кнут, и секира, и сруб… Страшно и подумать, что будет… Из десятка безумных попов сделают они сотни тысяч раскольников; из искры раздуют пламя, и устоит ли тогда наша очищенная вера?., наше православие?.. Погибнет дело рук моих, да и я с царством погибнем, разве Богородица заступится за нас.
Он стал ходить в возбужденном состоянии по своей келье:
– Настанет, Натя, день, когда безумцы… раскольники… очнутся… поймут, кто прав, кто виноват. Теперь их призвали в Москву, чтобы низложить меня, и они низложат, – сила теперь на их стороне… Но того они не понимают в безумии своем, что с моим низложением они сами погибнут. Теперь Никон их жалеет как блудных детей, умоляет смириться и наказует по-духовному: постом, молитвою, лишением сана… а кровожадным боярам – это не на руку… И коли они-то, раскольники, меня сокрушают, их защитника, боярство заберет их тогда в свои лапы, жилы повытянет из их тела, кости размозжат, члены отсекать будут и, коли нечего будет более рвать на части, бросят в сруб и медленным огнем будут жечь – в угоду дьяволам, своим братьям… Повидайся там с протопопом Аввакумом и скажи ему мое последнее слово, вместе со словом любви и всепрощения.
Они облобызались, и инокиня, растроганная, вышла от патриарха.
«Нет, – подумал он, – нужно последнее средство употребить. Пущай она там дьячит[14]14
Ходатайствует (на тогдашнем языке).
[Закрыть]… и все же я ему напишу… напишу всю правду… Напишу так, чтобы камни размягчились… а коли и это не пособит, то тогда… тогда, Никон… отряси прах своих ног от сих мест и беги… беги туда, где вера еще не погибла, где еще бьется сердце человека… беги туда, где примут тебя с любовью и почетом. Сейчас напишу царю грамотку, и коли ответа не будет, значит, сам Господь Бог велит мне бежать от сих мест».
Сидит и пишет:
«Начинается наше письмо к тебе словами, без которых никто из нас не смеет писать к вам[15]15
Здесь впервые Никон пишет царю «вам». Письмо это буквально историческое.
[Закрыть]; эти слова: „Богом молю и челом бью”. Бога молю за вас по долгу и по заповеди блаженного Павла апостола, который повелел прежде всего молиться за царя. И словом и делом исполняем свои обязанности к твоему благородию, но щедрот твоих ничем умолить не можем. Не как святители, даже не как рабы, но как рабичища, отовсюду мы изобижены, отовсюду гонимы, отовсюду утесняемы. Видя святую церковь в гонении, послушав слова Божия: „аще гонят вы во граде, бегите во ин град”, – удалился я и водворился в пустыни, но и здесь не обрел покоя. Воистину сбылось ныне пророчество Иоанна Богослова о жене, которой родящееся чадо хотел пожрать змий и восхищенно было отроча на небо ж к Богу, а жена бежала в пустыню, и низложен был на земле змий великий, змий древний.
Богословы разумеют под женою церковь Божию, за которую страдаю теперь заповеди ради Божия… Волыни сея любве никто же имать, да аще кто душу положит за други своя: и мы, видя братию нашу биенными[16]16
Здесь намек на палочную расправу Хитрово с князем Вяземским.
[Закрыть], жаловались твоему благородию, но ничего не получили, кроме тщеты, укоризны и уничижения; тогда удалились мы в место пусто. Но злонамеренный змий нигде нас не оставляет в покое; теперь наветует на нас сосудом своим избранным, Романом Боборыкиным, без правды завладевшим церковною землею. Молим вашу кротость престать от гнева и оставить ярость. Откуда ты такое дерзновение[17]17
Начал святейший за здравие и кончил за упокой. Начинает он с этого места горячиться.
[Закрыть] принял сыскивать о нас и судить ны? Какие законы Божии велят обладать нами, Божиими рабами? Не довольно ли тебе судить в правде людей царства мира сего? В наказе твоем написано повеление, – взять крестьян Воскресенского монастыря, – по каким это уставам?.. Послушай, бога ради, что было древле за такую дерзость над Египтом, над Содомом, над Навуходоносором царем? Изгнан был богослов (апостол Иоанн) в Патмос; там благодати лучшей сподобился: благовестие (Евангелие) написать и Апокалипсис. Изгнан был Иоанн Златоуст, и опять на свой престол возвратился; изгнан митрополит Филипп, но паки стал против лица оскорбивших его[18]18
Здесь намекает он на перенесение святых мощей в Москву.
[Закрыть]. И что еще прибавить? Если этими напоминаниями не умилишься, то хотя бы и все Писание предложить тебе, не поверишь. Еще ли твоему благородию надобно, да бегу, отрясая прах ног своих к свидетельству в день Судный[19]19
В этом месте он упоминает о предстоящем своем побеге.
[Закрыть]?.. Великим государем больше не называюсь, а какое тебе прекословие творю? Всем архиерейским рука твоя обладает. Страшно молвится, но терпеть невозможно, какие слухи сюда доходят, что по твоему указу владык[20]20
Отец Павел, архимандрит Чудовский, в это время пожалован в митрополиты Крутицкие.
[Закрыть] посвящают, архимандритов, игумнов, попов ставят и в ставленных грамотах пишут, равночестна Святому Духу, так: «По благодати Святого Духа и по указу великого государя»… Недостаточно-де Святому Духу посвятить без твоего указа!.. Но кто на Святого Духа хулит, не имеет оставления. Если и это тебя не устрашало, то что устрашить может, когда уже недостоин сделался по своему дерзновению. К тому же повсюду, по святым митрополиям, епископиям, монастырям без всякого совета и благословения, насилием берешь нещадно вещи движимые и недвижимые, и все законы Святых Отцов и благочестивых царей, и великих князей, греческих и русских, ни во что обратил, также отца твоего, Михаила Федоровича, и собственные свои грамоты и уставы; уложенная книга хотя и по страсти написана[21]21
Здесь он явно восстает против жестокости наказаний уложения, о чем мы ниже увидим, что он протестует не только по делам веры, но и в других случаях.
[Закрыть], многонародного ради смущения, но и там поставлено: в Монастырском приказе от всех чинов сидеть архимандритам, игуменам, протопопам, священникам и честным старцам; но ты все упразднил: судят и насилуют[22]22
Здесь говорится о тяжелых порядках гражданского уголовного суда: правеже, пытках и казнях.
[Закрыть], и сего ради собрал ты на себя в день Судный велик собор вопиющих о неправдах твоих. Ты всем проповедуешь поститься, а теперь и неведомо, кто не постится ради скудости хлебной, – во многих местах и до смерти постятся, потому что есть нечего. Нет никого, кто бы был помилован: нищие, слепые, хромые, вдовы, чернецы и черницы, – все данями обложены тяжкими, везде плач и сокрушение, везде стенание и воздыхание… нет никого веселящегося во дни сии».
Написав это, он прошелся вновь по келье и, как бы что-то вспомнив, начал говорить сам с собою:
– Запамятовал было… Да… да… это было, кажись, января двенадцатого… Были мы у заутрени в церкви Святого Воскресения… По прочтении первой кафизмы сел я на место и немного вздремнул… Вдруг вижу себя в Москве, в соборной церкви Успения: полна церковь огня… стоят умершие архиереи… Петр-митрополит встал из гроба, подошел к престолу и положил руку свою на Евангелие. То же сделали все архиереи и я… И начал Петр говорить: «Брат Никон! Говори царю, зачем он святая церковь преобидел, – недвижимыми вещами, нами собранными, бесстрашно хотел завладеть? И не на пользу ему это… Скажи ему, да возвратит взятое, ибо мног гнев Божий навел на себя того ради: дважды мор[23]23
Здесь говорит он о море московском и о море во время второго похода на Ригу, когда умер Делагарди. Мор этот проник и к нам. Только санитарные меры Никона в обоих этих случаях спасли народ.
[Закрыть] был… сколько народа перемерло, и теперь не с кем ему стоять против врагов». Я отвечал: «Не послушает меня, хорошо, если бы кто-нибудь из вас ему явился». – «Судьбы Божии, – продолжал Петр, – не повелели этому быть. Скажи ему: если тебя не послушает, то, если б кто и из нас явился, и того не послушает… а вот знамение ему, смотри»… По движению руки его я обратился на запад к царскому двору и вижу: стены церковной нет, дворец весь виден, и огонь, который был в церкви, собрался, устремился на царский дворец, и тот запылал… «Если не уцеломудрится, приложатся больше первых казни Божии»… – «Вот, – прервал его какой-то старец, обращаясь ко мне, – теперь двор, который ты купил для церковников[24]24
Конфисковано было Воскресенское подворье.
[Закрыть], царь хочет взять и сделать в нем гостиный двор, мамоны ради своея. Но не порадуется о своем прибытке…»
– Да, так оно все было, – говорил Никон, садясь, и продолжал писать… – Все это я ему отписал. Но, пожалуй, он еще не поверит, а вот я и заключаю грамоту: «Все это было так, от Бога или мечтанием, – не знаю, но только так было; если же кто подумает человечески, что это я сам собою мыслил, то сожжет меня оный огонь, который я видел»… Сейчас отправлю это письмо с архимандритом… Посмотрим, коли и оно не поможет, то отрясу прах от ног моих в сих местах.
Он тотчас отправил это письмо в Москву.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?