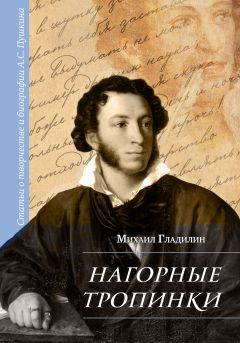
Автор книги: Михаил Гладилин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
«Он наготой своею посрамится»
Вернемся к самому началу пушкинской драмы, «московской беде», как ее первоначально предполагал назвать Пушкин.
Москва пуста; вослед за патриархом
К монастырю пошел и весь народ.
И чуть далее, в той же первой сцене:
Ни патриарх, ни думные бояре
Склонить его доселе не могли.
И уже во второй сцене, в самом начале «один» из народа говорит:
Неумолим! Он от себя прогнал
Святителей, бояр и патриарха.
Они пред ним напрасно пали ниц:
Его страшит сияние престола.
Такое внимание к патриарху с первых же строк не случайно. Это патриарх ведет «народ московский» к Борису Годунову «уговаривать» взойти на царский престол. Мы, читатели, уже знаем, каким правителем окажется Годунов и что произойдет с царством, царем и его подданными. И возникает вопрос, а знает ли патриарх об убийстве царевича Димитрия, что он думает, «святой отец», «святый владыка», о Борисе Годунове, о человеке, перед которым он и все святители «пали ниц». У Пушкина все самозванцы разоблачают себя сами тем, что они говорят и что делают, или тем, что не делают того, к чему призваны, кем себя наименовали.
Он именем царевича, как ризой
Украденной, бесстыдно облачился:
Но стоит лишь ее раздрать – и сам
Он наготой своею посрамится.
Эти слова патриарха применимы ко всем наряженным в чужие ризы. Патриарх разоблачает себя своим рассказом о чуде со слепым старцем. Сомнительность рассказанного патриархом чуда уже обнаруживается в том, что, по его словам, слепой старец является пастухом. Слепой пастух – метафора самая определенная, и она лишь указывает на самого патриарха как на «слепого пастыря». В его рассказе о слепом пастухе еще много неожиданного:
Напрасно я из кладязей святых
Кропил водой целебной темны очи;
Не посылал господь мне исцеленья.
Вот наконец утратил я надежду.
Только сохранивший надежду достоин, по христианской вере, чуда, но никак не потерявший ее. А если потерял, то обители уже не святы и вода в них не целебна и не чудотворна.
Иди, старик. – Проснулся я и думал:
Что ж? может быть, и в самом деле Бог
Мне позднее дарует исцеленье.
На прямой призыв «детского голоса» во сне – «иди» – реакция старика явно не доверительная и не благостная, он сомневается, и сомневается несколько карикатурно: вот проснулся, подумал, что называется, почесал в затылке – «что ж? может быть, и в самом деле Бог мне позднее дарует исцеленье». Другим важным разоблачительным словом, и нередким словом в пушкинской драме, является слово «гроб».
…я внуку
Сказал: Иван, веди меня на гроб
Царевича Димитрия. – И мальчик
Повел меня – и только перед гробом
Я тихую молитву сотворил,
Глаза мои прозрели; я увидел
И Божий свет, и внука, и могилку.
Молитва воздается святому, а не его гробу, и ни гроб, ни могилка не могут исцелить. Слепой старик и его внучок Иван, оба перед могилкой Димитрия, убиенного мальчика, – так о чем же старик и дед должен попросить убиенного мальчика: о своих глазах или… о судьбе своего внука? О чем надо подумать в старости: о «позднем исцелении», как говорит сам старик, или о будущем своего внука? И что же это за «детский голос», которого слушается «в глубоком сне» старик? Уже старик – а все еще слушается «детских голосов», уже дед – а о внуке не думает, глаза исцелил, но так и не прозрел, хотя патриарх называет его «маститым старцем». «Святый владыко» придумал эту историю с чудом прозрения слепого пастуха ради усиления своей церковной власти.
Притворствовать пред оглашенным светом
Нам иногда духовный долг велит.
Так учит pater Черниковский самозванца Димитрия, так поступает и патриарх. «Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли, все равно…». Патриарх тоже является в этой исторической драме самозванцем, и потому Пушкин лишает его подлинного человеческого имени, сделав патриарха лицом безымянным.
Уж эти мне грамотеи! что еще выдумал! Буду царем на Москве! Ах он, сосуд диавольский!.. Поймать, поймать врагоугодника, да и сослать в Соловецкий на вечное покаяние. Ведь это ересь, отец игумен.
Игумен
Ересь, святый владыко, сущая ересь.
К царскому «грабь и казни» прибавляется патриаршее «суди и ссылай». Но ведь и «грамотей» Годунов когда-то сказал: «Буду царем на Москве», – и стал им. И помог ему в этой «ереси» патриарх. Сам повинен в «ереси» и поэтому кого-то другого так рьяно клеймит; и обязательно заставить кого-то другого это подтвердить: «Ведь это ересь, отец игумен?». Откуда игумен узнает о самозванстве Григория и его желании «быть царем на Москве»? В Литве Отрепьев во время болезни «открывается» своему духовнику и называет себя Димитрием. То есть он уже в монастыре использует исповедь для своей «дезинформации». Но патриарх не решается говорить об этой новости царю, хотя на литовскую границу посланы заставы и приставы действуют по «царскому указу». Царь еще не знает о самозванце, а по его приказу ловят «еретика» Отрепьева – вот насколько распространилась власть патриарха на дела государевы.
«Народ безмолвствует…»
Вернемся ко второй сцене, где дьяк Щелкалов обращается к народу:
Собором положили
В последний раз отведать силу просьбы
Над скорбною правителя душой.
Заутра вновь святейший патриарх…
И как складно получилось, что именно на «последнюю просьбу» дал согласие Годунов. Опытный царедворец Шуйский приоткрывает нам «предвыборную технологию» Годунова и его окружения во главе с патриархом:
Чем кончится? Узнать не мудрено:
Народ еще повоет да поплачет,
Борис еще поморщится немного,
Что пьяница пред чаркою вина,
И наконец по милости своей
(именно «по милости своей» берет Годунов царский трон)
Принять венец смиренно согласится.
И в этом же разговоре с Воротынским Шуйский опять говорит:
Что ж?
Когда Борис хитрить не перестанет…
Давайте послушаем слова дьяка Щелкалова к народу. Какими теперь глазами увидим мы всю эту эпическую картину, зная наперед, кто это все устроил и для чего, и что свершится, какая общая беда придет после этих всенародных хождений:
Заутра вновь святейший патриарх,
В Кремле торжественно отпев молебен,
Предшествуем хоругвями святыми,
С иконами Владимирской, Донской,
Воздвижется, а с ним синклит, бояре,
Да сонм дворян, да выборные люди,
И весь народ московский православный –
Мы все пойдем молить царицу вновь,
Да сжалится над сирою Москвой
И на венец благословит Бориса.
Идите же вы с Богом по домам,
Молитеся – да взыдет к небесам
Усердная молитва православных.
Но есть человек, который возражает таким призывам, – юродивый Николка:
Нет, нет, нельзя молиться за царя Ирода –
Богородица не велит.
Также и отец Пимен в келье за всех раскаивается в подобном выборе.
Интересно, что эта сцена называется «Красная площадь», и дьяк Щелкалов призывно обращается к народу «с красного крыльца». Не знаю, какое красное крыльцо на Красной площади имел в виду Пушкин, такового нет сегодня на Красной площади, но оно есть на Соборной площади в Кремле. Думается, что Пушкин такой «ошибкой» привлекает наше внимание и усиливает контраст и сравнение с тем, что происходит и где это происходит. На Красной, то есть красивой площади, с красного, то есть красивого крыльца звучат обманные и лживые речи. Еще раз услышим самозванца, стоящего у границы:
Я ж вас веду на братьев; я Литву
Позвал на Русь, я в красную Москву
Кажу врагам заветную дорогу.
Ко всему прочему, самозванец попирает красоту, святыню русскую, «красную Москву» отдает на разграбление врагам.
Эту сцену на Красной площади Пушкин заканчивает ремаркой: «народ расходится». И эта ремарка перекликается с ремаркой в самом конце драмы:
Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь
Димитрий Иванович!
Н А Р О Д безмолвствует.
Из истории мы знаем, что на этот раз скажет народ. Но пушкинское «народ безмолвствует» существует и обращено также к нам и нашему будущему, к нашему читательскому сознанию. Эти сцены хождения народа с молебнами и иконами к Годунову должны вызывать у читателя, знающего страшные последствия смуты и интервенции, горькое чувство неправды и безумия. Как и эпизод в доме у Шуйского, когда мальчик читает для гостей верноподданническую молитву во славу Годунова, кровавого царя. И не эту ли молитву «сочинил» инок Григорий, находясь в Чудовом монастыре, и уж не этот ли «мальчишка», наученный льстить и лгать, отбирает копеечку у юродивого? В этой сцене, «Площадь перед собором в Москве», где появляется юродивый, заключено многое важное для пушкинской драмы. На обман и насилие самовластья зреет в народе справедливое несогласие и возмущение: «Вот ужо им будет, безбожникам». Готовится кровавый и беспощадный бунт. Здесь же рядом с «мальчишками» появляется «старуха»: то есть соединяется начало и невинность жизни с ее старостью и осознанием своей греховности. Просит старуха: «Помолись, Николка, за меня грешную». Но почему кто-то другой должен молиться за ее грехи? «Дай, дай, дай копеечку», – отвечает, троекратно усиливая слово «дай», блаженный Николка. Не от нужды он это делает, а чтобы обратить внимание бедной старухи на собственные силы, на странную зависимость ее греховности от уплаты или неуплаты денег. Старуха появилась на площади после церковной службы, где в церкви привычно отдает копеечки в надежде на облегчение от грехов своей души. И юродивый пародирует эти церковные нравы и обычаи. А вот Годунов, терзаемый душевными бедами и муками, признается в следующем:
…ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто… едина разве совесть.
Стал готовиться Николка к молитве, но мальчишки помешали, отобрали копеечку, так он ее и не закончит, а старуха, не дождавшись и не узнав, уйдет. Ей для ее спокойствия не совесть нужна и не сама реальная молитва, а только воображаемая, по правилам и по законам, и за плату исполненная. Но, может, для успокоения своей души подумала бы старуха, что нужно сделать, чтобы мальчишки, подражая взрослым, не грабили юродивого и не отбирали ее копеечку. И тогда из «старухи» она вновь могла бы обратиться в женщину. Юродивого Николку, не имеющего ни перед кем боязни, можно сравнить с образом Христа: он тот, кем бы мог быть Христос в эти дни и в этом царстве. Он появляется на площади в сопровождении слов:
Чу, шум, не царь ли?
Нет, это юродивый.
Юродивый сравнивается с царем, как Христос с «Царем Небесным». Его высокий железный колпак-шапка – как колокол: «эк она звонит». И он сам, как соборный колокол, возвещает на площади правду людям. Имя Николай означает «победа людей», и его колпак – это венец и корона народного победителя. «Нельзя молиться за царя Ирода» – эти слова обращают нас к евангельским событиям, которые сравниваются с событиями современными, показывают схожесть и повторяемость человеческих деяний и общественных бедствий.
Пушкинская историческая драма, подобно летописи, точно указывает на место и время действия: начало драмы – «Кремлевская палата. 1598 года, 20 февраля»; потом – «Ночь. Келья в Чудовом монастыре. 1603 года»; потом – «Граница Литовская, 1604 года, 16 октября». Время документально и неумолимо движется, и день смерти, день наказания или награды за земную жизнь приближается.
«За славу, за добро…»
Еще одно, последнее сказанье –
И летопись окончена моя,
Исполнен долг, завещанный от Бога
Мне, грешному.
Это слова старца Пимена, имя которого означает «пастырь». Вот кто искренний учитель и «правитель» людей, жизнь которого – не самозванство, а «долг, завещанный от Бога».
…Недаром многих лет
Свидетелем Господь меня поставил
И книжному искусству вразумил;
Когда-нибудь монах трудолюбивый
Найдет мой труд усердный, безымянный.
Труд человека продолжает жизнь человека на земле, потому что приносит нынешним и следующим поколениям «благость и праведность».
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро –
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.
Не поклоняться «гробам», а «ведать судьбу земли родной». Тогда есть имя, есть Родина, есть История, есть жизнь памяти и нет смерти забвения.
Но близок день, лампада догорает –
Еще одно, последнее сказанье…
Смерть понуждает к жизни и правде, к праведной жизни, и умирать надо ради правды жизни, а не жить ради лжи и смерти.
Подумай, сын, ты о царях великих.
Кто выше их? Никто. А что же? Часто
Златой венец тяжел им становился:
Они его меняли на клобук.
Царь Иоанн искал успокоенья
В подобии монашеских трудов.
………………………………….
………………………………….
И плакал он. А мы в слезах молились,
Да ниспошлет Господь любовь и мир
Его душе страдающей и бурной.
Образ Петра в поэме «Полтава»
Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.
Первое и важнейшее, на что мы укажем в изображении Петра, – его нерасторжимое единство с Россией, ее развитием и возрастанием. Двумя годами ранее в «Стансах» (1826), обращенных к новому императору – «во всем будь пращуру подобен», поэт уже указал на цели и значение петровских реформ:
Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
Поэтому победа полтавская принадлежит России и Петру, Петру и России, и никак иначе. Личность правителя, его судьба и «судьба народная» стали важнейшей темой драмы «Борис Годунов», но в ней Годунов и Лжедмитрий по честолюбию своему навлекают на Русь смуту и вражеское нашествие, действуя как самозванцы и разбойники. Поэма «Полтава» – о победившей России, о победившем царе Петре, о человеке по имени Петр. Это поэма о сражении, так как только в сражении можно одолеть противника и завоевать свое право двигаться вперед, и это поэма о заслуженной победе, принесшей России ее будущее. В предисловии, напечатанном в первом издании «Полтавы», Пушкин пишет: «Полтавская битва есть одно из самых важных и самых счастливых происшествий царствования Петра Великого. Она избавила его от опаснейшего врага; утвердила русское владычество на Юге; обеспечила новые заведения на Севере, и доказала государству успех и необходимость преобразования, совершаемого царем».
Тогда как противник Петра, шведский король Карл, «любовник бранной славы», принадлежит в поэме только своей славе, и потому «славе бесполезной». Мазепа называет Карла «воинственным бродягой», то есть человеком без родины и народа.
Каким же предстает в поэме Пушкина «гений Петра»? Прежде всего, он имеет человеческие достоинства: он вместе с родными казненных Искры и Кочубея «слезы проливает», он «славных пленников ласкает».
Но главное достоинство царя, человека и гражданина Петра проявляется в Полтавском сражении. Появление Петра автор сопровождает божественными эпитетами и божественным присутствием. Знаменательно, что Пушкин дважды называет Петра его именем, а не царским титулом. Не царь, но Петр вступает в сражение, и не царь, но Петр облечен божественным ореолом.
И бога браней благодатью
Наш каждый шаг запечатлен.
Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
«За дело, с богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь как Божия гроза.
Начинающееся сражение Пушкин уподобляет «делу», и дело это для Петра «божеское». Поэтому в изображении Петра появляются «иконописные черты»: «звучный глас», «лик», «глаза сияют», «он прекрасен». Но это несколько иная иконописность и иная святость, грозная и карающая: «лик его ужасен», «он весь как Божия гроза».
И он промчался пред полками,
Могущ и радостен, как бой.
Он поле пожирал очами.
И вновь автор берет неожиданную для характеристики Петра эмоцию: «могущ и радостен», будто тоже взятую с иконы святого на коне. Радость Петра во время боя можно сравнить с «гимном чуме» Вальсингама: «Есть упоение в бою…».
За ним вослед неслись толпой
Сии птенцы гнезда Петрова –
В пременах жребия земного,
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны.
Еще одним главнейшим достоинством награждается Петр: его окружение – это его «товарищи» и «сыны» в их общих «трудах державства и войны».
Написание Пушкиным поэмы о Петре Великом в 1828 году иногда связывают с необходимостью примирения поэта с новым царем и правительством, и поэма, казалось бы, была благожелательно принята наверху. Если брать данное обстоятельство во внимание, то можно увидеть, каким царем желал видеть Пушкин нового самодержца и какие отношения предлагал поэт императору, своему избавителю и личному цензору. Интересно, доходили ли эти предложения до адресата.
В поэме есть противник Петра, и обстановка в его лагере перед боем совсем иная:
Несомый верными слугами,
В качалке, бледен, недвижим,
Страдая раной, Карл явился.
Вожди героя шли за ним.
Он в думу тихо погрузился.
Здесь есть «верные слуги», «вожди героя», здесь есть «качалка»: слово, никак не соответствующее обстановке боя. Реальный факт – из-за раны Карл был вынужден находиться на носилках – переиначен Пушкиным в образ «раненого» самолюбием героя, укачиваемого славой и потому оказавшегося недвижимым и ослабевшим перед «самодержавным великаном»:
Смущенный взор изобразил
Необычайное волненье.
Казалось, Карла приводил
Желанный бой в недоуменье…
Вдруг слабым манием руки
На русских двинул он полки.
До начала боя «гордый» Карл сражение уже проиграл, так как его славолюбие было побеждено праведным делом Петра. После сражения Карлу и Мазепе остается только бегство, а Петру-победителю – начать пировать. В сцене пира добавляются новые демократические достоинства русского царя.
В шатре своем он угощает
Своих вождей, вождей чужих,
И славных пленников ласкает,
И за учителей своих
Заздравный кубок подымает.
Поэма состоит из двух относительно самостоятельных частей: романтической – это любовная история Мазепы и Марии, и исторической, связанной с военными и политическими реальностями Полтавского сражения. Но обе истории, романтическая и историческая, имеют при завершении поэмы свой единый знаменатель, свой общий итог и общую развязку. Карл, по своей гордости и своему честолюбию, проигрывает Полтавское сражение «победившим ученикам» и пускается в бегство. С ним бежит Мазепа, изменник московского царя и погубитель семьи своей возлюбленной. Уже после завершения поэмы Пушкин включил при бегстве Мазепы сцену его встречи с обезумевшей Марией. Эта сцена – развязка их любовной драмы.
Я принимала за другого
Тебя, старик. Оставь меня.
Твой взор насмешлив и ужасен.
Ты безобразен. Он прекрасен:
В его глазах блестит любовь,
В его речах такая нега!
Его усы белее снега,
А на твоих засохла кровь!
Но любовная развязка в конце поэмы соотносится с развязкой политической и военной, государственной и гражданской: кровавый изменник в политике Мазепа остается таким же изменником в любви, так как подлинный Мазепа – один.
И скачет с беглым королем,
И страшно взор его сверкает,
С родным прощаясь рубежом.
Бегство противников Петра превращено в символ их измены своей родной земле и народу, символ бегства от самих себя. Личные качества и поступки Карла, Мазепы, Марии, преследующих свои эгоистические цели и действующих вопреки общественной пользе и общественной правде, привели их к злонамеренным действиям. Они губят не только других людей, но и себя.
Финал исторической поэмы переносит время поэмы в будущее – «прошло сто лет», и это будущее окончательно утверждает историческую и человеческую истину: в жизни потомков эгоистические действия людей умирают и остаются в забвении, а действия и дела во благо людей живут и почитаются памятью потомков.
Прошло сто лет – и что ж осталось
От сильных, гордых сих мужей,
Столь полных волею страстей?
Их поколенье миновалось –
И с ним исчез кровавый след
Усилий, бедствий и побед.
В гражданстве северной державы,
В ее воинственной судьбе
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.
Повести покойного Ивана Петровича Белкина
Рассказ и разоблачение графа в повести «Выстрел»
Слушая рассказ графа о встрече с Сильвио, о «выстреле», можно заметить в его объяснениях некоторые противоречия или несоответствия. И одно из главных: граф говорит, что он «запер двери, не велел никому входить», но через какое-то время, когда он выстрелил, а Сильвио стал прицеливаться, «вдруг двери отворились, Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею». Слово «запереть» должно означать «закрыть на ключ». Именно такое значение этого слова существует в тексте романа «Дубровский»: «Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю – двери были заперты. Не нашед ключа, Владимир возвратился в залу». Таково оно и в повести «Пиковая дама», когда Германн проверяет, как графиня могла пройти в дом: «дверь в сени была заперта». Отметим, что в обоих случаях запертые двери имеют определенное значение для развития сюжета и для характеристики персонажа. Как и в данной повести. Заметим также, что в тексте у автора по отношению к этим дверям дважды встречается выражение «двери отворились», а это может означать, что две створки дверей распахнулись. В любом случае, какими бы ни были наши рассуждения, можно заключить: если графиня смогла «отворить» двери и вбежать в кабинет, несмотря на то, что граф их «запер» и «не велел никому входить», то это означает, что дверь не была окончательно «заперта» графом. Объяснив, таким образом, это противоречие, внимательней отнесемся к словам графа и к тому, как описывает события сам автор.
Рассказу графа предшествует общий разговор в кабинете. Композиционно он позволяет Пушкину сообщить некоторые сведения как о кабинете, так и о его хозяине. «Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить», – начинает рассказчик повествование. Но перед этим мы узнаем, что «богатое поместье» принадлежало «графине Б***», следовательно, не графу. Несколько странно, почему он, «богатой и знатной фамилии», проводит медовый месяц в поместье жены, а не у себя в доме? Может, за шесть лет службы он успел растерять свое состояние? Автор все же замечает, что кабинет был «графский». «Обширный кабинет был убран со всевозможной роскошью, – продолжает рассказчик, – около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст; над мраморным камином было широкое зеркало…». По всему видно, что кабинет «со всевозможной роскошью» граф сам устроил для себя. Обратим внимание на «широкое зеркало» над камином. «Я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет тридцати двух, прекрасный собою». Следуя своей внешности, своей знатности, своему честолюбию, граф убрал свой обширный кабинет наподобие приемной у министра. Вскоре гость увидел в кабинете простреленную картину и ответил графу, что он стреляет «изрядно», что «в тридцати шагах промаху в карту не дам, разумеется из знакомых пистолетов». «Право? – сказала графиня, с видом большой внимательности, – а ты, мой друг, попадешь ли в карту на тридцати шагах?». Графиня спрашивает мужа так, будто совсем не знает, какой он стрелок. Но простреленная картина как раз напоминает о выстреле графа пятилетней давности, очевидцем которого она была. Но она все равно спрашивает, чтобы поддержать их разговор. «Когда-нибудь, – отвечал граф, – мы попробуем. В свое время я стрелял не худо; но вот уже четыре года, как я не брал в руки пистолета». Пушкин сообщает, что на момент встречи с Сильвио граф действительно был неплохим стрелком, но он все же промахнулся с двенадцати шагов, вероятно, как подсказывает рассказчик, стреляя из чужого пистолета. Заметим, что супруги притворно и привычно, вполне невинно разыгрывают перед гостем этот светский разговор. Уже при появлении графа в кабинете нам указывают на умение графа по-светски играть какую-то роль: «Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным». Отметим и то, как и когда появляется графиня в кабинете мужа: «Я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня». Только гость освоился, как «вдруг вошла графиня». Укажем еще на несколько интересных деталей: графиня спрашивает гостя, как бы сомневаясь, произнося не очень употребительное для женщины слово «право». Это же слово называет граф, описывая состояние Сильвио: «в эту минуту он был, право, ужасен». Думается, что графиня переняла такое выражение от мужа. Мы еще можем обнаружить у Пушкина несколько примет, указывающих на сложившиеся отношения между супругами, на подчиненную роль жены перед мужем. Начиная свой рассказ, граф пододвинул гостю кресло, предлагая сесть, но не сделал этого для жены. Вначале граф и гость «сидели», потом гость встал, потом ему предложили сесть, а вот графиня, вошедшая в кабинет, так и осталась стоять. За все время своего рассказа, когда граф и гость сидели, стоящая рядом жена ни разу его не прервала и не сказала ни слова. Граф говорил от своего имени, от первого лица, и звучит несколько самолюбиво и неучтиво в присутствии жены начало его речи: «Пять лет тому назад я женился. – Первый месяц, the honey moon, провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний». Граф говорит о себе, не очень считаясь с присутствием жены. Услышав имя Сильвио, граф «вскричал, вскочив со своего места». Вид его стал «чрезвычайно расстроенным», и, должно быть, он хочет как-то объясниться и чем-то оправдаться, начиная рассказывать о происшедшем. И хотя графиня очень не желает, чтобы он это делал, – «ради бога, не рассказывай; мне страшно будет слушать», – но он не послушал ее. Из всего этого сделаем заключение, которое поможет и наведет нас на определенный вывод: граф в семейной жизни сохранил привычку первенствовать, не очень прислушивается к желаниям своей жены, поставив ее в определенную зависимость от себя.
«Однажды вечером, – говорит граф – ездили мы вместе верхом; лошадь у жены что-то заупрямилась; она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой, я поехал вперед». Все же возникают сомнения: вечером, летом, когда уже темнеет, в медовый месяц граф оставляет молодую жену одну добираться в дом. «Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой; он стоял здесь у камина». Еще один сомнительный факт: в темноте вряд ли можно разглядеть, что человек запылен. Запыленного Сильвио граф должен был видеть в светлое время дня. Да и Сильвио неудобно было приезжать в усадьбу поздним вечером. Обратим внимание, что граф точно указывает: «он стоял здесь у камина». Оба разговаривающих сидели в креслах, и, видимо, эти кресла стояли тоже где-то «здесь у камина», над которым располагалось «широкое зеркало». «Пистолет у него торчал из бокового кармана», – продолжал граф. Опять странная деталь: держать пистолет в кармане. И как же могли впустить в дом и оставить в кабинете человека, не пожелавшего «объявить своего имени», запыленного, с бородой и с пистолетом в кармане, очень напоминающего разбойника? «Я отмерил двенадцать шагов и стал там в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась». Граф встал «там в углу» – и, значит, где-то в стороне от камина и, может быть, ближе к двери. Он почему-то предупредил Сильвио, что жена может возвратиться. «Он медлил – он спросил огня. Подали свечи. Я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить». Если происшедшее событие состоялось вечером и Сильвио медлил (хотя «медлить» выгодно было графу, так как «жена может возвратиться») и просил подать огня, то он же мог просить запереть двери, чтобы никто не мог помешать. И граф только делает вид, что он закрыл двери. «Он вынул пистолет и прицелился… Я считал секунды… я думал о ней… Ужасная прошла минута». Единственная надежда графа – появление жены: «я думал о ней». Именно так надо понимать их значение, и жена вскоре действительно оказалась в кабинете и помогла мужу. «Сильвио опустил руку. “Жалею, – сказал он, – что пистолет заряжен не черешневыми косточками… пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство: я не привык целить в безоружного. Начнем сызнова, кинем жребий, кому стрелять первому…”. Наконец мы зарядили еще пистолет». Откуда взялся этот второй пистолет, Пушкин не сообщает, но если «мы зарядили еще пистолет», значит, и первый пистолет тоже «мы зарядили». Рассказчик сообщает, что единственной роскошью для Сильвио были его пистолеты, и когда он с ним прощался, провожая в Москву на встречу с графом, то «он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками». С этим-то чемоданом и пистолетами и должен был приехать Сильвио к графу. «Не понимаю, что со мною было и каким образом мог он меня к тому принудить… но – я выстрелил и попал вот в эту картину. (Граф указывал пальцем на простреленную картину…)» – здесь автор приостанавливает рассказ графа и обращает в этот момент наше внимание на супругов – «лицо его горело как огонь; графиня была бледнее своего платка: я не мог воздержаться от восклицания». Лицо графа сильно «горело» – это краска стыда, вызванного тем, что он выстрелил, и тем, что он солгал. Если граф, как он сказал ранее, стрелял «не худо», то почему он промахнулся с двенадцати шагов? «Я выстрелил, – продолжал граф, – и, слава богу, дал промах…». То есть граф все же целился в Сильвио, но промахнулся, так как стрелял не из своего, не из знакомого ему пистолета, а из пистолета Сильвио. Краска стыда на лице графа и графини («была бледнее своего платка») вызвана и той ложью, теми обстоятельствами, которые случились далее. «Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отворились. Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею». Почему Маша смогла вбежать в комнату именно тогда, когда Сильвио вновь стал прицеливаться? Подозрительное свойство появляться «вдруг», и у Пушкина оно не случайное. При начале разговора гостя с графом «вдруг вошла графиня», и теперь: «Вдруг двери отворились, Маша вбегает…». Как же она могла вдруг и вовремя вбежать в кабинет? Укажем еще раз, что в кабинете над камином было «широкое зеркало», и Сильвио стоял «где-то здесь», то есть недалеко от камина и зеркала. А двери раскрывались, то есть состояли из двух створок. В такие двери, чуть их приоткрыв, можно было наблюдать незаметно и видеть в отраженном зеркале, кто находится в кабинете и что он делает. Так устроил свой кабинет граф, ожидая Сильвио, и таким способом следила графиня, что делается в кабинете. Если она «вбегает», значит, она торопится. Если она не знает, что происходит в кабинете, и реагирует только на прозвучавший выстрел, то подбежать к кабинету по времени она не успевает. Она очень вовремя вбегает, и что же она делает: ничего не спрашивает, ничем не удивлена, а только «с визгом кидается мне на шею». Это действие, которое должно защитить мужа, и оно указывает, что графиня знает, что происходит в кабинете. Ее «визг» – от собственного нервного переживания, и она знала, что происходит в комнате и что грозит мужу. Она вбежала уже после выстрела мужа, когда Сильвио снова стал прицеливаться. «Ее присутствие возвратило мне всю бодрость», – продолжает граф. Примечательные слова произносит Сильвио при встрече с графом: «Я приехал разрядить мой пистолет; готов ли ты?». И граф сумел подготовиться к этой встрече. Сильвио, по сообщению своего «поверенного по делам», отправляясь к графу, говорит: «Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой». Должно быть, Сильвио все рассчитал и желал появиться у графа в Москве «перед свадьбой». Но события произошли в поместье графини уже в «медовый месяц», на несколько недель позже. Очевидно, что у графа тоже был свой «поверенный по делам», и он узнает о намерении Сильвио и подготавливается к встрече: уезжает в имение жены, устраивает обширный кабинет с зеркалом, куда приводят всех его гостей. Можно предположить, что Сильвио приезжает в усадьбу после женитьбы, в светлое время дня и с чемоданом, в котором пистолеты, проходит в кабинет. Граф через дверь и зеркало убеждается, что это «запыленный» Сильвио «сидит в кабинете», и вместе с женой уезжает верхом. Он оставляет супругу одну на прогулке, чтобы она вскоре смогла вернуться в дом. Интересно, мог ли граф признаться жене и просить ее «вдруг» оказаться в его кабинете? Граф входит в кабинет, видит уже «стоящего» Сильвио у камина, то есть тот уже продолжительное время его ждет, и разыгрывает неожиданность их встречи. Они стали готовиться, заряжая пистолет; граф медлит, посылая за свечами, говоря, что может появиться жена, и тем самым предсказывая ее появление в кабинете, на что Сильвио должен был просить запереть двери. И здесь, ожидая выстрела, граф действительно «думал о ней», и действительно для него «ужасная прошла минута». После того как они «зарядили еще пистолет», Маша смогла оказаться возле кабинета и в приоткрытую дверь увидела Сильвио. Видела ли она мужа, который прицеливался и стрелял в Сильвио, и понимала ли, что происходит в кабинете? Должна была видеть и должна была понимать. И поразительно то, что она ожидала выстрела мужа, а когда очередь пришла целиться Сильвио, она вбежала в кабинет.









































