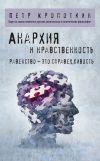Текст книги "Взаимоотношение свободы и общественной солидарности"

Автор книги: Михаил Ковалевский
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
М.М. Ковалевский[1]1
Ковалевский Михаил Максимович (1851–1916) – русский историк, юрист, социолог, этнограф, академик Петербургской академии наук (1914). Окончил юридический факультет Харьковского университета (1872), дальнейшее образование получил в Берлине, Вене, Париже, Лондоне. С 1880 г. профессор Московского университета, читал лекции по конституционному праву, истории древнего уголовного права, истории сословий на Западе и в России, сравнительной истории семьи и собственности. В 1887 г. был уволен из университета за «отрицательное» отношение к русскому государственному строю. Выехал за границу, где завязал научные и дружеские связи с выдающимися людьми того времени. По праву считался главой либеральной эмиграции. В 1905 г. вернулся в Россию, принял активное участие в политической жизни страны, был избран в I Государственную думу, вошел в состав Государственного совета от академической курии (1907), пытался основать особую партию «демократических реформ». С 1909 г. стал собственником и редактором журнала «Вестник Европы». В 1909–1916 гг. был профессором Петербургского университета.
[Закрыть]
Взаимоотношение свободы и общественной солидарности
1909 г.
Если бы люди понимали, что они живут не одной своей жизнью, а жизнью всех, то они знали бы, что, делая добро другим, они делают его себе.
(Лев Толстой. О жизни и смерти. Друкарь, Москва, 1910 г., с. 3)
I
Мы все еще живем традициями. Утверждение тех историков, которые полагают, что человеческое развитие представляет собой непрерывную цепь, не отвечая в строгом смысле слова фактам, отражает на себе наше сознание. Прислушайтесь к тому, что говорится с публичной трибуны и что на все лады повторяют журналы и газеты, брошюры и толстые книги. Свобода и равноправие и, в противовес им, опека и неравенство в обязанностях, а соответственно и в правах, владычество закона или правовой порядок, с одной стороны, спасение народа – высший закон, с другой, – да разве все это не понятие и нередко формулы, одинаково хорошо известные и Древней Греции и Древнему Риму? Ведь справедливость для Платона была немыслима без равенства и не только формального, но и материального; его «диkiа» отвечает многим из тех требований, которые ставят современные общественные реформаторы. О том, что афинская гражданственность стремилась к изополитии, известно любому школьнику, а что то же тяготение существовало в Риме и нашло позднее удовлетворение себе в реформе Каракаллы, уничтожившего всякие средостения между людьми свободными, признается всяким, кто сколько-нибудь занимался историей. Когда с трибуны Государственной думы г. Столыпин говорит, что законы должны молчать, раз того требует интерес государства, он сознательно или бессознательно, подобно Робеспьеру, повторяет сложившуюся еще в Древнем Риме поговорку.
Не все дошедшее до нас от древности по тому самому должно считаться кладезем народной мудрости; наряду с истинами уцелели и предрассудки или, точнее, предубеждения. К числу таких необходимо отнести представление о том, что свобода и равенство находятся между собой в необходимом, органическом противоречии. Я не берусь сказать, как возникло впервые такое представление. Мне легче ответить на вопрос, какими данными оно поддерживалось и поддерживается до наших дней. Деспотии Востока могли первые породить мысль о том, что равенство возможно в бесправии, а следовательно, и при отсутствии свобод. Несомненно, однако, что и на Востоке были и продолжают держаться не только сословные, но и кастовые средостения. Не более спорен и тот факт, что покоренные племена обращались здесь в рабство и что те из них, которым дозволено было сохранить некоторую автономию, все же не уравниваемы были в правах с членами господствующей национальности. Но все это, по-видимому, забывают те, чье внимание приковано к одному бесправию подданного перед властителем. Восточный деспот располагал жизнью и смертью всех ему подвластных; неограниченность его произвола, говорящая только об отсутствии свободы, истолковываема была в смысле равенства в бесправии; таким образом возникло ложное представление о том, что свобода в деспотиях уживается с отсутствием каких бы то ни было наследственных привилегий и преимуществ. В действительности же мы встречаем в деспотиях очень резкие сословные и даже кастовые неравенства при полном отсутствии свободы.
Более убедительным могло показаться противоположение друг другу государств эллинского мира, из которых одни, с аристократическим устройством, сохранили республиканские порядки, а другие, с демократическим, – подпали под владычество тиранов и олигархов. Особенно резко разошлись в этом отношении судьбы Спарты и Афин. Афинская демократия, как известно, продержалась недолго, каких-нибудь сто лет, если считать начальным ее периодом реформу Клисфена, а концом – установление правительства тридцати тиранов. Наоборот, аристократическая Спарта, с ее смешанным образом правления, оказалась жизнеспособной в течение ряда столетий. Немудрено, если и до Ксенофонта, и после него считали возможным ставить спартанские порядки в образец всем тем, кто желал придать республике устойчивый характер; немудрено, если этим сознанием не раз проникались политические реформаторы и если оно лежит в основе учения древних о смешанных формах политического устройства как наилучших, учения, одинаково присущего Аристотелю, Цицерону и Полибшо. Последние два писателя подкрепляли его примером не одной Спарты, но и республиканского Рима, в котором, при неравенстве в правах патрициев и плебеев, граждан и союзников, свободных рабов, в течение столетий сохранилась смешанная форма политики. Современник ее падения, благодаря росту власти императора, Тацит, признавая эти исчезавшие порядки наилучшими из всех существующих, в то же время сомневался в их прочности и продолжительности. Наступали времена единовластия, при котором прирожденные неравенства не спасали народа от произвола, а следовательно, и отсутствия свободы. Наступали времена, когда дальнейшее развитие всесословности, при неограниченности императорской власти, стало поддерживать, в свою очередь, фальшивое представление о том, что равенство непримиримо со свободой. На самом деле факты, на которых опирались эти чересчур поспешные обобщения, нимало не оправдывали того предположения, что с ростом равенства гибнет свобода, и наоборот. Римляне, разумеется, были не менее свободны к концу Пунических войн, чем в эпоху отхода плебеев на Священную гору; а между тем какая бездна отделяет эти две эпохи, если иметь в виду политическое бесправие плебеев в эпоху, предшествовавшую Гракхам. Не все средостения пали с империей; когда провинциалы впервые при Каракалле уравнены были в правах с квиритами, не этот факт вызвал упразднение свободы, так как она была потеряна значительно ранее.
Средневековая политическая мысль питалась мудростью древних. Плутарх, Цицерон и Полибий в первый период схоластики были такими же авторитетами, какими с XIII века стала вновь открытая «Политика» Аристотеля, а с эпохи Возрождения – трактаты Платона «о республике» и «законах». Немудрено поэтому, если и учение о том, что основанная на неравенстве в правах смешанная форма политического устройства всего более благоприятная сохранению свободы, одинаково встречается у тех писателей, для которых высшим учителем политической мудрости был Цицерон и Полибий, и у тех, которые, подобно Фоме Аквинскому, заменяли обоих Аристотелем и пытались распространить его учение о преимуществах смешанного устройства на сословные представительные монархии, в частности на Священную Римскую империю. У Фортескью и Коммина в XV веке, как и у Макиавелли и Бодэна в следующее за тем столетие, мы равно находим отголосок тех взглядов, какие в древности высказывались по поводу Спарты и Рима как типов смешанного политического устройства. Английские и французские писатели одинаково опирались при защите, один – парламента, другой – генеральных и провинциальных штатов, на уподобление отстаиваемого ими строя сословной представительной монархии с аристократическими республиками древности, несравненно более жизнеспособными, утверждали они, чем едва продержавшееся одно столетие «владычество черни» или охлократия в Афинах. Стремление к равенству казалось поэтому исключающим возможность свободы.
И когда к прежним фактам присоединился новый – падение Флорентийской республики благодаря тирании Медичей и, наоборот, упрочение свободных порядков в аристократической Венеции, или республик Св. Марка, доктрина, приписывавшая уравнительным стремлениям разлагающий характер по отношению к свободному государству, приобрела для себя новую пищу. Политические реформаторы Флоренции, как показывает пример Джанотти, стали проникаться желанием содействовать возрождению свободы копированием венецианских порядков. Одновременно сами венецианцы, начиная с Кантарини и Парутта и оканчивая Сарпи, на все лады распространяли тот взгляд, что республика Св. Марка со своим смешанным устройством, напоминающим одинаково Спарту и республиканский Рим, может служить новым доказательством тому, что свобода легче уживается с неравенством, чем наоборот.
Столетие спустя, когда, по свидетельству Гоббса, впервые зародилась в среде английских политиков ненавистная ему мысль о разделении властей и политических противовесах как условиях, благоприятных свободе, к числу фактов, долженствовавших содействовать упрочению доктрины об антагонизме последней с равенством, присоединен был еще один – исчезновение сословных представительных учреждении на континенте Европы, и в частности во Франции, благодаря уравнительной политике континентальных самодержцев, и сохранение свободных учреждений в Англии бок о бок с господством аристократии и сословного неравенства. Один из родоначальников этого нового учения, Альджерион Сидней, прямо говорит об Англии как с порядками римской республики, а Джон Локк, ранее Монтескье построивший доктрину разделения властей с оговоркой, что законодательная имеет перевес над исполнительной, ранее же Монтескье пишет рассуждение о судьбах Рима и ставит их в связи сперва с наличностью, а затем с потерей свойственной ему системы распределения государственных функций между сановниками, сенатом и народными комициями. Зародившееся еще в Англии учение о связи свободы с сохранением сословных средостении и политических привилегий дворянства получает мировое признание благодаря включению его Монтескье в число тех законов или «необходимых отношений, вытекающих из самой природы вещей», раскрытию которых должна была служить его книга. Автор «Духа законов», поставившего впервые в образец всем народам, ищущим свободы, политические порядки Англии, в то же время издает трактат «О величии и падении Рима», в котором красной нитью проходит его любимая мысль о связи свободы с разделением властей и смешанным порядком политического устройства. Эти смешанные порядки, по его мнению, общи были одно время всем тем народам, которые призваны были к жизни германскими нашествиями. Свобода зародилась в лесах Германии, говорит он, и на расстоянии более ста лет ту же мысль повторяет за ним английский историк Фриман, связывающий существование этой свободы с наличностью у германцев в первые периоды их жизни смешанной формы политического устройства – короля, совета и народного собрания. Они кажутся ему зародышами трех составных частой английского парламента – короля, лордов и общин. Признавая за сто с лишним лет до Фримана готическую «монархию» порождением первобытной свободы германцев, Монтескье полагал, что всюду на континенте она упала под ударами уравнительной политики абсолютных правителей.
Сохранилась же она и процвела только в Англии, да еще в немногих странах, им прямо не названных, но в которых легко признать Швецию, Венгрию и Польшу с их уцелевшими сеймами, составленными из сословных представительных палат. Для Монтескье Англия – одновременно и смешанная монархия, постигшая ту истину, что дворянство, как представляющее меньшинство народа, необходимо бы исчезло под ударами уравнительной политики, если бы ему не обеспечена была привилегия служить тормозом по отношению к мерам, принимаемым народными представителями. Отсюда необходимость разделять законодательные функции между палатой общин и палатой лордов; иначе нивелирующая политика монархов, образец которой представили короли Франции, упразднившие штаты и грозящие дальнейшему существованию политических прав высших судебных палат, сотрет с лица земли существование в Англии и сословного неравенства, и тесно связанной с ним политической свободы.
Французская революция воспринимает далеко не в чистом виде доктрину Монтескье. Она отбрасывает все сказанное им о связи разделения властей с политическими привилегиями сословий и строит здание нового государства на почве народного суверенитета. Демократическая монархия, созданная Конституцией 1791 года, вскоре оказывается неустойчивой. Она уступает место уравнительной республике, которая, при главенстве «Комитета общественного спасения», в свою очередь руководимого якобинским клубом, постепенно вырождается в тиранию. Таким образом, людям, пережившим тот ряд событий, который открылся переворотом 10 августа, положившим конец монархии, и далеко не закончился 9-м термидора и наступившим затем белым террором, вполне обоснованным могло показаться утверждение, что оба начала – свободы и равенства – противоречат друг другу.
Одним из первых истолкователей такого учения надо считать Бежамэна Констана, а наиболее полным выразителем его в применении к судьбам французской революции явился не кто иной, как Редерер, одно время выдающийся ее деятель, а впоследствии сотрудник Наполеона Бонапарта при создании им консульства и империи.
Вот приблизительно тот путь, каким шло развитие доктрины, слабый отголосок, которой можно найти и у авторов «Вех». Они не задаются мыслью о ее обосновании, считая излишним всякую аргументацию, когда дело идет о таком труизме. Но труизм ли это? Мы старались показать, что нет. Из всего нами сказанного с очевидностью вытекает то положение, что отсутствие свободы совпадало с неравенством и что исчезновение последнего не только не унимало ее, а, наоборот, пошло с нею рядом. Восточные деспотии построены были на неравенстве, как на неравенстве держалось владычество эвпатридов и патрициев. Нивелирующая политика, императоров ли древности или средневековых королей, имела в виду упразднение сословий. Неравенство исчезло одновременно с упрочением свободы: в 1789 году – благодаря декретам Учредительного собрания, предшествуемым освободительными указами Людовика XVI, в числе других эдиктом о веротерпимости, в наполеоновскую эру – под влиянием насильственного распространения в большей половине Западной Европы, под именем наполеоновских идей, начал гражданского кодекса, подготовленного деятелями революции и «декларации прав человека и гражданина», восходящей к той же эпохе. Революции 1830 и 1848 годов, с отражением и на островах Великобритании, содействовали упрочению в одинаковой степени начал свободы и равенства. Так называемые французами необходимые вольности, т. е. публичные права граждан, не подверглись, следовательно, ограничению по мере умаления избирательного ценза и увеличения как функций представительных палат, так и их независимости по отношению к власти.
Я сказал, что тот же процесс параллельного развития свободы и равенства известен и Англии. В подтверждение этой мысли мне остается сослаться на то, что акт эмансипации католиков в 1829 году только тремя годами предшествовал избирательной реформе 1832 года и демократизации местного управления законом 1835 года. Весь последующий ход развития и избирательного права, я разумею реформы 1867 и 1884 годов, и местного управления в графствах и городах, в смысле все большего и большего расширения круга лиц, призываемых к участию как в общем управлении государства, так и в местном, нимало не сопровождался в Англии ограничением свободы личного самоопределения, а, наоборот, совпал с отменой последних законодательных ограничений, связывавших эту свободу.
Если во второй половине прошлого столетия изредка еще слышался перезвон старинного напева об антагонизме равенства со свободой, то, по-видимому, главным образом в связи с тем фактом, что всеобщее голосование не помешало упрочению во Франции Второй империи, неблагоприятно относившейся к автономии личности, свободе ее физических, а тем более нравственных проявлении. Но всеобщее голосование, восстановленное Наполеоном III, само же подготовило сперва реформу империи на либеральных началах, а со времени франко-прусской войны и замену ее республикой. Таким образом, уравнительное движение на некотором расстоянии оказалось естественным союзником свободы.
Новейшая русская действительность не идет наперекор этой истине: стоит только напомнить, что сокращение размера недавно дарованных нам вольностей следует за контрреформой нашего представительства на началах указа 3 июня 1907 года.
Итак, ни в древней, ни в новой истории нельзя найти оснований для утверждения, что развитие свободы шло в ущерб равенству, а равенства – в ущерб свободе. Этому предубеждению пора положить конец. Вот почему меня немало поразили в «Вехах» фразы вроде следующей: «Тирания общественности искалечила личность». Не менее приведен я был в смущение высказанной авторами «Вех» надеждой, что «тирания гражданственности сломлена ныне, после неуспеха освободительного движения, надолго» и что «в русском человеке мораль альтруизма и общественности растает». Целый ряд других столь же туманных фраз прикрывают собой в «Вехах» какое-то смутное представление о том, что за служением обществу теряется из виду неоцененное благо, каким несомненно является свобода личного самоопределения.
II
В противность еще, по-видимому, модному у нас учению о противоречии равенства и свободы западноевропейская мысль, идет ли она по руслу развития индивидуализма или примыкает ко все более и более развивающемуся потоку социалистического движения, признает почти аксиомой, что прогресс личности немыслим без прогресса общественности и что, в частности, эмансипация индивида связана с развитием опирающейся на равенство солидарности. Эта солидарность, как показали одновременно: в Германии – Зиммель, а во Франции – Дюркгейм, подчеркивая более резко мысли, давно проникшие в сознание социологов положительной школы, сводится к тому, что в обществах первобытных, не знающих разделения труда, группы людей составлены из единиц, однородных и связанных между собой весьма тесно, тогда как самые группы чужды и враждебны друг другу. Прогресс общественности сказывается в том, что тесный круг переходит в более широкий, включающий в себя несколько прежде обособленных общественных единиц. Этот процесс происходит параллельно и в зависимости от другого. Первоначальная однохарактерная по своему составу группа все более и более дифференцируется благодаря разделению труда. Общественная солидарность начинает опираться на новом начале – распределении функций, создающем большую зависимость между лицами, отправляющими каждый только одну из этих функций. Эти мысли, еще крайне отвлеченно изложенные Зиммелем в его небольшой монографии «Soziale Dilferenzierung», несравненно выпуклее выступают в сочинении Дюркгейма «О разделении труда». Отправляясь от той мысли, что солидарность – феномен нравственного порядка, не допускающий поэтому ни прямого наблюдения, ни тем более арифметического подсчета, Дюркгейм полагает, что при решении вопроса о том, в какой степени отдельные человеческие общества проводят это начало, необходимо поставить вместо внутреннего факта солидарности, ускользающего от нашего наблюдения, внешний его символ – право. В эпоху разобщенных и обыкновенно враждебных между собой мелких групп, связанных представлением о действительном или мнимом родстве их членов, сила общественного сознания, говорит Дюркгейм, сказывается одинаково и в умственном единении, и в имущественном, а также в строго репрессивном характере тех карательных норм, которые рассчитаны на удержание от действий, противных солидарности. По мере того как общественное сознание становится менее интенсивным, исчезают указанные особенности архаических обществ. Что же в этом случае служит им заменой? Что продолжает связывать между собой членов все растущей в своем объеме общественной среды, которой ранее был род, теперь племя и союз племен – народ государства? Дюркгейм отвечает: разделение труда. Так как, пишет он, механическая солидарность слабеет со временем, то произойдет одно из двух: или последует упадок общественной жизни, или новая солидарность займет место прежней. Этот последний исход в действительности и имеет место благодаря тому, что разделение труда становится той связью, какая объединяет собой членов социального агрегата высшего типа. Историческим законом надо считать, по мнению Дюркгейма, тот, в силу которого механическая солидарность первоначальных, разобщенных групп заменяется органической.
С переменой в характере солидарности изменяется и сама общественная структура. Двум различным типам солидарности отвечают и два различных социальных уклада. При отсутствии или слабом развитии разделения труда численно небольшая группа представляет собой однородную массу. Дюркгейм выбирает для нее название орды. Группа, которую он имеет в виду, отвечает, однако, несравненно более понятию «стада», чем тому историческому явлению, каким были татарские орды. В доказательство существования таких недифференцированных сообществ Дюркгейм ссылается на быт американских краснокожих и негритосов Новой Голландии. Помимо различий, порождаемых возрастом и полом, индивиды, входящие в состав названных народностей, не знают между собой никаких иных. Руководительство их группами принадлежит старейшинам или советам старейший, причем решающим обстоятельством при выборе тех и других лиц является один возраст. Ни переход от материнства к отечеству, ни обособление правительственных функций не изменяют характера связывающей членов группы солидарности: она остается по-прежнему механической; она остается ею даже тогда, когда власть начальников становится неограниченной. Ее отличительный признак тот, что отношения как власти к подданным, так и подданных между собой, не основаны на принципе взаимности, предполагающем существование договора или соглашения.
Не в личных, а в общественных условиях лежит, по мнению Дюркгейма, ключ к пониманию причин, по которым разделение труда прогрессирует с течением времени. Этот прогресс идет рука об руку с упадком общественных структур, построенных на начале механической солидарности, ведет к разделению труда, потому что между членами, составляющими их, происходит более интимное сближение. Разделение труда, пишет Дюркгейм, прогрессирует по мере того, как растет численный состав самой группы. Решающим обстоятельством является в данном случае сгущение населения, сделавшее возможным активный обмен услуг между членами группы, и происходящее отсюда сближение их. Свою мысль автор доказывает ссылкой на общеизвестный факт, что первобытные общества живут рассеянно, тогда как в культурных происходит концентрация жителей. Та же концентрация, как последствие большего разделения труда, выступает при сравнении города с селом. Но если общество, сгущаясь, тем самым вызывает разделение труда, то, в свою очередь, это разделение увеличивает сплочение общества. Причина, по которой разделение труда в более численных обществах развивается быстрее, лежит в том, что борьба за существование в них более интенсивна. Но если индивиды, живущие бок о бок, принадлежат к различным родам и видам, они менее стесняют друг друга, так как находят различный источник для поддержания своей жизни. Этот закон установлен был Дарвином по отношению к животному царству; люди, говорит Дюркгейм, одинаково подчиняются его действию. В одном и том же городе разные профессии могут существовать рядом, не причиняя вреда друг другу, но чем ближе сходятся функции двух профессий, чем больше между ними общего, тем вероятнее становится их столкновение и соперничество. Понятно, что при таких условиях рост населения, сопровождающийся большей его густотой, необходимо вызывает дальнейшее разделение труда. Но не одной густотой населения обусловливается все большая и большая специализация общественных функций. Дюркгейм указывает и на другие причины. С упадком общественного сознания, поддерживавшего единство в обществе, построенном на механической солидарности, разделении труда становится источником новой. Можно поэтому видеть в упадке общественного сознания причину, благоприятную разделению труда.
В тесной связи с только что намеченной, разумеется, в самых общих чертах доктриной стоит недавняя попытка Дюги показать, что нет коллективного интереса, противоположного индивидуальному. Социализация, рассуждает он, возрастает в прямом отношении к разделению труда. Разделение же труда развивается в полном соответствии с его индивидуализацией. Отсюда следует, по мнению Дюги, что социализация и индивидуализация не исключают друг друга. Противоположение индивидуального коллективному не отвечает действительности, пишет он на странице 81 своей книги «Государство, объективное право и положительный закон». Человек не может сохранить своего существования вне солидарности с себе подобными: только при ней он способен уменьшить сумму своих страданий. Всякий акт индивидуальной воли, клонящийся к реализации общественной солидарности, должен необходимо вызвать к себе уважение, т. е. признание. Первое правило поведения – это уважать всякий акт индивидуальной воли, преследующий реализацию общественной солидарности. Смутно это правило уже проводится на низших ступенях общественности. Но из этого первого правила вытекает и второе, оно гласит, что никто не должен совершать действий, преследующих цели, не отвечающие общественной солидарности или противные ей. Остановилось ли на этом развитие человеческого сознания, спрашивает себя Дюги, или в это сознание проникло и третье правило-обязательности для каждого таких действий, которые бы отвечали общественной солидарности? Дюги дает утвердительный ответ. Рано или поздно, пишет он, люди приходят к убеждению, что обязаны содействовать реализации общественной солидарности. К этому и сводится требование права. Такой запрос обращен ко всем людям. Но так как их способности различны, то это третье правило поведения предъявляет требование разумных действий, направленных к упрочению солидарности, сообразно способностям каждого. Содействовать разделению труда, как необходимому элементу общественной солидарности, равно значительно на деле затрат личных дарований так, чтобы сделался возможным обмен услугами. Ведь от такого обмена и происходит солидарность. Каждый служит обществу, кооперируя с другими по мере своих личных возможностей. Правило поведения, вытекающее из сознания солидарности и которое для Дюги составляет норму права, одинаково обязательно и для властвующих, и для подвластных; им подчиняются как правительство, так и подданные. Отсюда следует, что правительство может пользоваться силой, поставленной в его распоряжение, только в интересах общественной солидарности. Нормы поведения, обязательные в равной мере для властных и подвластных, не отличаются косностью: они и постоянны, и изменчивы, постоянны в том смысле, что их содержанием всегда является требование кооперировать с другими в интересах общественной солидарности; изменчивы же потому, что сама эта солидарность проявляется в разных формах. В прошлом она вылилась сперва в форму орды, позднее – рода, еще позднее – города-государства, а в наши дни она выступает в форме народа-государства. Будущее может поставить нас лицом к лицу с новыми типами общежития. Но всем им одинаково было и будет присуще требование солидарности и отвечающего ей поведения, а следовательно, и права, как обнимающего собой нормы этого поведения. Дюги относится отрицательно к учению естественного права, будто нормы поведения установлены с самого начала и навсегда. Правило поведения, обусловленное интересами общественной солидарности, должны считаться нормами нравственности, все же остальные – нормами права. Мораль имеет в виду оценку действий со стороны их внутреннего достоинства, но когда мы говорим о правилах поведения, вызываемые требованиями общественной солидарности, мы имеем в виду ту или другую их оценку с точки зрения общей пользы. А из этого следует, что мы имеем в данном случае дело с нормами права, а не с нормами нравственности. Всякий индивидуальный акт воли, преследующий цели, согласные с нормами права, может считаться актом юридическим. Если акт индивидуальной воли не вызывается общественной солидарностью, он лишен юридического значения. Организованная и сознательная воля общества не становится в его распоряжение: наоборот, она должна обнаружить свое вмешательство или с целью воспротивиться вытекающим из него последствиям, или с тем, чтобы подавить его и сделать невозможным повторение в будущем.
Такова в общих чертах новейшая доктрина о тесном отношении между правом и требованиями общественной солидарности. Ее конечный вывод не расходится с тем, к какому приводит нас сравнительное изучение права на различнейших ступенях общественности. Он гласит, что гораздо ранее возникновения государства, в эпоху существования сперва материнских, а затем патриархальных родов, уже имелись нормы права. Все они имели в виду упрочение и укрепление того, что мы обнимаем понятием общественной солидарности, в частности сохранение и развитие существующих групп. Отсюда заботливость этих норм о том, чтобы изъять эти группы от действия того обычая кровной мести, которой являлся проявлением в междуродовых отношениях начала борьбы за существование. Только этим можно объяснить, почему убийство человека, не принадлежащего к одному роду с убийцей, считалось похвальным, тогда как убийство родовича недозволенным и сильно осуждаемым действием, почему та же мера применялась к охранению чужого имущества, смотря по тому, принадлежит ли оно постороннему роду или члену одного сообщества с похитителем. Если враждебный акт, совершенный чужеродцем, требует отмщения, то однохарактерный поступок, раз он исходит от родовича, отнюдь не вызывает собой кровной мести; он сопровождается одним лишь удалением виновного из той замиренной среды, какую образует род.
Таким образом, задолго до возникновения государства в интересах устойчивости общежительных союзов, т. е. из-за заботы о сохранении солидарности, возникают уже общеобязательные нормы, которыми индивидуальные поступки признаются дозволенными или недозволенными действиями, сообразно тому, отвечают ли они требованиям общественной солидарности или не отвечают. Те действия, которые не согласны с устойчивостью родового союза, его дальнейшим существованием, осуждаются, другие же наоборот. Поэтому присвоение чужого, будет ли им женщина или имущество, признается похвальным; раз дело идет о лицах, стоящих вне родового общения, и считается, наоборот, предосудительным, когда сторонами являются родовичи. Причина, очевидно, та, что в первом случае нет опасности для целости союза, а в последнем такая опасность существует. Из всего этого следует, что уже на низших ступенях общественности право совпадает с понятием нормы, приводящей свободу индивидуальных лиц в соответствие с требованиями общественной солидарности.
Итак, сравнительно исторический метод в применении к занимающему нас вопросу вполне подтверждает то основное положение, по которому первоначально не было и не могло быть противоположения коллективного индивидуальному. Ведь индивид заинтересован в существовании той общественной группы, которой он является членом; без нее он оставлен был бы на произвол судьбы в борьбе с более сильными, чем он, врагами. Чтобы обезопасить себя от окружающих их опасностей, людям необходимо войти в состав той замиренной среды, какой является материнский или отеческий род. На этой стадии развития закон сохранения энергии требует от каждого члена родового сообщества того сокращения сферы проявления своей мощи, при котором возможно поддержание мира в родственной среде. Отсюда запрет частного присвоения и жен, и имуществ, отсюда первобытный родовой коммунизм и возникновение одного из распространеннейших в мире правил поведения – обычая экзогамии, при котором постоянное брачное сожитие возможно только с чужеродкой. Все эти нормы, с которыми тесно связана и организация начальствования в границах родовых сообществ, положение старейшины, как первого между равными, и отсутствие всяких различий между лицами, ему подчиненными, вызваны также к жизни частным проявлением общего закона сохранения энергии. В условиях охотничьего и рыболовного хозяйства кровные и родовые сообщества, очевидно, могут иметь лишь весьма ограниченный личный состав. Для защиты от врагов членам их надо тесно сплотиться между собой, стать едиными телом и духом. Но это предполагает между ними отсутствие всяких средостении, всяких различий во влиянии и власти, помимо тех, каких требует подчинение общему руководительству. Отсюда равенство в правах и обязанностях, отсюда тесное общение живых поколений с усопшими, построенное на начале взаимного обмена услуг. Совершение поминок и отмщение обид, нанесенных чужеродцами, входит в состав вынуждаемых обычаем норм в такой же степени, как и правила, руководящие выбором невесты или размером имущественного пользования отдельных семей. Равенство прав и обязанностей существует бок о бок с равенством в хозяйственной деятельности. Все входящие в род семьи одинаково участвуют в охоте и улове, нередко производимом большими партиями, причем добыча поступает в большей или меньшей степени в общее пользование. Если разделение труда и сказывается, то только в распределении занятий между полами. Военные походы и охота на дикого зверя – более обычное занятие мужчин.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!