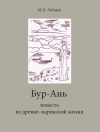Читать книгу "Сон великого хана. Последние дни Перми Великой (сборник)"

Автор книги: Михаил Лебедев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Михаил Николаевич Лебедев
Сон великого хана
Последние дни Перми Великой
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010
© ООО «РИЦ Литература», 2010
* * *
Сон великого хана
I
В один из ясных летних дней 1395 года по извилистым улицам Москвы медленно проезжал великий князь Василий Дмитриевич, сопровождаемый тремя молодыми бояричами. Ехали они ко Кремлю и имели пасмурные лица, точно какая-то злая тоска-кручина тяготила их. На князе был надет легкий бархатный кафтан, блиставший золотом и драгоценными каменьями; на голову была надвинута низкая бархатная же шапка, опушенная соболем и украшенная огромным жемчужным пером; на боку висела кривая сабля, вложенная в среброкованые ножны. Ноги князя, обутые по тогдашней моде в красные сафьяновые сапоги с загнутыми кверху носками, были поставлены в широкие серебряные стремена. Ударяя краями стремян в крутые бока своего рослого белого коня, Василий Дмитриевич горячил его, но скакать вперед не давал, и благородное животное, красиво изогнув шею, нетерпеливо перебирало ногами, фыркало, грызло удила и, казалось, ожидало только небольшого ослабления поводьев, чтобы нестись вперед с легкостью и быстротою ветра. Но рука седока была тверда; без труда сдерживая бег коня, великий князь разговаривал с ехавшими за ним бояричами и кивал головою направо и налево в ответ на поклоны, отвешиваемые встречавшимися людьми.
– А славный денек ныне, – говорил великий князь, посматривая на ясное небо, озаренное лучами полуденного солнца. – Редко такие дни бывают. На полях, на лугах что твой рай небесный, а в лесах пуще того: прохлада под деревами развесистыми, тишь, благодать, услада душевная, знай себе прохлаждайся под покрышей зеленой да игры любимые затевай!.. А здесь… Эх, не говорить разве! – махнул рукой Василий Дмитриевич, почти со злобой взглянув на показавшийся неподалеку Кремль, обнесенный высокою каменною стеною. – Ни потехи, ни веселья нет. Постоянно владыка-митрополит торчит да уму-разуму научает: «Ты, дескать, княже великий, вельми юн летами, так слушайся меня, старого человека, я тебя не на худо учу: вот это не пригодно делать, а это сделать подобает; вот это учинить потребно, а это подождать мало время…» Совсем как младенца несмыслящего! А я должен слушать его, ибо он воистину стар-человек. Да не то досаждает мне, не прочь я словам его внимать: не ложно про него говорят, что он ученый старец, крепко житием умудрен, и теперь я у него был по делу государскому, но противно мне в четырех стенах сидеть да слушать одни речи степенные, да читать книги божественные. Потребно и душу отвести. А владыка-митрополит все о спасении души толкует…
– Вольно же слушать тебе, княже великий! – усмехнулся один из бояричей, красивый стройный юноша с лукавым взглядом черных бегающих глаз. – Ведь ты, слава богу, не монах, не подначален владыке-митрополиту, можешь и на своем поставить. Оно, вестимо, твое дело женатое, ожениться изволил уж ты, но княгиня-матушка, я мыслю, не наложила бы на тебя гнева своего, если б ты часик-другой в потехе некой провел…
– В какой потехе? – Повернулся в седле великий князь и даже коня совсем остановил. – Говори, что ты замыслил, брат Сыта?
Молодой боярич понизил голос:
– Не обессудь, княже великий. Замыслил я позвать твою милость в село Сытово, где у нас хоромы великие понастроены. Большие погреба при хоромах есть, а в погребах питий разных видимо-невидимо. Окромя медов крепких да пив пенных, обретается и заморская мальвазия. А батюшки дома нету, сам знаешь ты, княже. А матушка в Троицкую обитель ушла на богомолье. Так вот, не угодно ли будет твоей милости, княже великий?.. Непомерно бы рад я был. Провел бы ты ночку летнюю в веселой беседе. А веселить у нас есть кому: красавиц девиц непочатый угол. Вот только ежели проведает княгиня-матушка Софья Витовтовна…
– Ну, это не беда, – тряхнул головою великий князь, перебивая названного Сытой. – Княгиня не спрашивает меня, где я бываю. А другие не смеют сказать. Одно только неладно, как я смекаю: завтра у нас праздник будет, воскресенье, так негоже на такой день веселые беседы затевать. Что скажет владыка-митрополит?
– Да он не узнает, княже!
– А если узнает?
– А узнает, так простит тебя по юности лет. Не монах же ты, прости господи! Можно лишний раз и погрешить немного. Не все же в кремлевских палатах сидеть да вершить дела государские. Э, полно, государь, поедем в наше Сытово да попробуем грусть-тоску твою развеять. Оно, вестимо, твоей милости не о чем тосковать-горевать: княгиня-матушка что твой ангел небесный, крепко-накрепко тебя любит; живете вы душа в душу; отчина твоя Богом хранима, о татарве поганой не слышно, новгородцы буйные под твою высокую руку пришли. Чего ж тебе печалиться? Одначе не сладко тебе, княже, видим мы, не развеселила тебя беседа с владыкой. Он все о божественном толкует. А посему поедем в Сытово: там всю твою печаль как рукой снимет. А если тебя завтра в церкви у обедни не будет, так это не большая беда. Поворчит, поворчит владыка да на том же и останется…
– А грех-то, грех, брат Сыта?.. Не ровен час, гнев Божий грянет… Владыка-митрополит говорит…
– И владыка не без греха, княже! Слыхал я, как он в митрополиты лез: тоже всячески орудовал! А теперь поучать начал!.. Все мы грешные люди, государь, один другому не уступим. Лучше бы молчать нашему брату… и владыке-митрополиту тоже. Так что ж, будет твоя милость, княже? Несказанная бы честь мне была…
Великий князь поглядел на других бояричей.
– А что, други мои, послушаться мне боярчонка Сыты? Какую вы мысль держите?
– Вестимо ж, послушаться, государь, – отозвались товарищи Сыты, улыбаясь во весь рот. – Сытово рукой подать, только Кучково поле переехать. Окажи милость, княже, посети слугу свово верного.
– Ну, еду, – решил Василий Дмитриевич, поворачивая лошадь обратно. – Не все же по заповедям Господним жить, нельзя без греха обойтись. А чтобы меня не ждала княгиня, слетай-ка, брат Всеволож, в Кремль да скажи постельничей боярыне, что я до утрия не буду. Дело-де такое приключилося, нельзя до утрия обернуться. А боярыня передаст княгине. А потом ты следом за нами.
– Слушаю, государь, – кивнул головою один из бояричей и с места же во весь опор помчался по улице, направляясь к Кремлю белокаменному, горделиво высившемуся в воздухе.
– А мы потрусим в Сытово, – сказал великий князь и крупною рысью пустил своего коня по дороге, в сторону, противоположную от Кремля, который так сильно надоел ему.
Боярич Сыта и его товарищ последовали за ним.
С юных лет пришлось Василию Дмитриевичу взять на себя бремя государственного правления. Едва ему исполнилось пятнадцать лет, как отец его, великий князь Дмитрий Иванович, прозванный Донским, скончался и на престол московский сел Василий Дмитриевич как старший из сыновей умершего. Характером Василий Дмитриевич отличался суровым и даже жестоким, духом гордым и неукротимым и, несмотря на кажущееся благочестие, любил предаваться мирским удовольствиям, в которых недостатка не было. Семнадцати лет от роду он женился, взял литовскую княжну Софью Витовтовну, и хотя крепко любил свою жену, но иногда беспричинная злая тоска-кручина наваливалась на него, терзала его молодое сердце… Кровь требовала своего: порывистых движений, ухарства, разгульных пиров, не стесняемых придворною важностью, а таких, где бы была душа нараспашку, и в такие минуты великий князь исчезал из Кремля и ехал куда-нибудь за город в сопровождении двух-трех боярских сыновей, увозивших его в свои подмосковные усадьбы, и там «отводил душу»… Однако он не оставлял «на усмотрение» бояр никаких дел государственных, не доверял даже дяде своему князю Владимиру Андреевичу, славному герою битвы Куликовской, а до всего доходил сам, везде действовал самовластно и решительно, не прося ни у кого советов, и только один владыка Киприан, митрополит московский, да два-три ближних боярина пользовались его доверием, нелицемерно желая благополучия его «державству».
Особенно владыка Киприан старался «направлять на путь истины» юного великого князя. Ученый добродетельный старец, единственным порицанием для которого служило то, что он слишком настойчиво добивался митрополичьего престола, Киприан отличался умом и жизненным опытом, прекрасно знал внутреннее устройство многих государств, и его советы всегда принимались Василием Дмитриевичем с благодарностью. Одно не нравилось великому князю в митрополите – это строгое требование им от молодого государя соблюдения княжеского достоинства, то есть чтобы великий князь всегда носил личину важности и превосходства над прочими: торжественно шествовал в церковь, торжественно выезжал из Кремля, торжественно принимал просителей, торжественно чинил суд и расправу и, главное, чтобы торжественно свидетельствовал о своем благочестии, не пропуская ни одной церковной службы и становясь в храме Божием на особом возвышении, откуда все могли бы видеть его особу и понимать, что он истинный православный государь, истинный помазанник Божий, которого грешно порицать и не почитать. Подобная торжественность не могла претить самолюбивому князю сама по себе, но ему было невыносимо представляться величавым и благочестивым государем во всякое время, везде казать вид суровый и важный, не позволять себе ни слова шутливого, ни движения порывистого, всегда быть великим государем – и только. Василий Дмитриевич не прочь был, когда требовалось, поразить обыкновенных смертных блеском и пышностью своей одежды, представиться грозным судией и повелителем, окружить себя подавляющею по торжественности обстановкою, но он не прочь был и пировать-столовать в обществе молодых бояричей в каком-нибудь укромном месте, где все церемонии были оставляемы и царило самое бесшабашное веселье. А против этих пирушек, как «не приличествующих сану великого князя», строгий в подобных делах митрополит восставал весьма решительно.
– Не подобает великому князю московскому иметь дружбу с людьми, по кружалам[1]1
Питейное заведение. (Примеч. ред.)
[Закрыть] ходящими, – говаривал владыка, когда узнавал про новую «проруху» Василия Дмитриевича. – Московские государи – голова всей земли Русской. Московских князей сами ханы ордынские почитают. Не следно тебе, чадо мое, поруху своей княжеской чести делать. Княже великий завсегда должен князем быть. Пусть видят все, что ты государь истинный…
– Прости, согрешил, владыко, – обыкновенно потуплял очи князь и обещал не делать более таких «прорух», унижающих его княжеское достоинство. Но дальше этих обещаний дело не шло. Проходили день, два, три, проходила неделя, и Василий Дмитриевич снова исчезал из Кремля, пользуясь каким-нибудь благовидным предлогом, и по целым суткам проводил время в веселой компании.
Однако, несмотря на неутолимую жажду удовольствий, молодой князь никогда еще не решался бражничать в ночь на воскресные и праздничные дни. Отеческие поучения митрополита и, главное, чувство невольного уважения к церковным установлениям, всосанное с молоком матери, не позволяло ему уподобляться татарве некрещеной, не признающей ничего святого на свете. Гулять на праздник – это значило жестоко оскорблять святыню, и ни один из истинно верующих людей того времени не решился бы на такое богопротивное дело. Положим, Василий Дмитриевич не любил стояния в церквах, не отличался большою набожностью, но при народе весьма усердно крестился и молился и все-таки сознавал в душе, что вера в Бога – великое дело и что следует, по крайней мере, хоть праздники Христовы соблюдать, если даже в сердце и нет священного огня. И он держался этого правила, и если бражничал, то, во всяком случае, не в праздники, а в такое время дня и ночи, когда нарушение «великокняжеской важности» не могло бы иметь для него скверных последствий.
Но сегодня великому князю было особенно скучно, и он согласился ехать в Сытово, где ожидало его «разливанное море», в чем он не сомневался. Боярич Сыта, сын Евстафия Сыты, бывшего наместником в Новгороде, любил угостить гостей, а особенно такого гостя, как великий князь, наверное, угостил бы, живота своего не пожалея. И Василий Дмитриевич не думал уже о том, что завтра праздник Христов, а следовательно, грешно проводить ночь в «хмельном веселье», и единственно предвкушал удовольствие от грядущей попойки.
Трое спутников его, боярские сыновья Михайло Сыта, Иван Белемут и посланный в Кремль Сергей Всеволож составляли его «товариство сердечное». Все трое – сверстники по летам, постоянно неразлучные, молодые люди сопровождали князя в его «походах по местам укромным», и хотя, чисто внешне, не были способны ни на что другое, кроме бражничанья, но в действительности они были храбрые витязи, мерявшиеся силами и с татарами, и с новгородцами буйными. В этот день, состоя при особе князя, они провожали его в Симонов монастырь, где временно проживал владыка Киприан из-за перестройки митрополичьих палат.
II
Широко и привольно раскинулась Москва белокаменная, хотя название «белокаменной» она заслужила еще недавно, за два десятка лет до описываемых событий, когда в 1367 году великий князь Дмитрий Иванович заложил каменный Кремль, который и был построен в непродолжительное время. С постройкою каменного Кремля начали воздвигать и каменные церкви, кроме существующих уже соборов Успенского и Архангельского, церквей во имя Святого Иоанна Лествичника и Преображения Господня, построенных еще князем Иваном Даниловичем Калитой, большим ревнителем благочестия. Москва начала принимать тот величественный вид, который придавали ей храмы Божии, возвышавшиеся по всем ее направлениям. Особенно Успенский и Архангельский соборы и храм Преображения Господня отличались благолепием, усиливаемым настенною живописью, изображающей события из священной истории и лики святых, особенно почитаемых греко-российскою церковью. Это расписывание церквей было совершено в княжение Симеона Ивановича, прозванного Гордым, причем Успенский собор расписывали греческие живописцы, привезенные митрополитом Феогностом, Архангельский собор – «русские придворные живописцы Захария, Иосиф и Николай с товарищами», а церковь Преображения Господня – иностранец Гойтан, переселившийся в Москву из Италии. За исключением этих и других каменных храмов, было порядочно и деревянных, но в 1382 году, во время нашествия Тохтамыша, обратившего Московское великое княжество в кучу дымящихся развалин, все деревянные церкви были сожжены, каменные храмы разграблены, Москва в один час лишилась всего, что было приобретено со дня ее основания, и бедному опустошенному граду пришлось начинать снова «украшаться храмами и монастырями», составлявшими уже и тогда его славу. Во всяком случае, князь Дмитрий Иванович Донской, в княжение которого произошло сожжение Москвы Тохтамышем, употребил все старания к восстановлению своей столицы, и немногие уцелевшие храмы были приведены в свой прежний вид, а затем стали строиться и новые, но в первые годы княжения Василия Дмитриевича, не унаследовавшего от отца его прилежания к Божиим храмам, Москва была скудна церквами по сравнению с недавним прошлым, и только неугасающая ревность митрополита Киприана в делах веры служила к тому, что «домы Господни» продолжали вырастать на стогнах Белокаменной.
Не имея правильного расположения улиц, Москва представляла из себя огромную деревню, раскинувшуюся по берегам Москвы-реки и Яузы. Улицы назывались «концами» и сходились со всех сторон к Кремлю, называвшемуся собственно «городом», тогда как закремлевские части Москвы именовались «посадами», являвшимися как бы предместьями города-кремля. Характер городских построек был однообразен. Обыватели Москвы, как и все вообще русские люди того времени, не питали в душе никаких честолюбивых стремлений щегольнуть красивою внешностью своих жилищ и строились попросту, «как Бог приведет».
Постройка домов была незамысловата. Срубались обыкновенно одна или две избы желаемых размеров, ставились на облюбованное место; сверху срубы покрывались тесом, внутри делались пол и потолок, а то и вовсе без полу, вместо которого служила простая земля, в стенах прорубались небольшие отверстия для окон, затягивались бычачьим пузырем или слюдою; посреди полу становилась печь, в большинстве случаев лишенная трубы, потому что избы были курные, и дом был готов. А если позади дома стояло несколько житниц и помещения для скота, а кроме того, имелся садик, огражденный невысоким заборчиком, то говорили, что хозяин двора – зажиточный человек, могущий жить как у Христа за пазухой. Во всяком случае, подобный род жилых построек являлся преобладающим, соответствующим духу того времени, когда каждую минуту можно было ожидать вражеского нашествия, а с ним и лишения всего, что ни имеешь.
На более видных местах, преимущественно же вокруг церквей и близ кремлевских стен, красовались обширные палаты великокняжеских бояр и купцов, не жалеющих «животов» для вящего украшения своих жилищ, потому что возможность лишиться всего их не страшила: враги пограбят, пожгут да и уйдут, тем временем они отсидятся за крепкими стенами Кремля, где сохраняют свои сокровища, а когда враги покажут тыл, то на месте уничтоженных палат они построят еще лучшие и заживут такими же богачами, как прежде. Большинство боярских и купеческих хором окружалось высоким частоколом, из-за которого виднелись только крыши, и, проезжая по московским улицам, незнакомый человек мог бы подумать, что это не жилища мирных граждан, а более или менее неприступные крепости, единственное неудобство которых заключалось в том, что их можно было легко зажечь, чем во время неоднократных набегов на Москву татары и пользовались, сжигая все городские строения, не входившие в состав «каменного города», или Кремля.
Летом 1394 года, по совету бояр, великий князь приказал копать ров от Кучкова поля, или нынешних Сретенских ворот, до Москвы-реки, для сильнейшего укрепления столицы. Ров этот имел две сажени в ширину и полторы сажени в глубину, ввиду чего работа в одно лето не могла быть кончена и в 1395 году копание рва продолжалось. В немногих местах, против наиболее оживленных улиц, через ров были перекинуты мостики, и ими заведовали особо выбранные сторожа, опускавшие мостики с восходом солнца и поднимавшие их на ночь. В этот день, в который великий князь Василий Дмитриевич согласился ехать в Сытово, один из мостиков, по неизвестной причине, был поднят, и великий князь подъехал именно к этому месту, не подозревая, что тут проезда нет.
На лице его выразилось удивление.
– Что сие значит? – спросил он своих спутников, указывая на поднятый мостик. – Чего ради мостовина не опущена?
Бояричи Сыта и Белемут засуетились.
– А полагать надо, сторож бражничает, – отозвался Сыта, поспешно слезая с лошади, – вот и позабыл дело свое. Подержи-ка, брат Иван Андреевич, коня мово, я мигом в ров спущусь да перейду на ту сторону. А там только за веревку дернуть, мостовина-то и опустится.
– Батогами следно вздуть этого сторожа, – негодовал Белемут, принимая поводья от лошади Сыты. – Эдакую пакость учинил – мостовину неопущенную оставил. А теперича белый день, весь народ честной ходит из конца в конец. А особливо княже великий подъехал – и стой ради смерда непутящего.
– Будет помнить меня холоп негодный, – нахмурил брови Василий Дмитриевич, раздосадованный непредвидимой задержкой. – Не забыть бы лишь о сем при случае…
– Напомним, княже великий, – улыбнулся Сыта, готовясь спрыгнуть в ров, преградивший путь к желанному Сытову. – Не уйдет он от детей твоих боярских. А теперича прыгну я…
Но прыгать Сыте не пришлось. Из-за небольшой покосившейся избенки, стоявшей около самого рва, на противоположной от путников стороне, выбежал маленький худенький человечек, с бледным истомленным лицом, опушенным седою бородою, с кроткими, печально смотревшими глазами, одетый в оборванную сермягу и босой, и крикнул надтреснутым голосом:
– Не утруждай себя, боярчонок! Открою я дорогу князю великому, мостовину опущу. Только послушай споначалу слово мое, княже великий…
– Опускай скорей мостовину-то, – перебил князь, недобрым оком взирая на худенького человечка. – Некогда мне велеречие твое слушать. Ты что за человек такой? Аль сторож здешний нерачительный?..
– Не сторож я, княже великий, а человек убогий, живу милостями людей православных, – отвечал незнакомец, проворно опуская мостик. – А зовут меня Федором-торжичанином, ибо я из Торжка-города, что милостию твоею недавно пожалован…
– Какою милостью?
– А такою милостью, княже, какой и век никому не снилось. Было это не так давно, года два назад тому, когда ты с Новгородом Великим в рассорке был…
– А какая милость моя была? Говори, ежели добрые словеса молвить ты желаешь! А ежели такое что, то не прогневайся: попробуешь ты батогов на судейском дворище!..
Голос князя прозвучал угрозой. Василий Дмитриевич понял, на какую «милость» намекает Федор-торжичанин, неизвестный ему до настоящей минуты, и, перебравшись по опущенному мостику на другую сторону рва, подъехал вплотную к смельчаку, смотревшему на него без всякой робости и подобострастия.
Боярич Белемут шепнул на ухо великому князю:
– Это человек блаженный, княже, юродство на себя напустил. Постоянно здесь обретается. Не стоит разговор с ним вести…
– Наплюнь, княже, – поддержал товарища и Сыта, наклоняясь к другому уху князя. – Ничего доброго от него не дождешься. Да и достойно ли твоему сану с таким полоумным смердом разговор вести?..
– А воистину ведь так, други, – согласился великий князь и хотел было тронуть лошадь, но тут Федор-торжичанин встрепенулся, глаза его загорелись неожиданным блеском, и он схватил под уздцы княжеского коня.
– Нет, погоди, князь Василий! Не сдвинешься с места до тех пор, пока меня не выслушаешь. А скажу я споначалу про то, какую милость оказал ты жителям Торжка-города. А потом и про другое что…
Василий Дмитриевич покраснел от гнева. Как? Его смеет задерживать какой-то «полоумный» смерд, обращавшийся с ним как с равным? Ему не отдает должного почтения простой смертный, зависимый от него и в жизни и в смерти?.. Рука его судорожно рванула повод, унизанный блестящими кольцами, а ноги ударили краями стремян в крутые бока доброго коня, выражавшего недавно такое нетерпение; но, к удивлению его, горячее животное не ринулось вперед от этого, не сбило с ног дерзкого торжичанина, спокойно державшего его под уздцы, а, напротив, попятилось даже назад немного и снова сделалось неподвижно, как статуя, пугливо поводя глазами.
– Прочь с дороги! – глухо произнес великий князь, угрожающе хватаясь за саблю. – Не хочу я слушать тебя!.. А завтра найдут тебя слуги мои, и уведаешь ты, что значит грубить мне…
– Нет, ты выслушай меня, княже! – настойчиво повторил Федор, вперяя пылающий взор в лицо Василия Дмитриевича. – Переполнилась чаша терпения Господня, велики грехи наши, не будет спасения нам, грешным. А тебе, князю великому, горше всего…
– Что ты говоришь? – смущенно пробормотал князь, теряясь под странным взглядом юродивого. – Нельзя дать веры тебе… Благополучно державство наше…
Василий Дмитриевич смутился. Никогда никому не спускал он дерзости, выраженной в той или другой форме, но тут слова Федора произвели на него такое действие, что он не знал, как отнестись к «блаженному»: как к святому прозорливому человеку или же как к полоумному бродяге, болтающему разные глупости?.. Но взгляд торжичанина насквозь прожег его душу, заставил его потупиться, и великий князь не мог разрушить очарования, «напущенного» на него юродивым. В голове его шевельнулась мысль, что слова «блаженного» о переполненной чаше есть грозное пророчество, которое может исполниться… Бояричи порывались было отбросить дерзкого с дороги, но Василий Дмитриевич легким движением руки приказал им не двигаться с места. С чувством подавленной досады начал слушать он речь Федора-торжичанина.
Тот начал говорить:
– Не хвались благополучием своего державства, княже великий! Пока Бог грехам терпит, ты жив, здоров, славен, могуч, а переполнят грехи твои чашу терпения Господня – и обрушится на тебя гнев Его грозный! Много, много грешишь ты, князь Василий Дмитриевич, велия злоба в сердце твоем кипит. Вспомни-ка, вспомни, княже, какую милость оказал ты жителям Торжка-города, когда в рассорке с Новгородом Великим был? Зело строптив ты, княже великий, никому пощады не даешь. Особливо в деле сем выказал ты душу свою: семьдесят человек казнил! Да как казнил-то, Господи Боже милостивый! Сперва правую руку отсекли, потом левую, потом ноги отсекать начали, и все эдак потихоньку, не спеша: страждите, мол, поболее, людие православные: христианский владыка вас чествует! А бояре да дьяки твои княжеские кричат: «Так гибнут враги-недруги государя московского!» И совершилось дело небывалое: семьдесят русских людей от русского же князя погибли! И омочилась земля мученическою кровью!.. Аль было это не так, княже великий? Аль лгу я, выдумку говорю, а?
– Не выдумку говоришь ты, а правду, человече, – пробормотал Василий Дмитриевич, не смея поднять глаз на своего необычного собеседника. – Вестимо, семьдесят человек торжичан я казнил. Но казнил я их за дело, за измену. Крамольниками были они. А крамольникам поделом казнь подобная!..
Федор махнул рукой.
– Не ты бы говорил, не я бы слушал, княже великий! Вестимо, нет нужды тебе выправляться передо мною, недостойным смердом, а все ж скажу: ты только самого себя выгораживаешь! Не мог ты утолить злобу свою, ни усмирить сердце кровожадное и обрушился на торжичан гневом лютым. А велику ли крамолу они учинили? Немного погалдели только, да новгородец пришлый доброхота твоего Максима убил. Убил он невзначай, наводя страх на него, а ты, княже немилостивый, счел это тяжкою обидою для себя и повелел изымать граждан Торжка-города, кто попадется под руку, и всех злой смерти предать! И умертвили семьдесят человек. А люди они были безвинные… Грех, грех велий принял ты на душу, княже великий! Отольется тебе кровь неповинная!..
– Ой, перестань, Федор! – не удержался наконец Сыта, выведенный из терпения укоризнами торжичанина. – Не черни князя великого! Не твоего ума дело рассуждать о действиях его! На то он и князь великий, чтобы крамолу из Русской земли выводить…
– Но не проливать кровь неповинную! – воскликнул Федор, не обращая внимания на внушительный окрик боярича. – Зело еще юн ты, княже великий, недавно два десятка лет минуло, рано ты за кровопролитье принимаешься! Накажет тебя Бог, княже, попомни мое слово – накажет! Накажет, ежели не исправишься! А исправиться тебе пора уж, довольно беса тешить, следно и Бога вспомнить. Подумай, какой завтра день будет – воскресенье, на такой день добрые люди пост держат, молятся, а ты едешь мамону свою ублажать…
– А ты откуда знаешь? – зыкнул великий князь, понемногу возвращая себе свое обычное хладнокровие и резкость. – Молчи, пока цел стоишь!..
– А и казнить меня прикажешь, княже, и тогда молчать не стану: готов я за правду умереть, а ведь это правда сущая. Аль лжа это, напраслина, княже?
Василий Дмитриевич нетерпеливо передернул плечами.
– А пожалуй, напраслина и есть. Не ведаешь ты, что говоришь, человече. Вестимо, заслужил бы ты казнь, но не всякие глупые речи принимаю я за намеренное поношение и… не хочу марать о тебя рук. Отойди от греха, смерд неразумный, сокройся от глаз моих, а то горе тебе! Довольно слушал я тебя, пора и честь знать… прочь с дороги!
Недолго продолжалось смущение великого князя. Он живо пришел в себя и, сказав эти слова, порывисто дернул поводья, точно заставляя коня перескочить через торжичанина, но лошадь не тронулась с места: рука «блаженного» крепко держала ее под уздцы. Лицо Федора преобразилось. Кроткое выражение исчезло, черты утратили свою неподвижность, между бровями легла суровая складка. Он стал на себя не похож. Глаза сверкнули вдохновенным огнем, взгляд сделался строгим и грозным, на щеках вспыхнул румянец, губы дрогнули и полуоткрылись. Он глубоко вздохнул всею грудью и воскликнул:
– Покайся, княже! Час гнева Господня близок! Покайся в своих прегрешениях, прибегни с усердным молением к Заступнице и Молитвеннице нашей Царице Небесной, и беда пройдет стороною… Послушайся если не меня, то владыки-митрополита, ангела-хранителя здешнего… Остановись, не езди на дело бесовское, вспомни, что завтра день воскресный… О, горе земле Русской! Горе твоему стольному граду! Горе всем людям православным! Туча грозная из-за Волги-реки поднимается…
– Прочь с дороги! – бешено рыкнул великий князь, пришедший в страшное раздражение, и, перегнувшись в седле, достал правою рукою Федора, схватил его за шиворот и могучим взмахом отшвырнул в сторону, прямо на камни, вывороченные при рытье рва. – Вот тебе, холоп паскудный! – прохрипел он, задыхаясь от душившей его злобы, и, не взглянув даже на несчастного, ударил краями стремян в благородные бока своего доброго горячего коня, гикнул и понесся вперед с такою быстротою, что Сыта и Белемут едва успевали за ним.
А сзади за ними, на большой куче камней, лежал поверженный во прах юродивый, осмелившийся порицать бесчеловечные поступки великого князя и его грешную жизнь и жестоко за это поплатившийся. Голова его была разбита в кровь, лицо разрезано острым краем камня, но он был еще жив, и из груди его вылетало прерывистое дыхание, доказывающее, что душа смелого обличителя княжеских пороков не успела еще разлучиться со своею земною оболочкой.