Текст книги "Волчок"
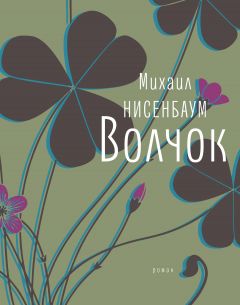
Автор книги: Михаил Нисенбаум
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
10
В доме пахло погасшим праздником и кошками. Лебедь зажгла высокую свечу, вышла на борт бассейна и звонко, почти не заикаясь, прочла:
Эта мука – проходить трясиной
Неизведанного в путах дней –
Поступи подобна лебединой.
Смерть – конечное непостиженье
Основанья нашей жизни всей –
Робкому его же приводненью.
Подхватив его, речное лоно
Постепенно, нежно и влюбленно,
Все теченье снизу уберет,
Лебедь же теперь, воссев на ложе,
С каждым мигом царственней, и строже,
И небрежней тянется вперед[1]1
Райнер Мария Рильке. Лебедь. Новые стихотворения. Пер. К. Богатырева.
[Закрыть].
– Малыши! Домой! – пропел в глубине сада призрачный крик.
Через минуту раздался щелчок, дверь отворилась, и на бассейную террасу, рыча и сталкиваясь в дверях, ворвалась стая черно-рыжих псов: Федон, Хват, Рохля, Шум, Алмаз, Кручу, Полчаса, Кармен, Дикий, Цахал, Вальс, Бова, Чушь, Маска и Вихор. Глядя в их веселые невинные морды, Варя подумала, что это самая космогоническая часть провалившегося действа – великого вяхиревского Праздника птиц.
11
– Пусть тебе приснится целая роща борщевиков, причем у каждого в венчике будут десятки крошечных лампочек разного цвета. А еще там будут лопухи, где прожилки будут разделять неровные травяные стекла, как в витраже.
– А у тебя пусть вырастут огромные усы, они не будут помещаться даже на лице, а потянутся в разные стороны, так что в них будут летать разные птицы, бабочки… Птицы будут охотиться за бабочками, запутываться, потом распутываться. Целая жизнь!
– Прекрасно.
– (жалобно и возмущенно) Я же стараюсь!
Мимикрия пятая. Лишний день рождения
1
Герберт сидел на подоконнике – самом светлом месте в избе-мастерской. Из банки, в которой лежали цельные рябые скорлупы от перепелиных яиц, он пытался извлечь самую красивую. Или самую крупную. Или самую светлую. Или хоть какую-нибудь. Вид у Герберта, как и всегда в минуты тонкой кропотливой работы, был одновременно сосредоточенный и придурковатый. Варвары в мастерской не было – она ушла в большой дом. Наконец охота Герберту наскучила, и он направился ко мне.
– Если ты, уморительный кот, хочешь, чтобы я тебя гладил, убери свои чертовы когти, – сказал я, да разве он послушает?
На мольберте стояла недописанная картина с чайником и шахматной доской. В полумраке шахматные фигуры на доске казались настоящими. Особенно ладья. Изучив книгу о древнеегипетском орнаменте и утомившись от приставаний древнеегипетского Герберта, ненасытного коллекционера ласк, я вышел в сад. Облака расступились, и по стволам сосен стекало медленное солнце.
В разное время дня и при разном освещении некоторые части сада сплавляются в монолит, а другие выходят на авансцену, позволяя разглядеть себя по отдельности. Сейчас на летнем солнце млел светлый песчаник, на фоне которого особенно четко вырисовывались трефовые листья бордовой кислицы. По лбу камня глянцевым мазком пробежала ящерка и исчезла в траве. В цветах за перголой работала Ольга. На руках ее были резиновые перчатки лимонного оттенка. Вокруг танцевала пестрота: бледно-голубые гортензии, чернильные колокольчики, чайные и карминные розы и еще десятки цветов, названия которых мне не известны. В ответ на приветствие Ольга помахала мне рукой. Она казалась картиной той же палитры, что и растения.
Я не сразу увидел Варю. Она сидела на корточках перед скамьей и что-то мастерила. Стараясь ступать неслышно, я подошел поближе. На скамье стоял мозаичный фонарь, одна из стенок которого пока не была застеклена. Варвара размечала лист кальки, глядя то в траву, то на эскиз. Как ни прекрасна была эта картина, поражало другое. Дело в том, что перед скамьей сидела не Варвара, не совсем Варвара. Черты ее заострились, и вся она походила на значительный, загадочный иероглиф в узорчатых штанах и малахитовой рубахе. Вид у Вари был сосредоточенный и одновременно глуповатый. Иными словами, в траве над поблескивающими мозаичными стеклышками сидел еще один Герберт, который всем видом показывал, что ему нет до меня никакого дела. Впрочем, это был особый, садовый Герберт, узорный, надменный, безмолвный. Захотелось погладить умное животное по голове.
– Любой мало-мальски искушенный мужчина понял бы, что трудящегося художника лучше не баламутить, – прошипела Варвара.
Недовольство ее было законно, и, извинившись, я отправился прогуляться по саду. На берегу Свиного пруда покачивались лиловые гортензии. В карей, прогретой солнцем воде резвились черные запятые головастиков. Где-то за большим домом слышен был стук дятла, умножаемый эхом.
Немного кружилась голова. Я двинулся в сторону перголы. Солнце уже палило вовсю. Яркие круги (словно кто бросил в пруд камень) красками поплыли перед глазами. Навстречу мне во весь рост вставал огромный цветок львиного зева. Все лицо его волновалось пышными лимонными складками, локон челки накатывал на сияющий лоб, отвороты век завершались нарядными ресницами, львиный лик дышал, переливался, шевелил лимонными губами. Здесь всё было всем: тонкие ноздри, раздуваясь, смотрели на меня, щеки шептали, лоб улыбался, а потом оказывался подбородком, воздетым к солнцу. Водопад лиц катился сверху вниз, фонтан лимонных цветков взлетал в вышину, а меня опаляла вспышка чуда, красоты и жути. Вдруг цветок вздохнул и сказал голосом Ольги:
– Так жарко, не могу работать в перчатках.
Тут только я и увидел, что передо мной никакой не львиный зев, а Варина мать, которая стаскивает с руки лимонную перчатку. Может быть, у меня солнечный удар? Отведя взгляд, я случайно наткнулся на клумбу, над которой трудилась Ольга. С восточного края пестрого островка тянули головы светло-желтые каскады львиного зева.
Это все Сад. Он что-то делает с каждым, кто сюда попадает. Может быть, со мной тоже? Тут я вспомнил про день рождения в саду Ярутичей, возможно самый странный день рождения за всю мою жизнь.
2
Однажды придет благословенный год, и все чужие люди забудут про мой день рождения. А тех, кто забыл про мой день рождения, можно будет спокойно записать в чужие и не заботиться ни о них, ни о себе, не тратить на это ни единой мысли. Я сяду в поезд, где ни одна душа знать меня не знает, замру у открытого окна, буду слушать музыку, бодаться с ветром, влетающим в окно, и принимать движение за счастье.
За три дня Варвара спросила, когда мой день рождения. Точнее, я сам завел этот разговор. Она знала дату год назад, но непременно забыла бы, к моему глупому огорчению. Утром в самый день рождения она позвонила и по-светски небрежно сообщила:
– Ты мог бы приехать к вечеру. Мы позвали Эмму и Эдуарда. Родители позвали. Ну заодно бы и тебя поздравили, касатик.
Вот те на, думаю. Родители позвали Эмму и Эдуарда, которые недавно вернулись со съемок из Перу. Им хотелось повстречаться с друзьями, это вполне объяснимо. При чем тут я?
– Варя, может, ты ко мне приедешь? Пойдем гулять на реку, потом по крышам. В ресторацию закатим, хочешь?
– Мишуша, ну куда мне ехать? Тут гости, надо прибирать, принимать. Герберт ухо расцарапал, нужно лечить его.
«День рождения – обычная условность, не раздувай свое значение, ты не ребенок, не смей обижаться!» Так я быстро-быстро, неслышно-неслышно говорю себе.
– Хорошо, я приеду, раз так всем удобнее. Только можно тогда никому не говорить про мой день? Эмма будет без подарка, поставим их в неловкое положение.
– Чушь!
– Так ты согласна?
– Миня, мне пора, приезжай часам к четырем.
3
Уже сидя в электричке, я понимал, что поездка и окажется лучшей частью дня. Была самая середина лета и середина летнего дня. Возможно, уже завтра лето начнет спускаться с горы, копя и теряя, но в мой день год за годом лето в самом зените, в самой поре и славе. За окном мелькали раскрашенные заборы, ржавеющие гаражи, кирпичные водонапорные башни, сверкнула чешуей Москва-река, город то заканчивался, то спохватывался и начинался заново. Наконец на плече холма вспыхивали розовые пагоды кипрея, и начиналась лучшая из свобод – свобода дорожная.
Иван-чай – прощальный цветок, не отпускающий сердце. Еще сжимают кулачки нераскрывшиеся бутоны, еще нежны новорожденные розовые шелковинки лепестков, а там, на нижних ярусах, уже седеет кольцами осенний ус, уже светятся солнцем дымы разлуки. Не за то ли так люблю тебя, кипрей, – за одновременность всех возрастов, за цветущую связь времен, за юную красоту близкого упадка?
Конечно, с таким настроем нужно было проехать станцию Вяхири и катиться дальше, дальше, светлея от праздничного огорчения. Господи, для чего снабдил ты меня таким терпким характером? Знаю, знаю зачем. А почему спрашиваю? Да из-за того же характера.
Когда я приехал, все давно уже сидели на берегу Свиного пруда. У подножья сосны на подстилке хвои светились две дыни, золотистые каждая на свой лад. Единственное свободное кресло занимала, свернувшись калачом, Рохля, одна из малых собак. При моем появлении Рохля вопросительно подняла голову, шевельнула хвостом и тут же снова впала в ленивую негу. Пирующие приветствовали меня, Сережа Ярутич велел дочери принести еще один стул. Согнать Рохлю никому в голову не пришло.
Эмма и Эдуард – самые частые гости Ярутичей. Наверное, мне никогда их не понять. Это люди, которых я ни разу не видел неулыбающимися. Людям идет улыбаться. Кого-то улыбка защищает, кого-то делает беззащитным, но в стране, где такая долгая зима, улыбки улучшают климат. У Эммы же с Эдуардом улыбка то ли ритуал, то ли политика. Словно если они на секунду перестанут улыбаться, их кто-то накажет – рублем или по попе, не знаю.
У Ярутичей на все лады повторяют, какие Эмма и Эдуард хорошие. Наверняка так и есть. Но почему время от времени кажется, что они не настоящие люди, а голограммы? Вероятно, я просто не умею ценить светской беседы, где главная прелесть – легкость интонации, а предметы избираются только такие, какие невозможно принять близко к сердцу: сорта бегоний, белая мебель, фестиваль провансальской кухни. Примерно через час беседы обнаруживаешь, что держать на лице приветливое выражение не так-то просто, а еще через полчаса – что сам превращаешься в голограмму.
Мы с Варварой пошли за стулом для меня. По дороге стало ясно, что Варя выпила больше двух бокалов. Как только мой стул оказался у стола, Рохля спрыгнула с кресла, потянулась и ушла в сторону бани, а может прямо в нее.
К вечеру звуки ручья, впадающего в пруд, сделались чище и холодней. В чернеющей воде отражались облака голубых гортензий. Где-то далеко за полем стучал молоток, и стук этот, оголубленный расстоянием, казался небесным. Глядя на сосны, я наконец успокоился. Тут Ольга велела Сереже налить всем вина и подняла бокал за меня и мой день рожденья. У Эммы и Эдуарда на лицах проявилось приятное удивление, точнее к постоянной приятности прибавились дополнительные ноты. Вроде у них приподнялись брови, хотя этого и не было видно. Как жаль, что нас не предупредили, мы без подарка. А сколько тебе, если не секрет?
4
Выждав некоторое время, я предложил Варе прогуляться. Уходить из-за стола ей не хотелось. Будь у нее надежда сидеть со всеми, а не бегать в дом и из дому, никуда бы мы не пошли. К тому же Сергей вполголоса, но так, что все слышали, попросил Варю больше не пить. Она сверкнула волчьими глазами, ярко улыбнулась и потянула меня за собой. Мы вышли за ворота. Солнце уже окуналось в дальний лес, и борозды недавно вспаханного поля отливали фиолетовой глиной. Молча мы свернули с дороги в какой-то дачный проулок и стали спускаться между рядами сливающихся в мрачные монолиты елей. Дачи справа и слева, казалось, пустовали. Наконец впереди забрезжил зелено-золотистый просвет. Где-то впереди несла быстрые воды Пахра. Понемногу мы разговорились. Почему разговор зашел о ремонте моей квартиры? Ничто вокруг не могло навести на мысль о полах, обоях, краске и шпатлевке. Время от времени мы говорили о ремонте: Варвара подумывала переделать мой дом по собственному вкусу, я, насколько мог, показывал на словах воодушевление, но бессознательно старался отложить начало работы как можно дальше.
По дороге Варя любит меня приобнять. Ей хочется самой меня обнять, а не быть обнятой. Она ниже почти на голову, но обнимает меня за шею. Мне приходится слегка наклониться, идти при этом неудобно. Кажется забавным и милым, что Варвара не замечает разницы в росте. Иногда это объятье немного похоже на силовой захват. По-моему, этот жест многое объясняет в ее отношении ко мне. Не то чтобы Варя хотела меня раз навсегда приручить, переделать под свои привычки, но ей важно быть главной, настаивать на своем, переучивать. Варя – дрессировщик, которому важна роль человека с хлыстом, а вовсе не результат дрессировки. Кот Герберт, которого Варя «воспитывает» ежедневно, сохранил полный набор своих пагубных привычек.
Река пряталась в широких травяных берегах, ее не было видно и за десять шагов. Уже мерцали там и здесь соцветья пижмы и осенне-солнечные метелки золотарника, напоминающие пух свежей мимозы. Горели бледным марганцем кипреевые костры. Прибрежные поляны были безлюдны, но при этом не казались пустыми. Цветы тянули шеи, пытаясь наглядеться на уходящее солнце.
Шагая к реке по розовеющему полю, я чувствовал себя то ли уменьшенной статуей Командора, то ли ходячим бревном, недобуратиной. Начав говорить о ремонте, Варвара уже не могла остановиться. Собственно, бормотала она о будущем ремонте в форме беспощадной критики нынешнего дома. И вместо того чтобы праведно наслаждаться красотой пахринских берегов, я каменел от глупой нарастающей обиды. Ведь это мой дом! Мой родной дом!
Возвращаясь с работы или из поездки, я слегка глажу по стене прихожей, словно это не обои, а спина любимого пса. Нет, это недостаточно точно. Я чувствую не просто любовь к дому, но почти суеверную благодарность за то, что он у меня есть.
Квартиру я получил в сорок лет. Большую часть жизни ждал, теряя веру, когда у меня появится свое жилье. Помню, в Новогирееве строили новую девятиэтажку. Тогда я жил в коммуналке, в десятиметровой служебной комнатенке. Каждый раз, глядя в пустые, незастекленные окна девятиэтажки, я слышал внутри себя голос, умоляющий: пустите меня домой, пожалуйста, пустите!
Что значит для бездомного обрести дом? Значит, есть где спастись от невзгод, существует место, где можно жить по-своему, например засидеться до середины ночи над книгой или плясать за закрытыми шторами, позвать гостей, скажем самую важную гостью, мою возлюбленную, которая сейчас идет рядом через буро-розовые травы и недовольным голосом поносит этот самый дом.
– Не обижайся, но когда я вижу твою кухню… – тут она скукожила такое личико, словно пыталась разглядеть мизерную, но смертельно опасную инфузорию. – Эти шкафчики двухкопеечные, этот фартук с узорчиком тюдюм-сюдюм, занавесочка эта – «ветер с моря дул»…
– Варя, послушай… Не могла бы ты описывать не то, как ужасна моя квартира, а, скажем, во что бы ты хотела ее преобразить?
Да, конечно, небрежно соглашалась Варвара и продолжала поднимать на смех то диванчик, похожий на «чемодан с салатом оливье», то люстру, напоминающую автодоилку. Она описывала мои домашние вещи с тем косноязычным юмором, который я так любил. Что еще огорчительнее, ее описания были узнаваемы. Варя говорила с нетрезвым раздражением, но при этом, как я заметил, ласково гладила рукой вихры травяных верхушек. Примерно раз в минуту она твердила: «Не обижайся», да и сам я про себя повторял то же самое. Тем не менее, когда мы подошли к воде, обида схватилась во мне, как добрая эпоксидная смола.
Завидев темные воды Пахры, Варвара наконец обнаружила предмет, более привлекательный для обсуждения, чем пятно на обивке кровати, напоминающее лысину Горбачева. Повернувшись ко мне, но глядя слегка мимо, она затараторила:
– Ну что, маленький, опять накуксился? Опять расхохлился? Ну не надо! Смотри, какие волны! – Язык у нее немного заплетался. – Там водоросли, черная музыка, там на-лалай, ту-ду-лай-рарарим-там. Садись со мной на бережку, ру-лу-лай, тири-рай.
Конечно, я продолжал упрямо стоять столбом. Давно следовало развернуться и уйти. Но рюкзак с ключами, паспортом и деньгами остался на даче, куда без Варвары попасть невозможно. И позвонить Ольге с Сережей нельзя – телефон в кармане все того же рюкзака. Оставалось ждать момента, когда мы вернемся, можно будет полноценно оскорбиться и уехать домой. Господь, как это было глупо!
Река несла почти невидимые воды под облаками нависающих ив, и ночной воздух, настоянный на луговых травах, расступался от бодрых криков:
– Успокойся, я тебя прошу! Смотри, какие звезды! Можешь ты сесть и обнять меня сию же секунду? Мишуша! И хрен с тобой. Привела чмыря на свое детское место. Раз ты такой, ты мне не нужен! Сволочь! Хочешь, я разденусь догола и буду плескаться в реке, как дриада? Кретин ты, и я, я кретинка! Бедный я, злосчастный осел!
Наверняка есть люди, чье чувство красоты от воплей и оскорблений только обостряется. Пока такому человеку не скажешь, что он паскуда, он хризантему от вантуза не отличит. Признаться, я не из их числа. На обратном пути я слышал, как пахнет ночная полынь и звенят в траве цепочки цикад, но наблюдения, которые в другое время обратились бы в чуткое счастье, сейчас происходили как бы помимо меня. Текла над головой пыльца созвездий, мелькали леденцы редких фонарей, а я все думал: как же можно так испортить человеку его чертов день рождения? Нахохлившийся ребенок лет десяти, приученный к тому, что хотя бы день в году все договорились его радовать, прощать и ни в коем случае не огорчать, чувствовал себя, то есть меня, обманутым. Разве я требовал подарков, хороводов и песни «Каравай, каравай»? Между тем не сам ли я пытался договориться с этим мальчиком, чтобы он принимал день рождения, как всякий другой день?
Странно, невзирая на свою безупречную правоту, я чувствовал, что даже в этой ужасной ситуации Варвара Ярутич ухитряется оставаться восхитительной, непостижимо талантливой, и хотелось запомнить, любовно сохранить все, что она делает и говорит.
Наконец мы дотащились до ворот. Сладкую мысль о перебрасывании рюкзака через ограду в четыре часа ночи, о прогулке до станции я утомленно отверг, улегся на узкой кушетке в кошачьей комнате и уснул.
5
Вскоре утреннее солнце вошло в комнату, точно многоцветный звон. На окнах не было штор. Проспав каких-нибудь три часа, я не узнал места пробуждения, попытался вернуться в сон, но допущен не был. Потом собрался с духом, вспомнил события вчерашнего вечера и ночи.
Солнце просвечивало белые шлемы лилий, валялось в траве, грело стволы сосен. Сад цвел по-райски щедро и по-японски тонко. Ужасные сцены минувшей ночи больше не ужасали, боль обиды оказалась многослойно увернута во что-то мягкое, и распаковывать ее не хотелось. Мысли притупились, и единственное, что я чувствовал напрямую, – красоту. Сейчас я был теплым замшелым камнем из летнего сада, ощущая мир и свою прежнюю жизнь на каменный лад.
В дверь тихонько поскреблись. Вошла Варвара, улыбаясь, точно ведьма эпохи Возрождения. Как ни хотелось мне оставаться нагретым камнем посреди июльского сада, пришлось посмотреть на веселую злодейку. Она, похоже, думать забыла о вчерашних неприятностях, щебетала о Герберте, который – вот дундук! – грыз несъедобный утеплитель. Она хотела было залезть в постель, но кушетка неожиданно взяла мою сторону и застонала с такой ревматической силой, что Варя кротко уселась на край и вместе со мной воззрилась на солнце, гуляющее по саду.
– Хочешь, я приготовлю завтрак и мы сядем под дубом? – спросила она, нежно разглядывая листья на перголе.
Вместо того чтобы спросить про ближайшую электричку или на худой конец потребовать извинений, я просто кивнул и закрыл глаза. От недосыпа веки двигались мешковато, к тому же с закрытыми глазами я видел все тот же сад с танцующим солнцем, только нарисованный немного по-другому.
6
На круглом столе под огромным дубом лежала сухая веточка со скрученными листьями. С дуба спускался на четырех цепях граненый фонарь, внутри серел оплывший свечной огарок. Усевшись в складное кресло, я слушал журчание воды, бегущей в Малый пруд, и следил за отсветами на листьях и цветах. Казалось, ритм ручейных звуков и колышущихся бликов – две стороны одного и того же ленивого счастья.
Счастье сада состояло в том, что в мире не было событий. Значит, никто ни перед кем не был виноват, никто никого не мог обидеть, а самое важное – это витражный блеск стрекозьих крыльев, сетка дрожащей серебряной ряби на боку камня, птичьи голоса высоко в листве.
Проснулась Ольга, завтрак пришлось отложить до тех пор, пока она не будет готова к нему выйти. Впрочем, время в саду все равно отменилось, а где нет времени, нет ожиданий, а если и есть, то они легки, точно тень прозрачного облака. Полуспя под дубом, я думал о том, что Варя вечно заставляет меня сравнивать ее с матерью. Трудно понять, откуда взялась эта игра, причиняет ли она дочери терзания или щекочет какими-то соблазнами. Во всяком случае я не подавал для такой игры ни малейшего повода. Время от времени Варвара с вызывающей игривостью спрашивает:
– Как по-твоему, кто красивее: я или мама?
Этот вопрос вызывает недоумение. Зачем она его задает? Что хочет услышать? Мои предпочтения – если, конечно, это слово вообще уместно в ситуации, когда никого ни с кем не сравнивают, – очевидны: я встречаюсь с Варей, у нас роман, возможно однажды мы поженимся. Впрочем, разве мы всегда выбираем лучшее? И всегда ли мы вообще выбираем? Ответ «Люблю одну тебя» Варвару не успокаивает и даже слегка раздражает.
В шаге от меня промчались одна за другой две собаки и скрылись в кустах по ту сторону перголы. Они исчезли так скоро, словно их и вовсе не было. Но колокольчики продолжали тревожно качаться, выходит, собаки мне не померещились.
Наконец Ольга закончила прихорашиваться и вышла из дому. Тень дуба не приглушала ее сияния. Ольга – женщина, которая явилась из древних языческих преданий и однажды непременно воцарится в новых легендах, если наш век еще способен что-то слагать и помнить. Внешность Вариной матери древнерусская, из тех веков, когда в степные славянские крови уже вторгалась северная, варяжская. Высокая статная Ольга светла, величава, и красоту ее трудно отделить от здоровья: чтобы восхититься, достаточно посмотреть на ее румянец, белозубую улыбку или младенчески яркие белки глаз. К тому же у нее великолепный голос, она прекрасный гончар и керамист, а также поэт, чьи книги восхищают многих понимающих людей. Ольга была мечтой, запретным видением мальчиков и мужчин с тех пор, как стала солисткой школьного рок-ансамбля, где пела, танцевала и играла на дудочке, название которой я забыл.
Сейчас она шествовала в длинной светло-серой тунике с простым черным рисунком по краю, радушно приветствовала нас и милостиво согласилась выпить с нами кофе. Варя, отказавшись от моей помощи, сновала между домом и садом, доставляя на бамбуковом подносе кофейник, молочник, чашки, хлеб, деревенское масло в керамической масленке Ольгиной работы. Рваные и путаные тени накатывали на стол, солнечные пятна катились туда-сюда беззвучными монетами. Было хорошо, причем удовольствие ощущалось как-то шире меня, я был только одним из его орудий, одной клавишей, одной нотой его садовой партитуры.
Потом переместились на берег Свиного пруда, куда постепенно стали стягиваться псы, уваливаясь черно-рыжими шубами, копнами и кочками вокруг наших кресел. Тут открылось удивительное, причем не сразу, а шаг за шагом. Мне всегда казалось, что Ольга гораздо выше Вари, крепче, сильнее, что мать – из эпоса, а дочь – из песни. Прежде я думал, что они даже не слишком похожи. А теперь, пока мы беседовали на берегу Свиного пруда, выяснилось, что мать и дочь одного роста, у них похожи фигуры, лица, волосы, они одинаково двигаются, хмурятся и смеются. Причем оставалось категорически непонятно, кто из них подстраивается под другого, кто подражает и мимикрирует. Вроде бы обе женщины оставались самими собой, они не менялись относительно собственного узнаваемого образа. Однако вчера у них не было ничего общего, а сегодня они казались чуть ли не двойняшками.
Из воды торчит круглый камень, совсем маленький, словно сгиб указательного пальца, притом детского. Вдруг на камень садится бабочка, несколько раз складывает-раскладывает темно-пастельные крылья и наконец замирает, греясь на солнце. Камня под ней вовсе не видно, и кажется, что бабочка сидит прямо на глади карей воды. В это так же трудно поверить, как в хождение человека по зеркалу волн. Стоит бабочке немного замочить крылья, и она не сумеет взлететь. Можно было выбрать камень побольше, где она оказалась бы в полной безопасности. Но, видимо, бабочке как раз приятно очутиться под горячими лучами солнца и одновременно в близости прохладной воды. Все наслаждения разом – это и есть максимальный риск. Меньше риска – меньше удовольствия.
Из медвяной дрожи полусна слышу, как Ольга и Варвара рассказывают о какой-то женщине, соседке, что ли. Голоса их сделались одинаковыми, у меня было полное ощущение, что один и тот же голос перелетает с восточного берега пруда на западный. Правда, с дальнего берега он разговаривал со мной на вы, а с ближнего – на ты.
– Вы не знаете, кто такая Арина. Она в доли секунды ухитряется вычислить, как вас поставить в неловкое, в немыслимое положение.
– И не просто вычисляет, но сразу и ставит. Оглянуться не успеешь, как тебе хочется под землю провалиться. Хотя ты прежде с Ариной не встречался, ничего худого не делал…
– И сразу, как втопчет в грязь, она станет вам лучшим другом.
– Глазом не моргнешь, а она тебя обожает.
Они болтали, насмешничали, щебетали, а я лениво плыл в этом солнечном, птичьем мелькании, таял в плавном покачивании на причале полусна. Сегодня – если к безвременью приложимо слово «сегодня» – у меня не было ни малейшего сомнения в том, что день пройдет мирно и обе женщины, мать и дочь, заботятся о блаженстве беседы и о моем счастье – не искупая вчерашнюю вину, этого они чувствовать не могли, а только отдаваясь течению момента. Мне же казалось, что в эдемском саду все сговорились ласково покачивать мою душу в прогретом покое и неубавляемой красоте.
7
– Пусть тебе привидится шахматная доска: темные клетки – водоемы (шахты, пруды, колодцы). Светлые – пустыни, деревянные полы, спина льва. Ты перескакиваешь с бархана на паркет, видишь кораллы и камешки в воде. А потом оказывается, что ты королева, которая всех победила.
– А тебе пусть приснится пруд с игривыми зеркальными карпами. Они плавают у самой поверхности, шевелят своими хвостами-плавниками, а ты капаешь цветной тушью. От ударов хвостов тушь принимает разные формы, складывается в образы, а ты бумагой снимаешь с пруда готовые картины.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































