Текст книги "Кладовая солнца. Повести, рассказы"
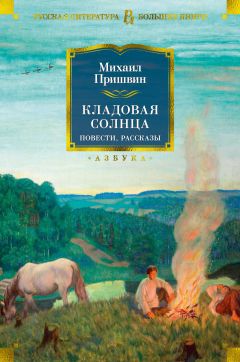
Автор книги: Михаил Пришвин
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Черный Араб
Аулы откочевали, колодцы пересохли, но мы все-таки ехали вперед, на летнее пастбище, к баю Кульдже, прозванному степным царем.
Блеснуло пресное озеро. Показалась долина, полная гнедых коней. Начались аулы родственников Кульджи, его табунщиков и барантачей – степных воров – для устрашения недобрых людей. «Мудрейший» судья пастухов – бай Кульджи – мог всегда усмирить непокорного, угнав его табуны.
Длинное Ухо давно уже разнесло весть о необычайном джигите на пегатом коне, едущем в гости к степному царю. Владелец восьми тысяч голов степных коней выслал навстречу чужестранному гостю и его спутникам шестнадцать молодых джигитов на лучших бегунцах всех мастей. Впереди ехали поэт, певец, музыкант и учитель, за ними – молодцы в лисьих и бараньих малахаях, на седлах, украшенных серебряной резьбой.
Все они проводили нас к аулу Кульджи – ко многим юртам, белым, как чайки. Седовласый, старейший в ауле аксакал вышел нам навстречу, приложил руку к сердцу и поднял войлок, закрывающий вход в юрту степного царя.
Тут просторно, как в зале. Драгоценные ковры и халаты сложены в кованые сундуки: все готово к перекочевке с летнего пастбища на зимнее стойбище. Кульджа доживал здесь последние дни, развлекаясь охотой с орлами и соколами.
Теперь он сидел против двери на ковре и писал, пользуясь голенищем своего сапога, как столом. Бархатная, шитая золотом шапочка только чуть обрезывала круглый, широкий тыквенный лик «отца пастухов». Маленькие, затерявшиеся на желтом просторе, будто сонные, но все замечающие глазки и широкий халат, прикрывающий вместилище не одного ведра кумыса, – так отлила степь своего царя.
За спиной Кульджи, неподвижная, как статуя китайской богини, сидела его старшая жена: байбича. По левую руку ее на блюде лежали два больших куска масла, по правую сидели три бронзовых мальчика – дети Кульджи, а впереди, на виду, стояла гордость старшей жены степного царя – швейная машина Зингера.
Мы вошли и прижали руки к сердцу. Кульджа прижал свою руку к своему царскому сердцу и спросил о здоровье наших рук и ног. Мы отвечали тем же и, усаживаясь, спросили:
– Слыхал ли отец пастухов о нас, едущих к нему вот уже месяц в степи?
– Э! – кивнул Кульджа в знак согласия.
– По Длинному Уху? – спросили мы.
– Слово бежит в степи всегда по Длинному Уху, – ответил степной царь. – Великое дело – слово, но оно же и губит племя Адама. Вот оно сейчас принесло весть о хорошем госте; мы рады: хороший гость, с хорошими пожеланиями – и овца приносит двух ягнят. Но Длинное Ухо доносит весть и о плохом госте: после такого гостя последнюю овцу уносит волк.
– Э! – согласились поэт, певец, музыкант и учитель.
– Что привело гостей в нашу землю? – спросил Кульджа.
– Привлекает посмотреть страну, – ответили мы, – где люди живут так, как жили все люди в глубине веков.
– Углубления и ямы страны, – ответил царь пастухов, – существуют только для тех, кто еще мало видел и мало знает, а на деле все просто. Но в этом случае гость прав: это лучшая в мире страна Аркá – значит, хребет земли. Гость не ошибся. Гостю есть что посмотреть.
Степной царь сделал знак поэту. Он приподнял дверь, и мы вышли смотреть счастливую страну пастухов Аркá.
Вечерело. Стада собирались, – лучшее время в степи. Где-то, гоняя с сопки на сопку, ловят одичавшую лошадь. Верблюдицы шагают, оглядываясь на верблюжат. Козлы идут впереди, бараны – позади. Табуны сходятся со всех сторон. Вечером степь живет любовною жизнью: все собирается.
– Это мои табуны, – указал хозяин в одну сторону, и в другую, и в третью, и в четвертую.
Без канав, без оград во все стороны было хозяйство степного царя-родоначальника: в долине белели юрты дяди Кульджи, и брата, и другого брата. За сопкой жил сват, за горою еще сват и бесчисленные бедняки, работавшие на богатых. И теперь, когда солнце садилось, там тоже сходились стада. Вся живая степь встречалась.
Навстречу стадам из юрт выходили женщины в белых платках и с ведрами в руках.
– Эта юрта моей матери, – указал хозяин на большую белую юрту, – эта – старшей жены, эта – младшей, эта – жены, доставшейся мне от покойного брата.
Все юрты стояли большим кругом и будто ожидали, когда все наполнится между ними животными.
Одних ягнят и козлят отвязывали, других привязывали. Разлученные на день с матерями, малыши радостно встречались и тыкали в сосцы носами. Козлят и ягнят дойных матерей вязали на длинную веревку – овцевязь – голова к голове. Женщины отпускались в стада для доения. Мужчины, осторожно охватывая руками задние ноги кобылиц, тоже доили, как и женщины. Девочка боролась с козой, мальчуган мчался на двух баранах, на одной лошади ехали три маленьких бронзовых бога. И везде лилось молоко. И пахло острым овечьим сыром. И крик был от ягнят и козлят, заглушающий всякий говор.
Степному царю было хорошо показать гостю свое богатство. Он и сам шагнул к стаду, посмотрел на женщин, доящих коз, посмотрел, как ловко, обманывая жеребятами, пастухи доили кобылиц и верблюдиц, и, когда достиг середины круга, наполненного животными, сам опустился в стадо и сел верхом на большого барана, чтобы выщипать на его лбу метку.
В соседних аулах почуяли гостя и пир в честь его. Первые приехали два муллы в белых чалмах, сели на землю, поджав ноги, не сводя глаз с хозяина, сидящего верхом на баране, озаренного красными косыми лучами уходящего солнца. Приехал дядя Кульджи, бий (судья) – огромная туша, скосившаяся от жира на седле. С ним приехал его сын Ауспан с белым соколом на руке и с филином, горбоносый красивый юноша, сам похожий на кречета. Приехал на белом аргамаке и другой дядя Кульджи и с ним три провожатых на вороных аргамаках. Приехал Джанас из долины Пестрой Змеи, похожий на Авраама, с сыновьями, похожими на Каина и Авеля. С ним приехали толстобрюхий с тюленьей головой, и другой толстобрюхий с крысиными хвостиками, и третий толстобрюхий с обкусанными крысиными хвостиками. Слегка наклонившись к луке, в ряд по двое, по трое, по четверо, на вороных, на белых, чубарых, соловых, гнедых, мухортых, всяких мастей аргамаках съезжались со всех сторон степи всадники в широких халатах, стройные и высокие горцы и толстобрюхие жители долин. Из ближайших аулов пешком сходились старцы, усаживаясь кругом возле юрт Кульджи. А вдали уже резали для гостей лошадь, и дымились внутри юрт костры, и стучали, сбивая кумыс.
Красавец Ауспан подарил Кульдже филина, пойманного им сейчас на охоте. Его драгоценными перьями красавицы аула украшают свои алые шапочки, а самую птицу, ощипанную, не убивают, а пускают в степь. И бывает, скачет эта птица, голая, с большой головой, мчится жертва красоты в буран страшнее черного перекати-поля.
Кульджа очень благодарил Ауспана за птицу и отправил ее в юрту младшей жены. Солнце село, показались первые звезды; хозяин, указав рукою на юрту старшей жены, сказал:
– Время рот раскрывать!
Белые чалмы мулл склонились у дверцы; за ними склонился зеленый малахай и большой лисий малахай судьи и всех гостей. Последними вошли поэт, певец, музыкант и учитель.
Оба муллы заняли место против двери, обращенной к Каабе, и от них по правую руку кругом до спящего орла – все другие гости. Хозяин, жена и дети сидели по левую руку. Когда все разместились, громче застучали слуги, сбивающие в турсуках кумыс. На низкий стол поставили сахарницу и вокруг нее горкой насыпали хлебные шарики, барсаки, белые, красные пряники, царскую карамель и два больших куска масла. В огромный черный котел опустили разделанную красную тушу лошади.
Еще виднелось вверху розовое небо, и потому никто из правоверных не смел взять на столе лакомства и коснуться губой чашки с кумысом: была великая ураза (пост), рамазан, во время которого мусульманин может есть только ночью.
Своим гостям, иноверцам, хозяин, однако, кивнул головой на масло.
Как есть его без ножа и вилки? Разве попробовать отмазать немного хлебным шариком?
Не удалось: сухой шарик рассыпался.
Кульджа улыбнулся, взял в руки кусок масла, обнажил белые зубы и сказал:
– Грызите!
Мало-помалу стемнело. Хозяин взял себе на колени огромную чашку с кумысом и, помешивая большой резной ложкой, стал разливать в малые чашки гостей. Раскрылись рты, и целебная жидкость полилась, творя под халатами тепло и счастье.
– Что нового расскажут ученые гости пастухам о других виденных ими странах? – спросил судья.
– Недавно мы видели, – ответили мы, – такую страну, где летом солнце не заходит и ночей не бывает.
– Как же там постятся мусульмане? – сказал строго мулла. – Гость ошибается: нет такой страны.
И многие засмеялись над гостем, рассказывающим пастухам небылицы.
Хозяин вступился за гостя и сказал:
– Есть такая страна!
Мулла вскочил. Многие вскочили с мест, оставив кумыс. Поднялся спор и шум, и последнее слышанное и понятое нами слово было: «шерегат».
Когда все стихло, учитель нам рассказал, о чем спорили магометане.
Кульджа слышал о географии, верил в нее и, ссылаясь на светскую науку, говорил: «Есть на свете страна незаходящего солнца». Мулла говорил: «Нет такой страны, потому что в таком месте всегда светло и мусульмане не могут поститься». Кульджа все твердил: «География», – пока мулла не сослался на шерегат, который не может ошибиться. На это разгневанный степной царь крикнул: «Шерегат не прав!»
Вот тогда-то все вскочили и долго кричали, пока другой, более мудрый мулла не помирил всех простыми словами: «Страна незаходящего солнца есть, но там нет мусульман».
Это всех успокоило, и все снова протянули свои чаши за кумысом к степному царю.
И полилось кислое, пьянящее молоко на разгоряченные сердца. И лилось бы в молчании долго-долго, если бы Ауспан не вскочил и не выбежал из юрты с ружьем в руке.
Все услыхали топот и подумали: волк гонит испуганный табун.
Но выстрела не последовало. Ауспан вернулся с новым гостем. Это прискакал вестник Длинного Уха. Он ехал шагом и задремал в седле. Смеркнулось, стало темно. Джигит очнулся: нет дороги, нет гор и аулов, и везде только звезды и волчьи глаза. Всадник поехал по звездам и прискакал к аулу Кульджи.
– Аманба, аманба! – повторял заблудившийся, грея у костра руки.
– Аман! – отвечали ему и спрашивали: – Есть ли новости, хабар бар?
– Бар! – отвечал заблудившийся. – В долине Потерянный Топор украли просватанную девушку Нур-Джемеля. Жених потребовал возвращения калыма. Хозяин отказал. Жених сам угнал лошадей у отца невесты и теперь на берегу ручья сидит и ест одну из отбитых лошадей.
– Кто украл невесту?
– Не знаю, – ответил гость, – степь велика!
– Степь велика, – повторил степной царь и спросил: – Нет ли еще чего нового?
– Видел белую галку, – ответил гость.
– Белую? Мулла, есть ли белые галки?
– Есть, – ответил мулла.
– Йо! – удивились все.
Еще видел вестник Длинного Уха, как перед зарею проскакала желтоволосая и желтоглазая Албасты.
– Это бывает! – сказали пьющие кумыс.
– Еще видел, как после заката впереди уходил козел, неся в зубах легкое.
– И это бывает! – сказали люди в халатах.
– Еще видел при наступлении ночи черного зайца.
– Черного! Мулла, есть ли черные зайцы?
– Йо-о! – удивился мулла и щелкнул языком, ничего не сказав.
– Еще слышно, будто люди стали летать, как птицы.
– Йо-о!
– Еще слышно, будто люди пришли на то место земли, над которым стоит неподвижная звезда Темир-Казык, и что там вечная тьма.
– Мулла, есть ли такая страна?
– Есть, – ответил мулла.
– Что же еще есть нового в степи? – допрашивали люди, пьющие кумыс.
– Еще что? – повторил гость. – Еще вот уже два месяца от всадника к всаднику, от аула к аулу бежит слух, будто едет по степи Черный Араб и обертывается то святым, то чертом, не берет от степи ни твердого, ни мягкого, ни горького, ни соленого.
– Он здесь! – сказали пьющие кумыс гостю, и тот в ужасе раскрыл рот.
«Нет, – подумали мы, – здесь уже нет Черного Араба. Здесь у костра сидит обыкновенный киргиз в широком халате и зеленом малахае, его теперь все знают, он – как все. А тот все едет до настоящей пустыни, до низких звезд, где только дикие кони перебегают от оазиса к оазису. Теперь тот настоящий араб, а не этот».
На всю ночь запировал степной царь в юрте старшей жены. Восемь тысяч вечно жующих отделяют эту юрту от юрты молодой жены. Светит последняя четверть девятого месяца лунного года. Завтра снимутся эти последние юрты с летнего пастбища. Снег занесет степь, ничего не останется.
Молодая жена, дочь благородного хаджи, садится перед своим костром и красит по-девичьи свои ногти в красный цвет и расплетает свои волосы на двенадцать кос, будто девушка. Берет свою алую шапочку, выдергивает драгоценные перья из живого филина, подаренного ей возлюбленным, по-девичьи, будто весной, украшает шапочку перьями мудрой птицы, и падают двенадцатью черными змейками косы из-под перьев на смуглую шею.
Спят все восемь тысяч голов. Даже сторожевой козел Серке подгибает колени. Молодая овечка встала, почесалась ножкой и опять легла.
Придерживая рукой звонкие монеты, крадется жена, одетая девушкой, к кустам чиевника и шепчет:
– Это ты, мой медный кувшинчик?
– Это я, моя тонкогубая деревянная чашечка, – отвечает кувшинчик. – Это я – здоров ли язык?
– Язык здоров, на сердце боль.
– Болит твое сердечко, скушай яблочко с базара.
Рассыпались черные змейки по желтому лицу. Желтый месяц. Желтое яблочко. Желтые щеки возлюбленного.
– Желтым, желтым, очень желтым видела я тебя во сне.
– И тебя я видел желтой, но твои волосы чернее чернил муллы.
– И твои, дорогой!
– Твои очи темней обожженного пня.
– И твои.
– Твои щеки алее крови зарезанного барана. Твои груди – как свежее масло. Твои очи – как серп новолунья.
– Клянись, – просит она, – обернись к луне, загни ноготь своего большого пальца.
Он повертывается к луне.
…А утром чубарый козленок пробрался в юрту гостей, лизнул их лица и разбудил. Степной царь уже отдал приказ к перекочевке.
Верблюды лежали перед юртами. Женщины снимали войлоки, обвивая ими горбы. Мужчины выдергивали деревянные кривые палки и тоже привязывали к горбам. Так, одна за одною, как сон, исчезали белые юрты: самого степного царя, его матери, его старшей жены и все другие. Когда разобрали юрту молодой жены, выскочил голый, совершенно ощипанный филин с огромной головой и поскакал в степь.
Караван двинулся тоже в ту сторону.
Скачет ощипанный филин. Катится черное перекати-поле. Полк за полком уводят старые журавли молодых в теплые края. Верблюды все шагают и шагают, попадая широкой мозолистой ступнею в старый след на кочевой дороге.
Проходят караваны, встречаются и разъезжаются степные всадники. Ищут колодец с живой водой. Спрашивают, где обетованная страна?
Одна в одну, как в зеркале, глядят голые сопки. И затерялся караван на этой желтой земле. Выбились из сил и остановились верблюды. Повертывают во все стороны свои птичьи шеи. Узнают и не могут узнать. Вспоминают и не могут вспомнить.
И немного осталось им времени думать: вот уже падает снег.
Бессильные, подгибают они колени и ложатся возле пересохшего колодца, протянув к камням длинные шеи и свесив пустые горбы.
Ревекка не выходит с кувшином из белых шатров напоить их: не та земля, не тут страна Ханаанская.
А в настоящей пустыне, где земля без людей и трава лежит серо-красная, от оазиса к оазису несут дикие кони весть о Черном Арабе. За этой пустыней текут семь медовых рек; там не бывает зимы; там будет вечно жить Черный Араб.
Жень-шень
I
Звери третичной эпохи земли не изменили своей родине, когда она оледенела, и если бы сразу, то какой бы это ужас был тигру увидеть свой след на снегу! Так остались на своей родине и страшные тигры, и одно из самых прекрасных в мире, самых нежных и грациозных существ – пятнистый олень, и растения удивительные: древовидный папоротник, аралия и знаменитый корень жизни Жень-шень. Как не задуматься о силе человека на земле, если даже оледенение субтропической зоны не могло выгнать зверей, но от грохота человеческих пушек в 1904 году в Маньчжурии они бежали, и, говорят, тигров встречали после далеко на севере, в якутской тайге. Вот и я тоже, как звери, не выдержал. Как гудел роковой снаряд, подлетая к нашему окопу, я слышал и отчетливо помню и посейчас, а после – ничего. Так вот люди иногда умирают: ничего! За неизвестный мне срок все переменилось вокруг: живых не было, ни своих, ни врагов, вокруг на поле сражения лежали мертвые люди и лошади, валялись стаканы от снарядов, обоймы, пустые пачки от махорки, и земля была, как оспинами, покрыта точно такими же ямами, как возле меня. Подумав немного, я, химик-сапер, вооруженный одним револьвером, выбрал трехлинейку получше, набрал в свой ранец патронов побольше и не стал догонять свою часть. Я был самый усердный студент-химик, меня сделали прапорщиком, я долго терпел и, когда воевать стало бессмысленно, взял и ушел, сам не зная куда. Меня с малолетства манила неведанная природа. И вот я будто попал в какой-то по моему вкусу построенный рай. Нигде у себя на родине я не видал такого простора, как было в Маньчжурии: лесистые горы, долины с такой травой, что всадник в ней совершенно скрывается, красные большие цветы – как костры, бабочки – как птицы, реки в цветах. Возможно ли найти еще такой случай пожить в девственной природе по своей вольной волюшке! Отсюда недалеко была русская граница с точно такой же природой. Я пошел в ту сторону и скоро увидел идущие в гору на песке по ручью бесчисленные следы коз: это валила к нам в Россию на север через границу маньчжурская ходовая[1]1
Аналогично перелету птиц у животных существует своя миграция, особенно заметная на Дальнем Востоке. (Здесь и далее примеч. М. М. Пришвина.)
[Закрыть] коза и кабарга. Долго я не мог их догнать, но однажды, за перевалом, где берет начало речка Майхэ в горной теснине высоко над собой, на щеке увидел я одного козла, – он стоял на камне и, как я это понял, почуял меня и стал по-своему ругаться. В то время я уже истратил все свои сухари и дня два питался белыми круглыми грибками, которые потом, созревая, пыхают под ногами: эти грибки, оказалось, были сносною пищей и возбуждали, почти как вино. Козел мне теперь на голодуху был очень кстати, и я стал в него целиться особенно тщательно. Пока мушка бродила по козлу, мне удалось рассмотреть, что пониже козла под дубом лежал здоровенный кабан, и козел на него ругался, а не на меня. Я перевел мушку на кабана, и после выстрела откуда-то взялось и помчалось целое стадо диких свиней, а на хребте, на обдуве, всполыхнулась не видимая мне вся ходовая коза и помчалась стремительно вдоль Майхэ к русской границе. В той стороне виднелись на сопках две фанзы с небольшими пятнами китайской пашни. Хозяева-китайцы охотно взяли у меня кабана, покормили и дали мне за мясо рис, чумизу и еще кое-какое продовольствие. После того как оказалось, что патроны – та же валюта в тайге, я стал чувствовать себя очень хорошо, довольно скоро перешел русскую границу, перевалил какой-то хребет и увидел перед собой голубой океан. Да, вот за одно только за это, чтобы увидеть с высоты перед собой голубой океан, можно бы отдать много трудных ночей, когда приходилось спать на слуху, по-звериному, и есть, что только придется достать себе пулей. Долго я любовался с высоты, считая себя по всей правде счастливейшим в мире человеком, и, закусив, начал с гольцов спускаться в кедровник, а из кедровника мало-помалу вступил в широколиственный лес маньчжурской приморской природы. Мне сразу же особенно понравилось бархатное дерево своей простотой, почти как наша рябина и в то же время не рябина, а бархат: пробковое дерево. На серой коре одного из этих деревьев были черные от времени русские слова: «Твоя ходи нельзя, чики-чики будет!» Что было делать? Прочитав еще раз, я подумал немного и, соблюдая таежный декрет, круто повернул назад, чтобы найти другую тропу. Между тем меня наблюдал человек за деревом, и, когда я повернул, прочитав запрещение, он понял, что я неопасный человек, вышел из-за дерева и замотал головой в стороны, чтобы я его не боялся.
– Ходи, ходи! – сказал он мне.
И кое-как по-русски объяснил мне. Три года тому назад этот распадок был захвачен китайскими охотниками: тут они ловили изюбров и пятнистых оленей, а это написали для страху, чтобы другие не ходили тут и не пугали зверей.
– Ходи-ходи, гуляй-гуляй! – с улыбкой сказал мне китаец. – Ничего не будет.
Эта улыбка и пленила меня, и в то же время привела в некоторое замешательство. В первый момент китаец мне показался не только старым, но даже очень древним человеком: лицо его было сплошь покрыто мелкими морщинами, цвет кожи был землистый, глаза, едва заметные, прятались в этой сморщенной коже, похожей на кору старого дерева. Но когда он улыбнулся, то вдруг загорелись черным огнем прекрасные человеческие глаза, кожа разгладилась, оцветились губы, сверкнули еще белые зубы, и все лицо во внутреннем смысле своем стало юношески свежим и детски доверчивым. Так бывает: иные растения в непогоду или на ночь закрываются серыми щитками, а когда станет хорошо, открываются. С каким-то особенным родственным вниманием посмотрел он на меня.
– Мал-мало кушать хочу, – сказал он и повел меня в свою маленькую фанзу у ручья, в распадке, под тенью маньчжурского орехового дерева с огромными лапчатыми листьями.
Фанзочка была старенькая, с крышей из тростников, обтянутых от сдува тайфунами сеткой; вместо стекол на окнах и на двери была просто бумага; огорода вокруг не было, зато возле фанзы стояли разные орудия, необходимые для выкапывания Жень-шеня: лопаточки, заступы, скребки, берестяные коробочки и палочки. Возле самой фанзы ручья не было видно, он протекал где-то под землей, под грудой навороченных камней, и так близко, что, сидя в фанзе с открытой дверью, можно было постоянно слушать его неровную песню, иногда похожую на радостный, но сильно приглушенный разговор. Когда я прислушался в первый раз к этому разговору, мне представилось, будто существует «тот свет» и там теперь все разлученные, любящие друг друга люди встретились и не могут наговориться днем и ночью, недели, месяцы… Мне суждено было много лет провести в этой фанзе, и за эти долгие годы я не мог привыкнуть к этим разговорам, как перестал замечать после концерты кузнечиков, сверчков и цикад: у этих музыкантов до того однообразная музыка, что через самое короткое время их перестаешь слышать, – напротив, они, кажется, для того только и созданы, чтобы отвлекать внимание от движения собственной крови и тишину пустыни делать полной, какой никогда бы она не могла быть без них; но я никогда не мог забыть разговор под землей оттого, что он всегда был разный, и восклицания там были самые неожиданные и неповторимые.
Искатель корня жизни приютил меня, покормил, не спрашивая, откуда я и зачем сюда пришел. Только уж когда я, хорошо закусив, добродушно поглядел на него и он ответил мне улыбкой, как знакомый и почти что родной человек, он показал рукой на запад и сказал:
– Арсея?
Я понял сразу его и ответил:
– Да, я из России.
– А где твоя Арсея? – спросил он.
– Моя Арсея, – сказал я, – Москва. А где твоя?
Он ответил:
– Моя Арсея – Шанхай.
Конечно, так пришлось и сошлось в нашем языке «моя по твоя» совершенно случайно, что и у него, китайца, и у меня, русского, была как будто общая родина Арсея, но потом, через много лет я эту Арсею стал понимать здесь, у ручья, с его разговорами и считать просто случайностью, что когда-то Арсея Лувена была в Шанхае, а моя Арсея в Москве…
Всего только шагах в двадцати от фанзы начиналась непролазная крепь, дубняк и бархатное дерево, мелколиственный клен, граб и тисс, крепко-накрепко перевитые лианами лимонника и винограда, колючками с высокой, саженной полынью и той самой сиренью, которая встречается у нас только в садах. Лувен, спускаясь часто за водой, пробил здесь тропу, и эта едва заметная тропка, обходя крепкое место, вскоре приводит к обрыву, и тут весь разговор, слышимый возле фанзы, как бы на том свете, вырывается наружу: поток, являясь на белый свет из-под скалы, сразу же разбивается о встречный утес и летит вниз радужной пылью. Но и вся широкая отвесная скала немного сочится, всегда мокрая, всегда блестит, и эти ее бесчисленные струйки сливаются внизу в открытый и веселый поток. Никогда не забуду я этого счастья! Какая награда мне была за весь мой нелегкий переход искупаться в этом потоке! Там, назади, за хребтом гнус мне жить не давал, а тут, у самого моря, уже не было ни комаров, ни слепней, ни мошек. Пониже того места, где я купался, был водоворот в камнях; тут я оставил в стирку свое белье, сам же сел в купальню, а на голову мне сверху летели брызги, как душ. Вот этот шум падающей воды и скрадывал от животных всякий звук от ужасного для них человека, они доверчиво подходили к потоку напиться, и даже в самый первый раз я кое-что заметил в этой приморской тайге. Под сенью широколиственных деревьев на тенелюбивых травах всюду были разбросаны зайчики богатого солнца сорок второй параллели. Летом – время туманов, только в редчайшие дни это солнце показывается в приморье во всей своей возможной славе и силе, и так счастливо оно встретило меня в этот день. Среди солнечных зайчиков невозможно бы мне было заметить совершенно такие же пятна на красной шерсти животных, если бы они не двигались: пятнистые олени, полежав, наверно, где-нибудь тут вблизи, встали и пошли, перемещая свои пятна среди солнечных зайчиков, на водопой. Кто не слышал, приближаясь к востоку, об этом редчайшем звере приморской тайги, сохраняющем будто бы в своих рогах, когда они молоды и насыщены кровью, целебную силу, возвращающую людям молодость и радость? Сколько легенд я слышал об этих пантах, столь драгоценных у китайцев, что даже всем сказкам и небылицам придаешь какое-то значение. И вот эти самые знаменитые панты высунулись между двумя огромными листьями маньчжурского орехового дерева у самой воды, они были бархатистые, красно-персикового цвета, на живой голове с большими прекрасными серыми глазами. И только Серый Глаз наклонился к воде, рядом показалась безрогая голова с еще более прекрасными глазами, но только не серыми, а черно-блестящими. Около этой ланки-самки оказался молодой олень с тонкими шильцами вместо пантов и еще совсем маленький олененок, крошечная штучка, но тоже с такими же пятнами, как у больших; этот маленький залез прямо в ручей со всеми своими четырьмя копытцами. Мало-помалу олененок, подвигаясь вперед от камушка к камушку, стал как раз между мной и матерью, и когда она захотела проверить его и посмотрела, то взгляд ее как раз попал на меня, сидящего истуканом в брызгах воды. Она замерла, окаменела, изучая меня, угадывая, камень я или могу шевельнуться. Рот ее был черный и для животного чрезвычайно маленький, зато уши необыкновенно большие, такие строгие, такие чуткие, и в одном была дырочка: светилась насквозь. Никаких других подробностей я не мог заметить, так захватили все мое внимание прекрасные черные блестящие глаза – не глаза, а совсем как цветок, – и я сразу понял, почему китайцы этого драгоценного оленя зовут Хуа-лу, значит – олень-цветок. Так трудно было представить себе того человека, кто, увидев такой цветок, прицелился в него из ружья и пустил свою страшную пулю: дырочка от пули так и светилась. Трудно сказать, сколько времени мы смотрели друг другу в глаза, – кажется, очень долго! Я едва переводил дух, мне становилось все трудней и трудней, и, вероятно, от этого волнения блики на глазах моих двигались. Хуа-лу это заметила, медленно стала поднимать переднюю ногу, очень тонкую, с маленьким острым копытцем, согнула ее и, вдруг с силой выпрямив, топнула. Тогда Серый Глаз поднял свою голову и тоже стал смотреть на меня с таким выражением, будто он с большой высоты хочет разглядеть какую-то неприятную мелочь и, не будучи в силах по природе своей замечать гадкие подробности жизни, смотрел, сохраняя достоинство властителя оленей, и только не говорил, как говорят иногда высокопоставленные маленьким просителям: «Я все готов сделать вам, только поскорее выясните, в чем тут дело, не самому ж мне выяснять!» В то время как топнула Хуа-лу и Серый Глаз поднял в недоумении свою величественную голову с короткими бархатистыми пантами, там, чуть-чуть пониже, много чего-то шевелилось и среди других голов одна большая подалась вперед, и показался весь олень с черной, отчетливой, как ремень, полосой на спине. Даже издали можно было понять, что Черноспинник не по-доброму смотрел, и в глазах его, черных и сумрачных, была какая-то недобрая затея. Не только все эти олени возле Черноспинника по сигналу Хуа-лу стали неподвижно созерцать меня, но и олененок из ручья, подражая взрослым, точно так же старался окаменеть. Мало-помалу он стал утомляться, а кроме того, конечно, его, как и всех оленей, ели клещи, он не выдержал скуки, поднял ногу и почесался. Тогда я тоже не выдержал, улыбнулся, и тут Хуа-лу уже поняла и решительно и так сильно топнула ногой, что камень отвалился и булькнул в воду с брызгами. После того она вдруг шевельнула своими черными губами и совершенно по-человечески свистнула, а когда повернулась и бросилась бежать, то раздула свою особенную широкую белую салфетку, чтобы следующему за ней оленю можно было следить, куда она будет мчаться в кустах. За матерью бросились саёк-олененок[2]2
Саёк – годовалый олень.
[Закрыть], Серый Глаз, Черноспинник и другие олени. Когда же все умчались, прямо на середину ручья выскочила хорошенькая ланка, остановилась и как будто спрашивала своей хорошенькой мордочкой: «Что случилось, куда они убежали?» Вдруг она бросилась через ручей в совершенно противоположную сторону, скоро очутилась на половине щеки распадка, посмотрела на меня оттуда сверху, опять бросилась, опять посмотрела со всей высоты и скрылась за чертой черной скалы и синего неба.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































