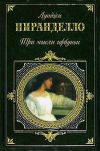Текст книги "Замечательные чудаки и оригиналы (сборник)"

Автор книги: Михаил Пыляев
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Когда волшебницей в «Жизели»
На легкой дымке вы летели.
И вдруг этой-то Андреяновой Паша Бултаков кинул на сцену мертвую кошку с привязанною к хвосту надписью «первая танцовщица».
Бултаков был «санковист», почитатель танцовщицы Санковской; орудием его был какой-то дюжий мещанин, который и бросил кошку из райка, с правой стороны сцены. Андреянова в это время танцевала в балете «Сатанилла». В тот момент, когда танцовщица и ее партнер Монтасю, окончив pas, остановились в чрезвычайно грациозной позе, к ногам Андреяновой упала кошка с длинной широкой лентой. Монтасю, поднял упавший предмет и, разглядев его, взглянул на публику и, откинув от себя далеко за кулисы кошку, выразил мимикой знаки укоризны, относящиеся к публике. Андреянова закрыла лицо руками и видно было по судорожным движениям груди и плеч ее, что она плакала. Смятение в публике и на сцене трудно было передать: в партере и ложах все встали, начали раздаваться крики участия к невинно пострадавшей артистке. Сцена наполнилась актерами в обыкновенных костюмах; они подходили к Андреяновой с знаками участия, публика кричала, топала ногами, стучала стульями и креслами; дамы махали платками. Затем на сцену посыпались венки, букеты, и буквально артистка была закидана ими. Полиция заметалась, мгновенно оцепили все ложи и раек, и в этот же вечер открыт был виновник глупого поступка.
Старшего брата, некогда блестящего остроумца, характеристику которого мы выше рассказали, в те года в Москве видели ходившим сгорбленным стариком; у него после отнялись ноги, и он доживал свой век на квартире у отца. Видеть этого оригинала можно было часа в три или четыре, – это было самое показное его время, к которому он успевал отмыть и приодеть себя от полуночного пьянства.
Он жил в одной просторной комнате, с прекрасным роялем и весьма незатейливой мебелью. На двухколесном кресле сидел он, свесив неподвижные, тщательно обутые в полосатые чулки и лаковые башмаки ноги, бодрый на вид, одетый с некоторым щегольством. Он днем по большей части играл на рояле в четыре руки с проживающим у него музыкантом и то и дело прикладывался к графинчику, стоявшему у него в шкапчике. Играл он довольно хорошо и вдохновенно; нередко музыка вызывала обильные слезы у нервнобольного Бултакова.
Глава XX
Индеец-ростовщик. – Алхимик Антон Маркович Гамулецкий. – Кабардинский принц. – Любитель гадалок. – Петербургские Филимон и Бавкида. – Человек-пушка. – Ходячая реклама портного. – Литература вывесок
В описываемые годы на стогнах столицы ежедневно можно было встретить одного или двух индейцев в живописном восточном наряде – и что замечательно было, такие все были ростовщики. В числе таких, о которых мы уже выше говорили, был еще один замечательный оригинал индеец Мунсурам.
Большая часть жителей, особенно те, которые хворали безденежьем, знали его под именем ростовщика Мажерама. Он жил более тридцати лет в доме Лаптева, в Малой Коломне, по Торговой улице, где занимал две небольшие комнаты. В первой комнате был простой письменный стол, четыре стула и небольшой кожаный старый диван; во второй комнатке был тоже диван с кожаными подушками, два стула и большой, окованный железом, сундук. Мунсурам вел жизнь правильную, строгую, летом и зимою он вставал в пять часов утра и ложился спать зимою в восемь, а летом в десять часов. Пища его была более чем умеренная, по утрам стакан молока с полуторакопеечным французским белым хлебом, за обедом каша из сарачинского пшена и небольшой белый хлеб с медом; он никогда не ужинал и не пил ни вина, ни чаю. Несмотря на свою глубокую старость, он был бодр и свеж, ему было далеко за восемьдесят лет.
Старик вел жизнь отшельническую, он был не словоохотлив, говорил по-русски хорошо, но писать не умел.
Из его рассказов видно, что он родился на Малабарском берегу, в городе Пуне, родителей своих не помнил, до пятидесяти лет он жил в Калькутте, занимался там торговлею и нажил порядочный капитал, в Россию приехал он в 1808 году, три года жил в Астрахани, а с 1811 года поселился в Петербурге. По религии он принадлежал к почитателям Брамы. Мажерам был ростовщик: он в первых числах каждого месяца постоянно являлся во многие присутственные места для получения вычета из жалованья задолжавших ему чиновников. В прихожей он смиренно дожидался по нескольку часов выхода экзекутора или казначея; разговаривал в это время с чиновниками и тут же иногда давал им деньги взаймы. Всем служащим вообще он давал деньги в ссуду под расписки за поручительством двух или трех чиновников, товарищей бравшего у него в долг деньги, и с засвидетельствованием на расписке экзекутора или казначея в верном платеже денег из жалованья должника.
Людям же незнакомым и неслужащим он давал взаймы не иначе как под верный залог. Мажерам был добрый и честный ростовщик, иногда бедным и особенно вдовам он давал без поручительства, на одну расписку, беря только одни законные проценты. Этот оригинал умер в Петербурге 14 октября 1833 года; еще за несколько дней до смерти он говорил: «Брама в лице Шивы зовет меня к себе. Я стар, пожил довольно, пора костям на покой». Желание его исполнилось, и душа его предстала на суд единого Бога, Бога христиан и язычников. Погребение Мунсурама, по обряду индусов, происходило на холерном кладбище, на Волковом поле, в ночь 17 октября, на среду. Кроме незначительного числа зрителей, привлеченных любопытством на зрелище сожигания трупа, собралось не более десятка его соотечественников. Тело Мунсурама лежало в деревянном гробу, в котором были разбросаны деньги, разноцветные драгоценные камни и разные безделушки. Подле одного болота сложен был костер дров, на нем поставлен гроб с покойником. Гроб обложили дровами, сверху набросали соломы и все это полили маслом. На это редкое в нашей столице зрелище публика смотрела с любопытством.
Огонь охватил понемногу весь костер и вдруг поднялся высокий столб яркого пламени, отражавший блеск свой на бледных лицах зрителей и на печальных могильных памятниках. Тишина и мрак ночи придавали этой картине какую-то таинственную торжественность. После некоторого времени пламя начало более и более понижаться, и, наконец, среди облака дыма представилась взорам груда пылающих углей, на которой лежало полуобгоревшее тело усопшего индейца. На вопрос одного из зрителей, – с какою целью сожигаете вы ваших мертвецов, – один из индейцев ответил: «Вы возвращаете тело одной стихии, а мы всем четырем – теперь предаем его огню, потом оставим пепел три дня на месте, чтобы земля и воздух взяли должную себе часть, а остатки бросим затем в море».
В начале нынешнего столетия на улицах Петербурга пользовался большою известностью между жителями столицы живой, веселый старичок, седой как лунь, всегда ходивший пешком, несмотря ни на какое расстояние, и до самой смерти не употреблявший никогда очков. Кто не слыхал о его замечательном кабинете дорогих замысловатых механических вещей и разного рода редкостей! Имя и фамилия этого общего любимца, слывшего у всех за алхимика и волшебника, были – Антон Маркович Гамулецкий. Сын полковника войск короля прусского, родился он в Царстве Польском в 1753 г.; в 1794 г. он переехал в Россию и определен на службу в рижскую полицию, в 1798 г. переведен в с. – петербургскую таможню, а в 1799 г. определен в с. – петербургскую полицию брантмайором; в этой должности, за отличное и усердное действие при тушении пожара на даче гр. Кушелева-Безбородка, именным указом императора Павла I, награжден чином коллежского регистратора и годовым окладом жалованья. После разных переходов служебных, в 1808 г. Гамулецкий определен был на службу в ведомство московского почтамта; в следующем году он оставил службу и завел контору комиссионерства. В Отечественную войну, потеряв от нашествия неприятеля все свое состояние, он оставил Москву и переселился в Петербург. Гамулецкий до последних дней своей глубокой старости не бывал болен, хорошо сохранил память, зрение и постоянно был весел и шутлив: он умер почти ста лет. По его словам, достиг он старости очень просто: до сорока лет он вел жизнь довольно рассеянную и не всегда правильную, впоследствии уже вошел в определенные границы, стал наблюдать за собою, подчинять себя умеренности и аккуратности, никогда не оставался без дела и, будучи постоянно в хлопотах и заботах, не падал духом и не предавался унынию.
Смерть его была тихая, покойная; похоронен он на Смоленском кладбище. Как мы выше сказали, Гамулецкий был большой охотник до всяких фокусных машинок и редкостей. У него был волшебный кабинет, между многими диковинками которого находилась большая голова: отделанная под бронзу и поставленная в особом месте на зеркальном стекле, голова явственно отвечала на предложенные вопросы.
Добрый старичок очень охотно показывал свой кабинет не только коротким приятелям, но и всякому шапочному знакомцу; в древности он бы весьма хорошо мог занять место гимнософиста в каком-нибудь египетском храме или управлять механическою частью дельфийского оракула, но в средние века он бы сильно рисковал попасть на костер инквизиции.
Мы уже рассказывали раньше о чудаке Чупятове, выдававшем себя за мароккского принца. Как бы в pendant к нему в тридцатых годах появлялся часто на Невском проспекте, в Летнем саду, на всех общественных гуляньях, другой такой полусумасшедший старик, очень приличного вида. Седая его голова внушала к нему почтение; носил он старый французский кафтан черного цвета, черное исподнее платье, черные шелковые чулки, летом башмаки с пряжками, которые заменялись иногда зимою обыкновенными сапогами. Кланяясь почтительно народу, он вызывал всякого на такой же поклон. На лице его, умном и почтенном, не заметно было и признаков помешательства. Он был принят во многих домах петербургского общества. Разговор его был приятен, умен, обхождение величественное, вполне соответствовавшее той роли, которую он на себя принимал. Старик воображал, что он происходил от царской крови владетельных кабардинских князей, и если разговор этого не касался, то речь старика была светская, живая, разнообразная, остроумная, но как только кто-нибудь начинал говорить о его высоком происхождении, то он вдруг принимал на себя вид претендента и с важностью, с достоинством, с силою и одушевлением, но без неприличия, не смешно и не глупо начинал доказывать права свои на престол, будто бы несправедливо похищенный у него кем-то. «Известно, – говорил он, – что в землях моих живут многие дикие горцы, которые враждуют с Россиею; они могут выставить войска от 70–80 тысяч человек; это мои подданные. Я должен бы был управлять всеми ими, но отец мой, который утеснял некоторые племена, восстановил их против себя, и они убили его раз ночью, а меня, еще грудного ребенка, спасла кормилица и вывезла в Россию, где я и вырос.
Я писал ко всем дворам Европы и просил участия их в моем деле и вспоможения, но не получил ответа. Я просил у разных лиц двадцать миллионов в ссуду. С этими деньгами я мог бы явиться к своим подданным, которые помнят меня и хотят видеть на троне. Впрочем, одно только племя ко мне враждебно, но остальные мне преданы.
Я хотел жениться на одной принцессе владетельного германского дома, и она согласна была принять мою руку; но здесь интриговали французский двор и Австрия. Невеста моя вышла замуж, и я очень скучал». Он говорил обо всем очень основательно, пока только не касалось его слабого пункта.
В обществе, когда ему предлагали чашку чая или рюмку вина, то он обыкновенно вставал со стула и, обращаясь к хозяину или хозяйке дома, почтительно кланялся, как бы напоминая, что по уставу придворного этикета они должны были испросить предварительно его позволения, как принца крови, подать ему рюмку вина.
Он не принимал ни вина, ни чашки чая из рук слуги, и хозяин или хозяйка дома сами должны были держать перед ним поднос, если хотели, чтоб он принял поданное.
В тех домах, где он часто бывал, знали это и исполняли его требования. Точно так же трудно было заставить его принять платье, сапоги, когда он нуждался в таких вещах, – надо было сапоги или платье зашить в клеенку, адресовать на имя принца и надписать, что они присланы из его страны. Так же, а не иначе, принимал он и деньги. Старик этот принадлежал к купеческому сословию, фамилия его была Яковлев. Проживал он очень бедно, в убогой комнатке, где-то на Петербургской стороне.
В тридцатых годах на улицах Петербурга обращал на себя внимание чисто одетый старик, чиновник, экзекутор в отставке, вечно отыскивающий в самых отдаленных частях города: на Песках, в Гавани, в дальних краях Коломны, Измайловского полка, жилище какой-нибудь гадалки, старухи-чухонки, отставной содержанки, заштатной кухарки или просто полоумной женщины, часто пьяной, владеющей будто бы искусством предсказывать будущее.
И вот с раннего утра и до позднего вечера бродил этот старик, посещая жилища этих полупьяных пифий, любительниц кофе и водки, чтобы узнать свою будущность, скорбеть или радоваться и потом, по бестолковым ответам часто полупомешанного или пьяного оракула располагать поступками своей жизни впредь до нового предсказания, купленного за какой-нибудь полтинник или двугривенный.
В те же годы на улицах столицы встречали старика и старуху, отличавшихся патриархальными странностями прошлого века. Это были муж и жена, прозванные всеми Филимон и Бавкида; и действительно, супружеское их согласие не было ничем нарушено во всю их долгую жизнь. Старичок необыкновенно нежно относился к своей старухе, та также строго повиновалась мужу и заимствовала от него все его качества, привычки, наклонности, даже странности.
Они жили вдвоем в мире и любви более полустолетия и детей не имели. Имея всегда постоянное жилище, они обыкновенно приходили к своим родственникам, зажиточным купцам, с просьбою – взять их к себе жить. «Ведь вот в этой комнате у вас никто не спит, – говорили они, показывая на зал или гостиную, – так почему же нам здесь не спать?» И когда родственники старались внушить им, что не все пустые комнаты в доме могут быть обитаемы постояльцами, то они всегда уходили спокойно, не сердясь за отказ, но покачивая головою и говоря: «Какие странные люди! Им тесно в таком большом доме, а мы, старики, жмемся в углу!»
Старушка имела своих любимцев – кошку и птичек; первую она ужасно баловала, приносила для ней игрушки, поила кофеем и устраивала даже елку. Своих пернатых друзей она любила еще более, – каждый из них носил свое имя; она кормила их червяками, ягодами и разными кашками.
Старик друзей не имел, но в жизни имел более странностей, чем его жена. Покупая, например, себе новые нитяные перчатки, он, принеся их домой, обыкновенно говорил жене своей: «Федосья Захаровна! Нашей, душенька, здесь на ладонях две заплатки. Перчатки мои всегда скоро изнашиваются на ладонях: так пусть же износятся прежде заплатки, а потом я их спорю и буду носить перчатки заново!» Также делал он и с новым платьем своим, приказывая жене нашивать заплаты на локтях сюртуков, чтобы прежде износились заплаты, и делать это не из опасения отличиться странностями или шутовством, а так спроста.
Жена исполняла приказания его безусловно.
Долго жили они в счастливом браке своем и не надолго пережили один другого; кто умер первый – жена или муж, неизвестно. Эти два оригинала пользовались большим уважением у всех, знавших их, за смирение, благонравие и кротость. Они слыли по уличному прозванию под именем: «два гудка».
В описываемые годы можно было встретить на улицах Петербурга одного сумасшедшего, – старого чиновника, с типичной канцелярской физиономией, который пользовался свободою гулять по свету и который доказывал, что он пушка. Разговаривая о чем-нибудь с вами, он вдруг искривлял лицо свое, надувал щеки и производил ртом своим звук наподобие пушечного выстрела. Это действие он повторял несколько раз каждый день. Разгуливал он, по большей части, близ крепости и Адмиралтейства, где, как известно, нередко происходила пальба из пушек.
В ряду уличных чудаков, служивших ходячими рекламами портного, в тридцатых годах на тротуарах Невского проспекта, набережных и в Летнем саду были заметны два брата, крайне любопытно разодетые. Кто они были – никто порядочно не знал; известно только было, что они учили русской грамоте и французскому языку с полдюжины арапчат у графа 3-го, имевшего особенную склонность к черной прислуге.
В те года обыкновенного теперь пальто никто не носил. Тогда в моде был английский каррик, т. е. большею частью коричневый или гороховый суртук с маленькою пелеринкою или капюшоном, вроде тех, какие нынче, и то редко, встречаются у одних только выездных кучеров при английской закладке. Помимо каррика тогда входил еще в моду широкий синий, подбитый бархатом черным, а часто и малиновым, плащ, называвшийся «альмавива», по имени известного персонажа в пьесе Бомарше.
Тогда в Петербурге модным портным был Руч, и вот, чтобы рекламировать эти два мужских одеяния, он в виде живых вывесок пустил братьев ходить по Невскому, для одного он сшил даром величественную синюю «альмавиву» с малиновым бархатным подбоем, а на другого напялил щегольской светло-гороховый каррик. Вместе с этим в листках, разносимых при афишах, было объявлено об альмавивах и карриках, заказы на которые принимаются в портняжном заведении на углу Невского и Малой Морской; ежели кому угодно будет удостовериться в красоте фасона этих новомодных одежд, тот может их видеть на двух известных столичных алегантах ежедневно на Невском проспекте между часом и четырьмя пополудни.
Для этих живых вывесок бралась ежедневно из манежа английская лошадь, на которой в означенные часы ехал шагом один из братьев, великолепно задрапированный в альмавиву, другой же в английском каррике шел рядом по тротуару. Братья перекидывались французскими фразами очень своевольного перевода. Так один из братьев говорил: «Votre cheval est dansle savon» (лошадь ваша в мыле). «J'ai vu aujourdhuiui le long de matin le prince Boris qui est arrive de l'Aigle» (я сегодня утром видел князя Бориса, который приехал из Орла).
Через полчаса опять встречали братьев, но их роли переменялись, верхом на лошади ехал уже другой брат, а первый выступал по тротуару, драпируясь в альмавиву. Братья где-нибудь под воротами менялись и костюмами, надевая каррик брата, бывший в альмавиве, заметив на каррике конскую шерсть, восклицал: «Voyez donс le cheval deteint» (смотрите, лошадь линяет). Братья говорили на таком своеобразном французском языке, что их приглашали аристократы на свои ужины и обеды, только бы слушать их разговоры, и, точно, редкостны и замечательны были их французские фразы.
Если кто потрудился бы пройти лет пятьдесят назад с карандашом в руке по главным улицам Петербурга, тот собрал бы богатый запас диковинок из литературы вывесок. Особенно курьезны были вывески с вольными переводами. Так на углу Синего моста долго красовалась вывеска портного: «И. Гельгрюн. I. Hellgrun, Tailleur du vert clair». К вольным переводам должно еще причислить вывеску на углу Троицкого переулка и Невского проспекта: «Мужской и салопный мастер (Herrn und Saloppen-Master»). На углу Гороховой, над ломбардом, существовала вывеска на французском и немецком языках, но оба языка так перемешаны между собою, что весьма любопытно было бы узнать, на каком языке написаны слова: «Bude de Moel», – должно быть, на французском, потому что тут же находилась немецкая надпись совершенно правильная. У Пяти углов несколько лет существовала надпись над парикмахерской: «Фершельное заведение (Ferchelnoe Savedenies)»; в Гороховой имелась вывеска: «Рещик печатей, Rectik petchatee». На Выборгской стороне, на углу Вуль-фовой улицы, над табачной лавкой красовалась вывеска: «Продажа табаку и разных товаров, Prodaja tabacu i rasnich tovaroff». He менее достойна была примечания, как по русскому правописанию, так и по переводу, вывеска в офицерской улице: «Кухмистер Яков Михайлов отпускает порционный стол. Koh-Meister Gakof Michailof verfertig Porsigon Tische». В Мещанской улице, нынешней Казанской, была вывеска: «Щеточный мастер Егор Фед. Равин, Rammonetier Georg Th. Rawen». На углу Гороховой и Садовой улиц, на вывеске гребенщика Бараева, существовала надпись следующая: «Фабрика черепаховых изделий, Fabrique de manufactures tortues». Существовали в те годы также вывески необыкновенно простодушные; например, в Измайловском полку была вывеска: «Домашное табачное заведение отставного унтер-офицера Куропатко».
На углу Владимирской и Невского проспекта над цирюльнею красовалась: «Здесь бреют и крофь а творяют»; у Аничкина моста была вывеска сапожника, могущая служить загадкою, ребусом. «Време. це. маст. Кузьма Федоров» – это означало: «Временный цеховой мастер Кузьма Федоров». Были вывески иллюстрированные: так, на Сенной была пивная лавка, на вывеске которой было изображение бутылки, из которой пиво переливается шипучим фонтаном в стакан. Под этим рисунком была лаконическая надпись: «Эко пиво!» Замечательная иллюстрированная вывеска красовалась у Аничкина моста: на ней был изображен огнедышащий Везувий, дымом которого коптятся окорока и колбасы.
На углу одного из домов Невского проспекта виднелась вывеска: «Фортепьянист и роялист»; за Казанским собором жил «стеклователь», он же «стеклянный художник»; над игрушечной лавкой в Офицерской улице была вывеска «Детское производство»; над лабазом по Гороховой: «Продажа разных мук»; в Спасском переулке была мясная лавка с вывеской: «Лавка Ивана Капустена»; на Гороховой улице долго проживал «Портной Иван Доброхотов из иностранцев»; близ Столярного переулка жил портной, у которого на одном углу дома была вывеска: «Военный Прохоров», на другом «Пантикулярный Трофим». Была вывеска у одного из красильщиков: «Здесь красют, декатируют и такожде пропущают машину». На главных улицах столицы, как на Невском проспекте, вывески чаще попадались на французском и русском языках. В доме, бывшем Энгельгардта, на углу Невского и Казанского моста, долго красовалась вывеска: «Plumassicre de Paris, парижская перечница»; над лавкою, где продавали ковры: «Vente de Tapisses»; на Гороховой долго висела вывеска: «Живописец вывесок, одобренный начальством и экзаменованный и производит всякое художество».
У одного мозольного оператора была вывеска: «Соирег des cors». У одного гробовщика висела вывеска с надписью: «Кrари». По объяснению этого гробовщика, эта надпись была сделана для тону и чтоб французы, здесь умирающие, знали, что могут достать прочные гробы. По стародавнему обычаю, гробы на вывесках всегда изображались не гробами, а красными сундуками или шкатулками.
В двадцатых годах в Петербурге была фабрика табаку Смекаева, на вывеске которой виднелось следующее: за круглым столом сидел с одной стороны господин с стаканом в руке, с другой – стояла дама, она подавала господину трубку и старалась отнять от него стакан, внизу находилось следующее четверостишие:
Оставь вино, кури табак,
Ты трубочкой разгонишь всю кручину;
Клянусь, что раскуражишь так,
Как будто выпил на полтину!
В старину на вывесках виднелись и аллегорические картины, многосложные рисунки из арабесков, цветов и разных атрибутов, сообразно с характером лавки или мастерства.
В музее Павла Свиньина хранилась железная вывеска питейного дома в Петербурге с портретом Петра I и с аллегориями и надписями, современными основанию Петербурга.
В старину лучшие трактиры вывесок с надписями не имели. Так, на вывеске одной из гостиниц Невского проспекта в начале текущего столетия представлены были султан и султанша огромного роста – дама и кавалер в национальной одежде, и они читали «Сенатские Ведомости». На других трактирных вывесках изображались баснословные фениксы в пламени, медведь в задумчивости с газетой.
Над простыми трактирами рисовали мужиков, чинно сидящих вокруг стола, уставленного чайным прибором или закускою и штофиками; живописцы обращали особенное внимание на фигуры людей: они заставляли их разливать и пить чай в самом грациозном положении, совсем непривычном для посетителей таких мест.
На вывесках иногда людские фигуры были заменены предметами: чайный прибор, закуски и графин с водкой, – последнее изображение еще красноречивее говорило за себя. Существовал близ Сенной трактир с такою вывеской: «Здесь трактир для приезжающих и приходящих с обеденным и ужинным расположением». На вывесках винных погребов изображали золотые грозди винограда, а также нагих правнучат и потомков Бахуса верхом на бочках, с плющевыми венками на голове, с чашами, с кистями винограда в руках. Также рисовали прыгающих козлов, – полагая, что греки этому четвероногому приписывали открытие вина. На вывесках табачных лавок и сигарных фабрик писались толстые голландцы, американцы, арабы с сигарою в зубах или мастера, изготовляющие сигары и крошащие табак. Также нагие негры или группы амуров, как белых, так и черных – и все это курит сигары. Изображали и турок в чалмах, задумчиво курящих из кальяна. Акушерки в старину выставляли вывеску с надписью: «бабка-голландка». Где-то на Песках существовала такая вывеска, на которой изображен был рог изобилия, из которого падали новорожденные младенцы, – но до полного падения руки акушерки не допускали и подхватывали младенцев колоссальными акушерскими щипцами.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?