Текст книги "Записки актера Щепкина"
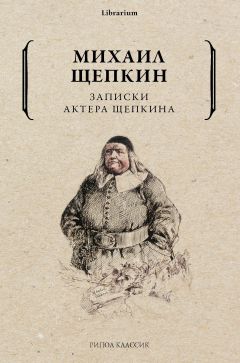
Автор книги: Михаил Щепкин
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
И вот чем кончилась эта маленькая драма. Разумеется, я ничего этого не помню; но это как анекдот моего детства осталось известным в моем семействе, часто повторялось и всегда одинаким образом не только отцом и матерью, но даже и товарищами его, без малейшей перемены. Со всем тем не выдаю всего за совершенную истину, а оставляю всякому полную свободу верить и не верить. Мое дело было только рассказать верно.
После этого вскорости граф убедил графиню расстаться с матушкою и отпустить ее к мужу (которому уже назначено было жить в хуторе Проходах как в центре управляемого им имения), представляя в причину, что разлучать мужа с женою в таких молодых летах – грех, да и за Мишей будет кому присмотреть. Все это вместе решило графиню согласиться. Итак, вдруг я переселился из Обоянского уезда в Судженский, где и жили мои родители лет около тридцати, то есть до продажи нас князю Репнину. Стало быть, тут промелькнуло мое детство, весьма неинтересное, как и детство всякого ребенка, а особливо в том звании. Известно только, что я был самый острый и умный ребенок, что был два раза ушиблен самым ужасным образом, из коих один раз об дровосеку, а в другой раз так странно, что стоит рассказать. Меня просто перебросило через ворота, то есть через верхнюю их перекладину; а как? Вот в том-то и дело. Просто с дрожек в первый день светлого Христова воскресения. Как это случилось и отчего? – известно, но полета, который я сделал через ворота, не могла мать объяснить, ибо она одна и была свидетельницею, но от испуга подробно ничего не помнит. Вот как это было: в светлый, праздник отец и мать ехали в Турью, где мы были приходом, к обедне и, разумеется, взяли меня с собою. Как вышли садиться на дрожки, которые были по-тогдашнему без крыльев, довольно длинные, мать села, посадила меня подле себя; отец же сказал: «Вы съезжайте с горы, а я сойду пешком» (дом, где мы жили, был на горе). Тут кучер, державший лошадь за повода, спросил отца: «Разве и ему ехать?», потому что очень часто случалось, что отец правил сам, а, приехав в Турью, лошадь обыкновенно оставлял у попа на дворе. Теперь же в такой праздник, при тесноте, отцу показалось это неудобным, почему на вопрос кучера он и сказал утвердительно, чтоб он ехал, а сам вышел в растворенные ворота. Кучер, обратясь к моей матери, которая уже сидела со мною на дрожках, сказал: «Позвольте ж мне, Марья Тимофеевна, надеть новый зипун!» – и, не дождавшись ответа, отправился за ним. Лошадь, чувствуя свободу, стала поворачиваться из стороны в сторону; мать только что хотела взять вожжи, замотанные напереди около шкворня, который был выше дрожек вершка на два с половиной, как в это самое мгновение лошадь шарахнулась и бросилась со всех ног в ворота. От быстрого движения мать свалилась с дрожек, не успев схватить меня, и видела только, что дрожки зацепились за верею передней осью и что от толчка я свалился на заднее колесо, с которого быстро полетел через ворота; но как это случилось? – она не могла объяснить, потому что тут же сама упала без памяти. Отец, услышав стук позади себя, оборотился и увидел меня, летящего через ворота; в ту же минуту пронеслась и разъяренная лошадь с дрожками, которые, разумеется, вдребезги избила. Отец бросился назад, подбежал ко мне и поднял меня без всякого движения; даже очень долго не было слышно: дышу ли я? Все это сделалось так быстро, что никто и не видал! На крик отца прибежали кучер, кухарка, бабушка; отец потребовал воды и, когда принесли, вспрыснул меня ею. Между тем очнулась и мать и вырвала меня у отца; он же велел подать нож, которым мне разнял стиснутые зубы, и влил несколько капель воды, проглотив которую я в ту же минуту вздохнул очень протяжно; при этом кожа на лбу, от ушиба поднявшаяся почти на вершок, видимо, начала понижаться и пришла в обыкновенное положение, удерживая на себе только синий, почти черный цвет – признак сильного ушиба. Разумеется, что к обедне уже никто не поехал. Долго сомневались в моей жизни; купали меня два раза в день в какой-то траве (кажется, называли ее завяз) и недели через три начали надеяться на мое выздоровление, а через шесть я уже совершенно оправился; но чудесный сальто-морталь остался необъяснимым. Потом в детстве я тонул один раз, от чего тоже был спасен. Все эти чудесные спасения были ни к чему другому отнесены моею матерью, как к тому, что были встречные кумовья. Отец же просто видел тут благость божию и заключал, что он со своим семейством находится под особым господним промыслом.
В исходе пятого года моего возраста, чтоб я не баловался, отдали меня учиться грамоте к Никите Михайловичу. Фамилии настоящей его не знаю, а носил он другую, которую не могу сказать, ибо она смешивается с таким именем, что никак не прилично выразить. С этого времени, хотя еще и не довольно ясно, но начинаю кое-что помнить из моего детства. Помню, что я каждый день ходил в школу, что у меня были еще два товарища – дети Никиты-шинкаря, Таврило и Никита, что у учителя была дочь Надёжка, что учился я весьма легко и быстро: ибо едва мне сравнялось шесть лет, как я уже всю премудрость выучил, то есть азбуку, часослов и псалтырь; этим обыкновенно тогда и оканчивалось все учение, из которого мы, разумеется, не понимали ни слова, а приобретали только способность бегло читать церковные книги. Помню, что при перемене книги, то есть когда я окончил азбуку и принес в школу в первый раз часослов, то тут же принес горшок молочной каши, обернутый в бумажный платок, и полтину денег, которая как дань, следуемая за ученье, вместе с платком вручалась учителю. Кашу же обыкновенно ставили на стол и после повторения задов (в такой торжественный день учения уже не было) раздавали всем учащимся ложки, которыми и хватали кашу из горшка. Я, принесший кашу и совершивший подвиг, то есть выучивший всю азбуку, должен был бить учеников по рукам, что я исполнял усердно при всеобщем шуме и смехе учителя и его семейства. Потом, когда кончили кашу, вынесли горшок на чистый двор, поставили его посредине, и каждый бросал в него палкой; тот, кому удавалось разбить его, бросался стремглав уходить (бежать), а прочие, изловив его, поочередно драли за уши. Что это за церемония? Для чего она делалась? Когда было ее начало? Ничего не знаю и не могу сказать. Помню только, что по окончании часослова, когда я принес новый псалтырь, опять повторилась та же процессия и что кроме меня раз еще принес кашу Никишка, когда кончил часослов, над которым я и застал его; оба брата, Никита и Таврило, учились очень тупо. Помню, что их драли немилосердно, хоть толку от этого не было никакого; я же, напротив, удивлял своею остротою, так что учитель не успевал задавать мне уроки.
Когда я окончил псалтырь, то отец мой, зная, что учитель мой не способен более учить ничему, писал в Белгород к знакомому, очень ученому священнику (который когда-то, бывши еще студентом, учил сына графа В[олькенштейна]), и спрашивал, что он возьмет за мое ученье. Между тем во время долгой переписки я должен был всякий день ходить в школу протверживать зады. Помню, что это мне ужасно надоедало; я наконец стал протверживать с такою быстротою, что только и слышно было: «Блажен муж», – а дальше уж никто не мог разобрать ни слова. Таким образом, чрез четверть часа я оканчивал все, что было задано читать, и отправлялся гулять в лес с ребятишками, оставляя учителя весьма довольным своим учеником. Учитель часто ставил меня в пример другим ученикам, говоря: «От, як бы и вы так учились, як Мышка, то и вы пийшли б теперь гулять». Обыкновенно в лесу я прогуливал до обеда, ибо твердо знал, что если бы из школы пришел домой, то меня не пустили бы бегать по лесу. Наконец как-то отцу моему стало известно о кратком способе моего повторения, и потому он строго запретил мне выходить из школы, пока не кончится общее учение; но я на другой же день, кажется, забыл его приказание. Отец же мой, которому из своего дома видна была школа, нарочно наблюдал за мною и, как скоро увидел, что я навострил лыжи в рощу, отправился и сам туда, наломав дорогой добрый пучок розог, и, найдя меня, препорядочно выпорол.
По окончании экзекуции, во время которой я кричал во все горло, притащил он меня в школу, разбранил учителя, что он не смотрит за мною, что ребенок совсем избаловался, что читать стал гораздо хуже и вместо того, чтобы читать, бормочет так, что ничего нельзя понять, и в доказательство тут же заставил меня читать. Я, получив уже привычку, полетел, как говорится, на почтовых, а потому только и могли разобрать, как я уже сказал: «Блажен муж», а далее уж ни слова. Отец, остановив меня, велел начать сначала, но вышла та же история; потом – в третий раз – все то же. Батюшка рассердился, плюнул, топнул ногою и ушел, наказав строго учителю исправить ребенка. Гнев отца произвел свое действие, ибо учитель имел школу приватно, главное же занятие его было при винокуренном заводе, где он состоял ключником у хлебного магазина; поэтому, боясь потерять это место, что совершенно зависело от воли отца моего, он обратил все внимание на исполнение его желания, и чтобы поправить зло, то под обещанием строгого наказания велел мне, читая, останавливаться по точкам. Но как я забывался, а более потому, что половину болтал на память, то и получал часто должные награды, как-то: скубки, удары по руке линейкою; это помогало, впрочем, весьма мало. Однажды учитель отпустил мне две очень ловкие пали (при коих я взвизгивал, разумеется) и примолвил: «Адже я тоби уже казав, собачий сыну, щоб ты читав по точкам!» Это значило у него останавливаться на них. Эта малороссийская фраза уже вековая: из давних времен говорилась она так, как сказана выше, почему и ко мне дошла из уст учителя без всякой перемены. Учитель же мой был малороссиянин, да и весь уезд населен был более малороссиянами, нежели русскими. В ответ учителю, против всякого его ожидания, я, проливая горькие слезы и мотая от боли рукою, спросил у него: «Да для чего же останавливаться по точкам?» При сем вопросе учитель мой остолбенел: в первый раз услышал он такой вопрос, в течение целых сорока лет обучая юношество грамоте, – и до того смешался и рассердился на такой дерзкий и вольнодумный вопрос, что долго не отвечал на него. Но, рассудив потом, что такие слова не могли излиться из уст такого малого и притом умного ребенка и что, конечно, нечистый дух внушил мне их, он сотворил крестное знамение и сказал мне: «Тютю, дурный! Чи ты не знаешь, що ты сказав?» Я, ничего не понимая, повторил сквозь слезы: «Я говорю, для чего останавливаться по точкам?» Тут он, видя мое неведение и уверясь, что такой вопрос сделан мною без всякого злого намерения, смягчил голос и сказал: «Дурный, дурный! хиба ж ты не знаешь, что книги так уж и писаны, щобы, читая их, останавливались по точкам, и що вси праведные их так читали?» Ничего не понимая, я опять спросил: «Да для чего же это нужно?» Не умея дать лучшего пояснения, он начал мне толковать: «Адже тоби не можно прочитать всего псальма одним духом, то треба и отдыхнуть; от для того святые и праведные, которые сие писали, нароком и поставили точки. А ты б то, дурный, думав, що воны поставили их дарма?» И он очень был доволен, что растолковал мне так ясно, что более, казалось, нечего было и говорить. Но к крайнему его изумлению я и тут нашел кой-что для себя непонятным и, ворча, все еще сквозь слезы сказал: «Помилуйте, да это быть не может! Вот посмотрите, как точки расставлены: вот тут (указывая на книгу) от точки до точки – три слова, а тут – целых десять строк, а их нельзя проговорить одним духом; так это быть не может, чтоб они были поставлены для отдыха». Учитель, видя, что злой дух совершенно овладел мною (ибо не может быть, чтоб без его наущения такой умный ребенок не понял того, что, по его мнению, он растолковал так ясно), а потому, не желая входить в состязание с сатаною, как он говорил, отпустил он мне в голову порядочную тукманку, говоря: «Колы ты тым точкам не веришь, так от тоби точка! от сей, мабуть, поверишь; и колы ще будешь пытати, то я тоби, для пояснения, таку задам жарёху, що з неделю будешь заглядывать!» После такого сильного доказательства я уже навсегда отказался от подобных вопросов.
В скором времени, по настоянию матери, которой слишком жаль было, что бедного ребенка учитель, сам ничего не зная, так жестоко наказывает, отвезли меня в Кондратовку, в имение, принадлежащее графу и потому находившееся также под распоряжением отца моего, к тамошнему священнику отцу Димитрию, чтобы я повторял выученное мною до того времени, пока повезут меня в Белгород. Не оскорбляя памяти покойника, я должен сказать, что новый наставник мой отец Димитрий был тоже недальнего образования и только в тогдашнее время мог быть священником: что не каждый день повторялось в служении, то он разбирал весьма плохо. Так, например, когда мне было уже лет пятнадцать, то граф однажды в троицын день, зная, что священник плохо читает, послал меня к нему от своего имени попросить, чтобы молитвы, которые читаются при коленопреклонении, прочитал он сперва дома, дабы можно было внятнее их слышать. Но он сделал лучше: он прочитал во время служения только две молитвы, а третьей совсем не читал. А когда, после обедни, пришел к графу с просвирою поздравить с праздником, что делалось в каждый двунадесятый праздник и в день именин графских, то граф спросил: почему он прочел только две молитвы? Священник почтительно отвечал: «Ваше сиятельство присылали, чтобы я прочитал молитвы у себя на дому; почему одну и прочел дома. Извините, что больше не успел прочитать; а остальные две прочел в церкви, во время служения». Граф, слушая это, улыбнулся и не сказал ни слова.
Другой пример служит еще лучшим доказательством сколько невежества, столько и грубости тогдашнего времени. Однажды летом, в какую-то субботу, во время уборки хлеба, дьячок и пономарь, занявшись полевой работой (ибо весь причет церковный получал на содержание 33 десятины земли), упросили нашего же дворового человека отправить вместо них с священником всенощную и как человек этот, по прозванию Козел, был горький пьяница, который только и знал, что пил и пел на крылосе, то они вытрезвили его, с обещанием после всенощной напоить снова. Зная хорошо весь церковный устав и не имея в виду другой попойки, он охотно согласился. А как священник нередко видал его исправляющим должность дьячка, то без всякого возражения начал с ним служение. Молящихся в церкви по случаю полевых работ было только три старухи, мальчик, отправляющий должность ктитора, и я. Михаила Козел был самой нелепой наружности и от беспрестанного пьянства с распухшею рожею; голос его и без того самый грубый и неприятный бас, а тут на похмелье сделался еще отвратительнее. После первого благословения, сказавши «аминь», начал он чтение каким-то скрипучим голосом. Таким образом, все шло своим порядком до чтения кафизм; ибо, как я уже сказал, Козел был очень тверд в порядке служения. По прочтении одной кафизмы священник в алтаре или читал какие-либо молитвы, или мысли его заняты были чем-либо житейским, только он не слыхал, что чтение кафизмы уже кончено. Козел же, помолчав немного и не слыша следующего после кафизмы паки и паки, произносимого обыкновенно священником, решился напомнить ему; почему вполголоса, хрипя, сказал: «Отец Дмитрий! паки и паки…» – на что священник, приостановивши свое чтение и не понимая хорошо, в чем дело, только помня, что его прервал голос Козла, быстро отвечал ему: «Ну, ну, читай!» Козел, будучи тверд в сем деле, весьма оскорбился и, в доказательство своего знания, повторил прежнее напоминовение голосом уже не столь почтительным, а гораздо грубее: «Паки и паки!» Священник же все еще порядком не очнувшийся или досадуя, что Козел стал учить его, опять повторил: «Читай, читай!..» Тут Козел, уже без всякого почтения к месту и сану, слишком настойчивым голосом напомнил: «Паки и паки!..» Раздосадованный таким упрямством Козла, священник закричал очень сердито: «Кажу тоби: читай!» Козел наш обезумел, вытаращил глаза, в бешенстве сжал правый кулак, заскрипел ужасно зубами и вышел вон из церкви, оставя бедного священника одного, совсем растерявшегося от злости и от незнания, что делать: ибо он даже не помнил, до которого места дошло служение. Тогда по необходимости я вошел к нему в алтарь, объяснил ему, в чем дело, и предложил себя для услуг вместо Козла, ибо, живя (как сказано будет после) в Белгороде почти четыре года у священника, я тоже хорошо знал порядок служения; и таким образом кое-как всенощная была окончена.
Когда рассказал я все это графу, он ужаснулся; но потом, подумав немного, промолвил: «Я бы давно просил архиерея переменить нашего священника, но он человек семейный, у него куча детей, они могут остаться все без хлеба; а этого греха я не возьму себе на душу!» И в то же время брал на себя грех другой – ужаснее.
И вот кому вверено было мое детство, так быстро развертывавшееся; но, к счастию моему, я прожил у него только около трех месяцев. Из всего этого времени я только и помню, что на другой день моего поступления он нещадно выпорол меня розгами, кажется, за то, что я, от излишнего познания церковного чтения, разорвал первый лист псалтыря, ибо, начиная протверживать зады с «Блажен муж» при детях священника, перед которыми хотелось мне блеснуть своими сведениями, и для того оканчивая страницу, так быстро и ловко перевернул лист, что разнес его почти пополам, за что и получил вышеобъясненную награду. Такой дебют меня очень испугал, и я думал, что попал из огня да в полымя; но, славу богу, все пришло в свой порядок, и я, повторив, что было мне задаваемо, имел полное право бегать, где пожелалось; а так как отец мой здесь не жил, то и некому было заметить, что слишком свободно пользуюсь всеми детскими правами. Когда же в воскресный день случалось отцу моему приезжать к нам к обедне и слышать меня, уже поющего на крылосе с дьячками (ибо я с самого детства имел необычайный слух: мне достаточно было слышать один раз какой-нибудь мотив, и я мог петь его безошибочно), то он оставался весьма довольным, хоть мне этого и не показывал.
У него был свой образ мыслей: он полагал, что только строгостию можно заставить детей любить и почитать родителей, то есть, по его мнению, бояться и любить – было одно и то же. А потому я, а равно и все дети, которые были потом, с четырехлетнего возраста видели от отца одну только строгость и никогда ласк; зато с избытком осыпала ими мать, отчего и вышло совсем противное тому, чего ожидали наши родители. Мы до некоторого возраста, то есть до того времени, когда начали уже понимать, отца боялись, но не любили; а мать любили, но не боялись, а потому и не слушались, что было для нее весьма неприятно. Иногда, желая внушить нам при любви и страх, она наказывала нас, но наказывала как мать, и потому это очень мало помогало.
При всем уважении к моим родителям я должен был высказать их образ мыслей, тем более что это было в то время общее мнение насчет воспитания детей, – не только в том состоянии, в каком находились мои родители, но и в высших сословиях. К чести же моего отца скажу, что он всегда был выше своего звания, чему служит доказательством и то, что он не удовлетворялся тогдашними общими понятиями своего круга об образовании детей, а желал научить меня чему-то больше, хотя и слышал беспрестанно вокруг себя от своих товарищей: «Черт знает чему управитель хочет учить своего сына, отдавая в Белгород: мальчик и так уже выучил азбуку, часослов и псалтырь, его бы теперь выучить писать – и конец, а там в суд переписывать дела, и вышел бы человек!» – ибо по их понятиям не было выше этого образования; об остальном, то есть учении языкам, им не приходило и в голову, что крепостному человеку можно их знать. Но отец мой, который не раз бывал с графом, во время его службы в гвардии и в Москве и в Петербурге, и уже видавший, как говорится, многое и слыхавший об университете и то, что у иных помещиков камердинеры, бывшие с господами за границей, говорят с ними по-французски, слушал их болтовню улыбаясь и пропускал мимо ушей без всякого внимания.
Три месяца моего детства в Кондратовке у попа Димитрия промелькнули очень скоро, так что изо всего времени в памяти моей ничего не осталось, кроме сказанного: как видно, интереснее ничего и не было.
Когда пришло время везти меня в Белгород, то недели за две до того взяли меня домой, чтобы обшить всем нужным на долгое время, дабы я не имел там ни в чем недостатка: туда уже невозможно будет ничего переслать по причине отдаленности; ибо до Белгорода была от нас с лишком сто верст. А между тем мать думала про себя: ребенок все-таки погуляет! – и на это время я даже не занимался и протверживанием задов, и отец смотрел на это сквозь пальцы. Иногда только для шутки, и то чтобы попугать бедную мать, он говорил: «А что, Маша, ты не посадишь Мишу протвердить что-нибудь?» Против чего Маша, испугавшись, представляла какую-нибудь невозможность: или что у меня сапоги не готовы, или что надо шаровары примерить, и тому подобное, и он оставался доволен изложенными причинами, и Я) бегал сломя голову, – одним словом, делал, что хотел. Мать много раз сама удивлялась, что отец так равнодушен к моим шалостям, а еще более, что казался убежденным изложенными ею причинами, обдумавши которые сама чувствовала их нелепость; но молчала и была довольна, что ребенок, с которым она скоро расстанется на долгое время, вполне навеселится и не будет забывать дому родительского. Она не могла разгадать, что и отец, разлучаясь с сыном не без сердечной горести, как он сам потом сознавался, и не зная, какая будет моя будущность, как-то невольно уступал чувству отца, а не голосу рассудка, и мысленно решил: пусть теперь ребенок нагуляется в доме отца, а на чужой стороне еще бог знает что будет: может быть, и недоест и недопьет. Он чувствовал, что слишком рано отдавал меня для продолжения учения; ибо мне не было еще семи лет, и это была главная причина его снисхождения.
Так прошли две недели, ужасные для матери: во все время приготовления она не осушала глаз, разумеется, в отсутствие отца, ибо при нем не смела плакать. Она оплакала каждую рубашку, каждую вещь, которую укладывала – как теперь помню – в красненький сундучок; под крышкой его приклеена была картина суздальской работы с какими-то ужасными чудищами, которые меня очень занимали. Не постигая слез матери, я, очень помню, спрашивал у ней, чего она плачет. Разве в Белгороде меня всякий день будут сечь? – как видно, для меня ничего ужаснее не было. На что мать, обнявши и прижавши меня к своему сердцу, сквозь слезы говорила: «Ох, дитятко, может быть, и это будет!» При таком известии и у меня потекли слезы; но хорошее яблоко и добрый кусок домашнего пряника тотчас меня утешили.
Все было уже уложено, что казалось нужным для пребывания моего в Белгороде; все было приготовлено, что считалось необходимым для пути, как-то: пироги, жаркое и разные лакомства, чтоб не скучал дорогой (что отец хотя и считал лишним, но, однако, не мешал матери распоряжаться). Так наступил назначенный день для отъезда, в который приглашены были батюшкина сестра из Мирополья с мужем и его братом, то есть с теми, кого я звал дядя Дмитрий и дядя Абрам (так я называл их и после всю жизнь); бабушка, то есть мать отца моего, незадолго переселившаяся к нам совсем на житье; в заключение приглашен приходский священник. И когда все были уже налицо, отслужили молебен, потом, как водится, выпили водки, пообедали сытно, затем для такого торжественного дня велели согреть чайник, напились чаю и чашки по две или по три пуншу. Между тем лошади были уже готовы, кибитка подана; но прежде отъезда все уселись по местам, потом встали, сотворили молитву, и началось прощание. Очень помню, что все плакали, что все говорили, чтоб я не скучал и не шалил, а учился бы хорошо, что родители посадили меня между собой в повозку и что у матери на руках была еще сестра моя Александра, ибо нас было уже двое детей. При всеобщем пожелании доброго пути и при благословении священника мы отправились на ночь в путь.
На другой день мы благополучно прибыли в село Красное, в место моего рождения и, так сказать, в резиденцию господ, о которых я не имел уже никакого воспоминания. Тут мне все было ново. Куча людей бродила без всякого дела; множество детей играло на обширном дворе, которые все были одеты совершенно не так, как деревенские мальчики, но, по тогдашнему моему понятию, удивительно как хорошо! На них были синие суконные курточки и такие же шаровары. Это возбудило во мне даже зависть, а особливо сообразив это приволье, в котором их застал, и полагая, что они все время только и делают, что играют, тогда как меня везут куда-то и чему-то учиться; да и костюм мой был совершенно другого покроя: на мне был китайчатый синий халат и такие же шаровары, над чем они долго смеялись, да и вообще смотрели на меня как на деревенского мальчика. Все это сделало меня совершенно несмелым и неловким, и я очень чувствовал свое невежество, хотя все дети по книжной части были гораздо ниже меня, потому что они сидели еще за азбукой, в то время как я уже окончил псалтырь. Обо всем этом я узнал на другой день, когда отец завел меня посмотреть певческую школу. Тут я узнал, что это были мальчики, набранные в певчие. Отец не пропустил случая так, мимоходом, сказать о моих успехах, и дети смотрели на меня с удивлением, так как мне не было еще и семи лет, а каждый из них был старше меня по крайней мере двумя годами, а потому по окончании учения стали обходиться со мною поласковее. Когда мы сели обедать в буфете и нам принесли есть с господского стола, что было знаком особой милости, отец между разговором сказал, что завтра мы едем в Белгород, а сегодня вечером будем смотреть оперу «Новое семейство», которую будут играть музыканты и певчие. Я было пустился в расспросы: что такое опера? Но вместо объяснений он просто сказал: «А вот сам увидишь!» – и потому я это принял равнодушно; я не знал, что в этот вечер решится вся будущая судьба моя.
Теперь я должен сколько-нибудь объяснить случившиеся перемены в доме господ: Во время моего житья в Проходах графиня умерла, и граф остался вдовцом, и с ним две дочери. Не слишком быв счастлив семейною жизнью, он, так сказать, отдыхал и наслаждался жизнью сельскою. И как он имел хороший оркестр музыкантов и порядочный хор певчих, то для разнообразия удовольствий основал домашний театр, чем забавлял детей, которым было от десяти до двенадцати лет; равно и все дворовые люди утешались этой забавою, а вместе с тем и сам граф вдвойне наслаждался своей выдумкой. Он так рассуждал, что этим доставит детям забаву, музыкантам занятие, а дворовым людям, которых, разумеется, было очень много, случай провести время полезнее, нежели за картами или в питейном доме. И, признаюсь, впоследствии оправдались его предположения: нигде в тогдашнем веке я не встречал, гораздо позже сего времени, господских людей, менее испорченных и грубых.
Не помню, как я провел этот день; думаю, что прорезвился с ребятишками. Вечером отец с матерью взяли меня в театр, как они называли. Но что такое театр? – объяснения на мой вопрос я не получил, а сказано просто: «Дожидайся, сам увидишь!» И вот мы явились в довольно большую комнату, которую, как я узнал после, почему-то называли залою; а равно и другие комнаты имели свои названия, как-то: гостиная, диванная, спальня, буфет, лакейская, девичья и пр. Все это меня очень удивляло, ибо я не думал, чтоб были другие названия, как светлица, комната и кухня. Сколько сведений приобрел я в продолжение двух суток, которые я прожил в резиденции господина моего! В зале нашел я несколько народу обоего пола: одни сидели на стульях, другие разговаривали, стоя у окна. Зала, как казалось, была разделена на две половины разноцветной холстиной во всю ширину комнаты, то есть начиная от потолка до полу; на холстине были разных цветов полоски: желтая, синяя, зеленая, красная, и все это, как после объяснили мне, домашнего крашенья. У, самого потолка, немного впереди упомянутой холстины, протянута была еще синяя холстина во всю ширину комнаты, и потом по бокам у самой стены с обеих сторон спущены были такие же холсты, отчего и вышло, как будто разноцветная холстина была в синей рамке. Что там за нею делалось? – оставалось для меня тайною. Между занавесом (так называли разноцветную холстину: мне это скоро объяснили) и первым рядом стульев – надобно заметить, что их было всего три ряда, – стоял довольно длинный стол – не стол, бог знает что такое, сделано из досок, на высоких, но совсем не таких, как у стола, ножках: у стола их обыкновенно четыре по углам под верхней доской, а тут как-то чудно! Так как этот странный стол был очень длинен и узок, то хотя под ним и были четыре ножки, но какие-то широкие, как будто ножка сделана из целой доски, и поставлены не по углам, а расставлены под верхней доской поперек стола, одна от другой расстоянием на аршин или с чем-то. Ножки эти были более похожи на козлы, которые употребляются на подмостки при строении; но и там у каждого козла тоже четыре ноги. Одним словом, я никак не мог понять, что это такое, тем более что вместо гладкой верхней доски сделано было что-то удивительно мудреное; то есть несколько узеньких дощечек во всю длину стола были как-то скреплены между собою и были гораздо выше верхней доски – с довольной косиной, так что если б его покрыть чем-нибудь, то все это походило бы на длинный церковный налой, на котором дьячок в церкви читает, только откосы были со всех сторон – и с длинной и с узкой. На некоторых местах этих откосов положены были тетрадки, очень странно излинованные, и, что всего страннее, линованные чернилами, и когда я рассмотрел поближе, то увидел, что это не просто линейки, а что-то другое: тут сначала пять линеек – одна подле другой близко проведены так, как будто бы составляли одну пятилинейную линейку, потом отступя опять такие же пять линеек, и так до конца всего столбца в подобном же порядке; да и линовано совершенно не так, как обыкновенно делается, то есть не поперек, а вдоль страницы. Мне очень хотелось узнать: что это, для чего это? И к тому же я заметил: на пятилинейных линейках понаставлены чернилами какие-то точки, очень похожие на узелки, что, бывало, вышивают на воротниках у рубашек; к некоторым точкам приписаны хвостики, иногда с крючком, иногда же несколько хвостиков вместе перечеркнуто чернилами – в ином месте раз, а в другом и два и три; в некоторых местах и точка перечеркнута, если она поставлена выше или ниже пяти линеек, а иные точки, хотя тоже стоят выше или ниже их, а не перечеркнуты. Все это приводило меня в тупик. Между тем музыканты одни рассматривали эти тетрадки, другие настраивали скрипки; это уж я сам догадался, ибо я видал не однажды играющего на скрипке музыканта, который приезжал к нам иногда в Проходы из Говтаренки. Только я тут увидел такие скрипки, что и не знал, как на них будут играть; это были бас и контрабас. Потом бросились мне в глаза такие инструменты, о которых я и не слыхивал; а особливо валторны и фаготы поразили меня своими формами. Флейты и кларнеты не произвели на меня никакого впечатления: они мне казались такими же дудками, какие я уже видал у крестьян, а только сделаны из господского дерева, то есть из хорошего. Все это, то есть необычайно разгороженная комната, этот занавес в рамке, этот стол удивительный, тетрадки с точками, скрипки маленькие и большие, дудки разных манеров и ужасная валторна – так закружили мою семилетнюю голову, что я смотрел во все глаза и, кажется, ничего не видал. Вдруг сделалась маленькая суматоха, в которой только и слышно было «граф… граф!..». Какое-то невольное чувство страха ощутил я в это время: из боковых дверей вышел среднего роста мужчина, довольно полный и красивый, лет за сорок; подле него вели двух девочек – одной было лет десять, а другая помоложе. Тут отец взял меня за руку и представил графу, который погладил меня по голове и в знак особой милости дал мне поцеловать свою руку, ибо он этого вообще не любил. Потом заставили меня поцеловать ручонки маленьким графиням и велели посадить меня между ними, а отец и мать стали позади нас и беспрестанно мне шептали: «Не бойся, Миша, не бойся!» Я воображаю, с какой миной сидел я между барышнями, точно медвежонок, потупя голову, и если бы не подоспел мне на помощь хороший кусок пряника, который дала мне одна из маленьких графинь, то, я думаю, что, невзирая ни на что, я заревел бы во все горло. Я никогда не слыхал от отца, что при господах можно сидеть, а тут сижу между барышнями очень сконфуженный; но пряник придал мне бодрости, и я исподлобья начал, как волчонок, выглядывать на обе стороны.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































