Текст книги "Тайная канцелярия при Петре Великом"
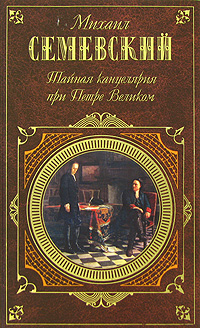
Автор книги: Михаил Семевский
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Выслушавши, мало того – записавши рассказ, не имевший ни малейшего отношения к производимому следствию, Греков полюбопытствовал даже осмотреть спину Данилова, и спина – чему нельзя не подивиться – оказалась цела.
26 сентября обер-полицмейстер положил следующие решения: 1) племянниц Терского, Игнатьеву и Еремееву, также служителя г. Юрьева, Петрова, освободить под расписки знатным московским людям, у которых свои дома есть, с обязательством по первому требованию представить людей сих в полицию; 2) служителя Харитона Иванова расспросить в застенке под пыткой,[32]32
Право пытать и чинить всякого рода экзекуции всемилостивейше предоставлено было Полицмейстерской канцелярии 18 января 1721 г. Царь Петр собственноручно предписал: «…а которые поиманы будут в городе и слободах в каком воровстве (т. е. в преступлениях низшего рода, кроме разбоя, татьбы и тому подобном) – тем розыск и экзекуцию отправлять полициймейстеру». Но для аккуратности о розысках и экзекуциях полицмейстер обязан был рапортовать Юстиц-коллегии. (Прим. автора.)
[Закрыть] куда скрылся его господин, Деревнин; 3) шведа Боровкова и мальчика Спиридонова также допросить в застенке под пыткой: за что и чем именно они биты; 4) Петра Юрьева и жену Терского освободить для сыску Деревнина, но не иначе, как под расписку знатных людей; 5) фискала Григорья Терского «до подлинного розыска и до указу» держать особо под крепким караулом, скованным, дабы «он утечки не учинил и никого к нему не пропускать, понеже он допросом своим сам себя приманил к немалой важности о бесчестии ее величества великой государыни благоверной царицы Прасковьи Федоровны»; 6) пожитки в домах Терского и Юрьева прибрать в одни кладовые под печать и караул. (Эта уборка производилась полицейскими, и можно себе представить, в каком порядке она делалась и в какой целости оказались потом вещи!)
В тот же день для какой-то справки по недочетам казны Прасковьи, оставшимся на Деревнине, сыскали в Кадашевской слободе торговца Курочкина; в бытность Деревнина казначеем он был купчиною при дворе царицы (вероятно, поставщиком или подрядчиком), и потому надеялись добиться от него некоторых объяснений; но, кроме сведений о месте своего рождения, роде занятий и проч., Курочкин не нашел, что рассказать, и его отпустили под расписку.
Любопытно было бы знать, делались ли эти освобождения после некоторых решпектов[33]33
Решпект (от фр― респект) – уважение, почтение. Здесь – подношение, взятка.
[Закрыть] обер-полицмейстеру? Судя по угодливости Грекова Прасковье и ее клевретам,[34]34
Клеврет (старослав.) – до XIX в. это слово употреблялось в значении «друг», «союзник», «единомышленник». Затем приобрело презрительный оттенок – «приспешник», «угодник» и т. п.
[Закрыть] трудно допустить, чтобы он упускал случай поживиться от доброхотных дателей, особенно, когда эти датели готовы были на все, чтоб только вырваться из смрадных подвалов – в них же было быть нельзя.
Не без страха ждал скованный Терский 29 сентября: в этот день зять его должен был явиться в полицию; буде Деревнин не явится – Терского предадут пытке; а в присутствии поверенного царицы и врага его Тихменева – пытка не могла быть снисходительна. С нетерпением ждали этого дня царица и ее любимец Юшков.
Наконец настало заветное число. Деревнин не доставлен в полицию – и стремянный Никита Иевлев явился в канцелярию с новым объявлением либо ведением; оно было написано резко, сильно; в нем явно выражались досада и гнев Прасковьи. Царица в особенности была озлоблена показанием Терского о цифирном письме: до него дело производилось о краже Деревнина; теперь все увидели, что это не более как маска; главная пружина всего есть таинственное послание; известие о нем, как записано было у Грекова, клонилось к бесчестию имени ее величества. Вот как выразилась злоба госпожи в объявлении ее стремянного: обвиняя Терского в укрывательстве беглого стряпчего, Иевлев писал:
«Провинциал-фискал упомянул в допросе о каком-то письме царицы; но в нем, по его же словам, ни о здоровье государя, ни об измене, ни о бунте не написано, то и не следовало Терскому упоминать об этом письме, разве по злому его умыслу и к поношению чести ее величества, понеже он, Терский, допрашиван о укрывательстве в похищении казны ее величества зятем его, Деревниным, а к этому без всякой причины присовокупил в допросе злым, его, Терского, воровским, отчаянным вымыслом (письмо) о чести ее величества, чего ему, ежели бы не по злобе к поношению чести ее величества, приказной публике тем допросом предавать не надлежало. Притом, когда не взыскивали на нем вора Деревнина, тогда он ни о каком письме не упоминал, а когда стали оного вора на нем приказным случаем взыскивать, и он, Терский, умыслил воровски упомянутое оклеветание и за злобу начал чинить. Если же в письме была какая-нибудь важность, – весьма ловко заключал составитель объявления, – то, не отдавая его Деревнину и не предавая приказной публике, Терский должен был представить его куда следует».[35]35
Царица с Юшковым не знали еще, что виновником публичности объявления Терского о цифирном письме был усердный обер-полицмейстер. Это обстоятельство открылось гораздо позже из нового показания Терского 22 октября 1722 г. (Прим. автора.)
[Закрыть]
Обстоятельство это, по мнению составителей объявления, до такой степени было важно, что они от имени царицы просили полицию допросить Терского в застенке и пыткою принудить его представить Деревнина.
Просьба царицы была бы выполнена непременно в самом скорейшем времени и с величайшим старанием. Тайный доносчик, фискал Терский, совершенно случайно сделался бы мучеником приказной публичности, страдальцем за гласность, но его спасла попечительница – не матушка, а Тайная канцелярия!
Дело в том, что еще за два дня до рокового 29 сентября сын Терского Иван явился туда с челобитьем; в нем он изложил ход дела и намерение полиции пытать отца в то время, когда за батюшкой есть тайное государственное дело. Была ли эта выходка со стороны молодого Терского благородным порывом как-нибудь спасти отца, или старик нашел возможность передать сыну такое поручение – неизвестно; как бы то ни было, только слова «тайное государственное дело» имели обычную силу.
В тот же день, 27 сентября, послан был в полицию указ Скорнякова-Писарева немедленно прислать к нему в Тайную Григорья Терского.
Не приятно было это повеление ни царице с Юшковым, ни Грекову, от которого с терско-деревнинским делом ускользал из рук весьма лакомый кусок; три дня не высылал он Терского в надежде вымучить от него что-нибудь интересное для царицы; но далее мешкать было нельзя, ослушаться могущественной Тайной канцелярии – дело невозможное, и 30 сентября, не без грусти, расторопный обер-полицмейстер препроводил Терского по назначению. До какой степени ему не хотелось с ним расстаться, видно из того, что дело его не было препровождено в Тайную, а отправлено о нем доношение, в котором тщательно подобраны были самые грозные обвинения и против него, и против Деревнина.
1 октября члены Тайной канцелярии из допроса, снятого с Терского, узнали, что государственное дело, о котором писал его сын, состояло в ведении за Деревниным цифирного письма царицы к Юшкову, которое он видел, но разобрать не мог.
Тотчас же поручено молодому Терскому привести Деревнина. Стряпчий на этот раз не скрылся, сведав, что дело перешло в Тайную канцелярию, не столь доступную влиянию и подкупу царицы Прасковьи и ее фаворита; наконец, в уверенности, что новые судьи его как лица посторонние будут беспристрастнее, он поспешил из дома Юрьева (где скрывался) явиться на призыв.
В первом же допросе, обстоятельно познакомив членов Тайной канцелярии со своей генеалогией и подробностями формулярного списка, Деревнин рассказал, как и где нашел он злополучное письмо, как хотел его предъявить государю императору; рассказал о преследованиях Юшкова и тут же представил злополучное письмо генералу и гвардии полковнику Ивану Ивановичу Бутурлину, одному из членов канцелярии.
Бутурлин поспешил завернуть письмо в особый пакет и запечатал собственною печатью.
Весть о сыске Деревнина быстро прилетела к царице. Она поручила обер-полицмейстеру добыть ей «злодея стряпчего», и Греков в тот же день представил в Тайную канцелярию убедительнейшую и настоятельнейшую просьбу препроводить к нему Терского с Деревниным для розыску и окончания начатого дела, причем ссылался на известный нам указ Петра 18 января 1721 года, всемилостивейше даровавшего право полиции чинить пытки и экзекуции по всем «приводным и воровским делам», ссылался на сенатскую инструкцию – все было напрасно. Тайная канцелярия очень хорошо знала, что ее собственная коллекция всевозможных инструментов для пыток и вообще «допросов с пристрастием» несравненно богаче подобного же музея полицейской канцелярии, что в случае нужды она и сама сумеет разыскать кого бы то ни было, и поэтому не обратила внимания на просьбы Прасковьи и Юшкова, переданные устами любезного обер-полицмейстера.
Глас его остался гласом вопиющего в пустыне.
Пылая гневом и жаждою мести, благоверная царица Параскева Феодоровна решилась наконец покинуть село Измайлово и самой добыть либо Деревнина, либо свое цифирное письмо.
VII. Мщение старушки царицы Прасковьи Федоровны
«Благоверная государыня, взмилуйся и помилуй! Статно ли то, что ты делаешь и что есть хорошего?»
Стремянной Иевлев 2 октября 1722 года
На другой день, 2 октября 1722 года, Прасковья отложила поездку в Москву до вечера, может быть потому, что утром либо она сама, либо ее приближенные были развлечены любопытной, хотя и обыкновенной в то время сценой: близ города колесовали трех человек – убийц и фальшивых монетчиков; «они получили только по одному удару колесом, по каждой руке и ноге; колесо изломало руки, перебило ноги, но преступники остались живы, и их крепко привязали лицами к колесам.[36]36
Колеса обыкновенно утверждались на толстых столбах. (Прим. автора.)
[Закрыть]
Зрелище было отвратительное; один из них, старик, изнеможенный предварительными пытками, несколько часов после казни испустил дух; но остальные, молодые парни, долго еще боролись со смертью; можно было думать, что они проживут на колесе, как это и случалось, двое, трое, даже четверо суток. Молодцы были румяны; равнодушно, чуть не весело поглядывали по сторонам и ни стоном, ни жалобой не обнаруживали страданий. Один из них, к величайшему изумлению толпящихся зрителей, с большим трудом поднял размозженную руку, повисшую меж зубцов, отер себе рукавом нос и опять сунул ее на прежнее место.
Но эффект был еще поразительнее, когда тот же страдалец, заметив, что он замарал колесо несколькими каплями крови, со страшным усилием вновь вытащил изувеченную руку и бережно обтер колесо.
Толпа с любопытством глядела на страшную сцену. Многие вспоминали при этом о недавних казнях; рассказывали друг другу подобные ужасные сцены: как-де один повешенный за ребра в первую же ночь приподнялся, вытащил из себя крюк и упал на землю; несчастный прополз на четвереньках несколько сот шагов, спрятался, его нашли и повесили на тот же крюк. Другие вспоминали о сожжении на костре живого раскольника; как неустрашимо глядел он на пылающую руку и только тогда отвернулся, когда дым стал есть глаза и вспыхнули его волосы…
Ужасно было зрелище колесованных, хороши были и воспоминания, вызванные их предсмертными муками; именитые лица да любознательные иноземцы разъехались по гостям, стало темнеть, разбрелся и народ, толкуя о виденном и слышанном.
Между тем Прасковья Федоровна пообедала и, собравшись с силами, «за час до отдачи дневных часов», приказала позвать главного своего стремянного, Никиту Ивановича Иевлева. «Заложи карету, – приказывала царица, – созови людей, пусть полячка Михайловна возьмет водку, да конюх Аксен захватит с собой кулек с кнутьями».
В шесть часов экипаж был готов; закутанная царица взяла трость и, будучи не в состоянии ходить (Прасковья сильно страдала, если не ошибаюсь, водянкой), приказала служителям отнести ее в карету. Царицу провожали человек двадцать: здесь были Сергей Тихменев, один из врагов Деревнина, фрейлина или ее служанка, полька Михайловна, стремянной Никита Иевлев, брат его, задворный конюх и подключник Феоктист Иевлев, пажи Тимофей Павлович Воейков, Кондрат Иванович Маскин, брат его Михаил Маскин, Василий Моломахов, дворцовый сторож и истопник Степан Пятилет, пленный швед-служитель Карлус Фрихт, стряпчий Андрей Седриков, конюх Аксен Синьков, приказный избы села Измайлова, подьячий Михайло Крупеников, конюх Анкудин, Степан Трофимов и некоторые другие.
Кортеж тронулся в путь. Погода была ясная; ночью выпало много снегу, и на дворе трещал мороз. Едучи по Мясницкой улице, царица подозвала пажа Тимофея Воейкова: «Поезжай к царевне Катерине Ивановне и доложи ей, чтоб она немедля ехала к генералу Ивану Ивановичу Бутурлину и попросила выдать мне Деревнина и письмо, по которому его взяли».
Тяжелая карета потащилась далее по Мясницкой в Тайную канцелярию; она находилась на конце Мясницкой, против церкви Пресвятыя Богородицы Гребневския. Кстати заметим, что так называемая карета была не что иное, как колымага, сделанная снаружи наподобие фургона; в колымаге, вместо сидений, наложены были подушки, а окна и двери завешены кожею, местами золоченой и тисненой.
Пробило семь часов, когда царица, подъехав к Тайной, велела нести себя в арестантские палаты или подвалы, грязные и мрачные, никогда не опорожнявшиеся от заключенных. Одни служители несли царицу на особой скамье, другие шли впереди и сзади шумною толпою, с зажженными восковыми свечами.
Внесенная в переднюю палату, Прасковья, по старинному обычаю, тщательно выполнявшемуся некогда ею самой, стала раздавать колодникам милостыню. На этот раз царица имела другую цель и раздача милостыни была только одним из средств к ее достижению.
– А где сидит Деревнин? – спросила она у провожавших.
– Изволь, государыня, идтить в другую палату, – молвил в ответ стремянной.
По указанию Иевлева царицу пронесли далее в палату, наполненную раскольниками. Здесь, вновь раздавая милостыню, старушка с участием спросила: «Где сидит мой служитель Василий Деревнин? Я хочу и ему дать милостыньку».
Колодники спешили указать милостивой монархине отдельную казенку, где сидел Деревнин.
– Он сидит здесь, благоверная государыня, – говорил часовой Краснов, – в крепком месте, пускать к нему никого не велено.
– Какие вы дураки! – кротко заметила Прасковья, – вы не пускаете меня, а я хочу ему только милостыньку дать! Несите меня к казенке!
– Да здесь никакого колодника нет, – говорили часовые, надеясь хоть обманом остановить нежданную гостью. Гостья не слушала; ее несли Пятилет, Карлус, Кондрат Маскин, Ф. Воейков, Ф. Иевлев и В. Моломахов; а другие служители, как-то: М. Маскин, Тихменев – шли впереди и освещали путь.
Подьячий государыни постучал в дверь; дверь не отворяли: капрал Иван Красной, надзиравший за этой тюрьмой, сопротивлялся; его ударили под бок, двух часовых отбросили в сторону, и кто-то из служителей силою отворил дверь.
Ярко осветилась казенка, лишь только внесли в нее государыню; струсивший Деревнин повалился в землю.
– А, так ты вот где, гость! – заговорила старушка, внезапно изменяя вид и голос, – тут-то ты, гость! Хотела я тебе милостыню дать, да не за что: пакости ты много мне наделал! Какое ты письмо на меня подал, где взял, куда девал?
– Нашел я его, благоверная государыня, на дворе у Василья Федоровича Салтыкова.
– Куда дел… подай письмо сюда… – говорила старушка; лицо ее загорелось гневом, и удары посыпались на арестанта. – Подай письмо, письмо давай сюда, – твердила она, и снова тяжелая трость опускалась на голову и лицо Деревнина.
Царицу отвлек от беседы с Деревниным Воейков.
– Был я у государыни царевны, – доносил паж, – и царевна Екатерина Ивановна ездила по твоему, государыня, приказу к Бутурлину. Иван Иванович обещал отдать Деревнина.
– Ступай опять к царевне, слышишь, скажи, чтоб она сейчас же съездила в другой раз к Бутурлину: пусть попросит отдать мне Деревнина немедля; я буду ждать здесь… Деревнина мне подайте!
Воейков спешил выполнить приказ, а милостивая государыня вновь соизволила взяться за трость, и новые удары покрыли «плоть, лицо и спину» бывшего ее стряпчего. «Письмо на меня подал, казну покрал, совсем обокрал меня», – приговаривала царица, задыхаясь от гнева.
В казенке было тесно, смрадно; в ней набралось много народу; пылающие свечи увеличивали жар. Усиленные движения, видимо, расстроили старушку: она так старательно работала тростью, что, забыв о болезни, поднялась на ноги и тем скорее устала; ей нужен был простор – и она велела вести заключенного в передние палаты.
Толпа двинулась. Пятилет, Кондрат Маскин, Никита Иевлев, С. Тихменев, Михайло Крупеников поволокли за собой Деревнина.
Встревоженный каптенармус Бобровский, дежурный по караулу, думая, что Деревнина хотят вовсе увести из-под ареста, просил его не трогать; наконец, видя, что просьбы не действуют, стал в дверях и силою хотел удержать исполнительных челядинцев. «Помилуй, благоверная государыня, – взмолился каптенармус, низко кланяясь царице и закрывая дверь, – мне по артикулу – великий страх! Воля твоя, государыня, как изволишь, а я из-под караула его не отдам: он сидит в государеве деле».
Нетерпеливая царица не слушала; она прикрикнула на служителей, те двинулись вперед, помяли бока Бобровского, и Деревнина впереди носилок Прасковьи провели далее.
– Запирай, замыкай дверь на выход, не выпускать колодника! – закричал каптенармус солдатам. Он очень хорошо памятовал артикул: «Когда кого стеречь приказано, а тот злодей чрез небрежение караульного уйдет, или от караульного без указа отпустится, тогда виновный в сем, вместо преступителя, надлежащее наказание претерпит».
Старушка, впрочем, не была обязана знать воинские артикулы; «устав о процессах и экзекуциях» не для нее был писан, и она никак не могла себе объяснить дерзость Бобровского.
– Как ты смеешь не пускать меня? Что ж ты за караулом што ль держишь царицу?
– Я тебя, благоверная государыня, за караулом не держу, – отвечал дежурный, – а колодника из канцелярии, как изволишь, не отдам, потому, по артикулу, мне страх немалый.
Процессия должна была остановиться в передней или прихожей палате. В негодовании Прасковья опустилась на скамью; к ней подвели трепещущего Деревнина.
– Обыщите его хорошенько, – приказывала государыня, собираясь с силами, – обыщите, нет ли при нем ножа?
Быстро обшарили арестанта, ножа не нашли; отыскался мешочек с деньгами: служители немедля вытрясли их в свои карманы.
– Всемилостивейшая государыня, – взмолился Деревнин, – грабят меня, деньги у меня выняли, я детище небогатый.
– Это я приказала взять у тебя деньги, – успокоительно отвечала старушка, – для чего ты у меня разворовал, где ты письмо взял?
Допрашиваемый винился в том, в чем и прежде.
– Держите его хорошенько, крепче, – говорила государыня и вновь стала гневаться словами, а потом, по свидетельству служителей, «мало помешкав, соизволила собственною ручкою и тростью бить стряпчего по плоти и по лицу многократно».
Между тем Бутурлин не приезжал. «Швед Карлус! Поезжай ты к Ивану Ивановичу, – повелела Прасковья, – скажи, что я здесь – жду, пока выдадут мне Деревнина».
Чтобы скорей вызвать свою жертву из царских подвалов и привести в свои иэмайловские казенки, Прасковья с тем же поручением отправила Никиту Иевлева к Скорнякову-Писареву (к нему еще прежде ездил Карлус, но безуспешно) – члену Тайной канцелярии.
Иван Иванович и Григорий Григорьевич имели полное право отказать Прасковье Федоровне; но, как люди, состарившиеся в делах придворных, они ведали, с кем имеют дело, ведали, что царица пользуется большим уважением монарха, и не дерзнули на прямой отказ. С другой стороны, исполнить просьбу было дело опасное; они сами еще не знали, в чем состоит цифирное письмо, как взглянет на все происшествие суровый господин, не потребует ли он от них отчета, и что значит давать отчет Петру и насколько сподручно оправдываться перед ним – всем было известно.
Между двух огней генерал Бутурлин и обер-прокурор Сената Писарев прибегли к одной и той же уловке: зная обо всем, происходившем в Тайной канцелярии, из донесений дежурного каптенармуса, они приказали часовым объявить вестовым царицы, что господ нет дома. Бобровскому же послали тайный приказ – отнюдь не отпускать Деревнина.
Все эти неудачи еще более раздражили Прасковью; в жилах ее разгоралась кровь деспотки-помещицы и властительной особы, не привыкшей к отказам.
А пред ней плакал и молил о пощаде недостойный служитель, ее огорчивший. Лицо его было покрыто синяками, ссадинами, ранами, по щекам струилась кровь, глаза заволакивались опухолью…
Картина эта не смягчила гневную царицу: «Держите его крепче; Пятилет, да ты, Карлус, жгите свечами лицо его, нос, уши, шею, глаза поджигай, да бороду, бороду-то ему выжги!»
Стряпчий, пораженный ужасом, задул одну свечку; ее вновь зажгли; он старался выбиться из рук служителей, но К. Маскин, Т. Воейков, Крупеников, Трофимов, Ф. Иевлев и другие попеременно крепко держали его за руки и за волосы; голову Деревнина загнули назад для более удобного обжогу. Истопник Пятилет жег лицо, а швед Карлус, заметив, что нос уже обожжен Васильем Моломаховым, старательно занялся выжиганием бороды.
– Какое ты письмо на меня подал, где взял, куда его дел? – повторяла царица, как кажется, не столько для допроса, сколько из желания что-нибудь причитывать в одобрение доморощенным палачам.
Деревнин мычал, стонал, тщетно бился: он был в крепких руках.
– Государыня, смилуйся и помилуй! – взмолился подьячий Тайной канцелярии Григорий Павлов, падая в ноги Прасковьи, – повели не чинить жжение Деревнина, потому за ним, за Деревниным, дело есть государево, мы будем за него в ответе!
– Гони его прочь, да снимите с злодея моего рубашку!
Павлова оттолкнули.[37]37
На Павлове как на подьячем Тайной канцелярии лежала большая ответственность: в силу указа 12 апреля 1722 г. за несохранение арестантов, как-то: выпуск из тюрьмы и проч., «подьячих приказано было розыскивать и пытать вместе с караульщиками, дабы поманки не было. А буде судьи в том подьячем поманку учинят, то сами подлежат, яко разбойники, казни смертной». Желание спасти собственную свою спину от неприятностей розыска должно было вызвать заступничество со стороны Павлова. (Прим. автора.)
[Закрыть] Деревнину оголили спину. Конюх Аксен, по приказу монархини, явился с кульком, а в нем были кнутья; вынул Аксен кнут понадежнее и приготовился работать.
Посреди палаты, для острастки обыденных пыток арестантов, стоял, между прочим, деревянный козел; на него обратила внимание царица и приказала взволочить на козел обожженного Деревнина.
Прасковья Федоровна поразила твердостью приказаний всех окружающих, чуть не с малолетства уже привыкших ко всякого рода сильным ощущениям, начиная от домашнего батога до застеночного кнута.
Бобровский хлопотал не о том, чтобы не увезли Деревнина: он страшился уже, что от арестанта ничего не останется; молил о пощаде и ежеминутно напоминал: «за арестантом есть дело государево».
Никита Иевлев также не вытерпел и, пользуясь значением своим при царице, дерзнул доложить: «Умилосердися, благоверная государыня, как изволишь, а необычно все это: статное ли это дело и что есть хорошего?»
Старушка же, напротив, была убеждена, что в ее поступках ничего не было дурного. «Я имею полное право, мало того, я должна наказать, как хочу, вероломного служителя», – так могла думать царица и решительно недоумевала, с какой стати являются у Деревнина заступники.
И вот приказ подтверждается, жертву волокут на козел.
Но распахнулась дверь – и в палату, в сопровождении пажа Воейкова, вошла герцогиня Мекленбургская, царевна Катерина Ивановна. Она не поехала вторично к Бутурлину, вероятно, убедившись из первого свидания в безуспешности просьб отпустить Деревнина, а отправилась к матери прямо в Тайную канцелярию.
При входе в нее герцогиня была поражена оригинальным зрелищем. Среди грязного подвала на козле растянут за руки и за ноги обнаженный Деревнин; он стонет и вопит о пощаде; казенки полны народу: здесь солдаты, караульные, подьячие, группы молчаливых арестантов, раскольников и других колодников, следящих не без ужаса, как изволит гневаться государыня царица Параскевия Феодоровна; сама она на скамье, с тростью в руках, дрожащая от гнева, с побагровевшим лицом и сверкающими глазами. Картина освещена мрачным, каким-то похоронным светом нескольких свечей; воздух сперт, пахнет жженым человеческим мясом, волосом, и среди чада ярко вырисовывается атлетическая фигура Аксена, с кнутом в руках, готового по первому слову начать штрафованье.
Катерина Ивановна пошептала на ухо царице, вероятно, просила спустить стряпчего с козла. Старушка на этот раз послушалась. Деревнина сняли и надели на него кафтан.
– Письмо куда дел, откуда и где ты его взял? – в сотый раз спрашивала Прасковья.
– Я его поднял на дворе кравчего Василия Федоровича Салтыкова.
И государыня снова взялась за прежнее, снова за трость, била Деревнина по лицу и по голове; а уставши, «паки» поручила Пятилету да Карлусу пообжечь его лицо и шею; Моломахов да Ф. Иевлев держали допрашиваемого.
Слабые нервы герцогини не могли вынести сего зрелища; она поспешила проститься с матерью и оставила ее одну упражняться в изобретениях новых пыток.
За ними дело не стало. Живая фантазия Прасковьи скоро навела ее на мысль о пытке, если не новой, то, по крайней мере, редко употреблявшейся. «Полячка Михайловна! – закричала она фрейлине, – сходи в карету да принеси оттуда бутылку с водкой».
Водку принесли. Моломахов, Крупеников и Воейков крепче взялись за арестанта. Шведу Карлусу повелено лить на голову Деревнина. Водка или, лучше сказать, спирт (вино в то время не разжижалось так щедро водой) потек по лицу, т. е. по отвратительной язве, и разъедал ее страшно. Как ни исполнителен был швед, но он лил немного, вылил не более полубутылки. Жалко ли ему было Деревнина, или желалось сберечь водку для обратного пути в Измайлово – неизвестно.
– Зажигай! – крикнула царица, обращаясь к Пятилету.
Истопник Степан Пятилет, привыкший жечь дрова, но не людей, страшился исполнить приказ старушки, но монархиня собственноручно соизволила толкнуть его руку со свечою к голове Деревнина – и голова вспыхнула как порох!
Страшный, нечеловеческий вопль огласил подвалы и казенки Тайной канцелярии и замер под ее мрачными сводами. Несчастный судорожно рванулся из рук рабов, метнулся в одну сторону, бросился в другую, ударился о печку и в страшных конвульсиях упал на пол… Голова его пылала. Колодники, сторожа, слуги, палачи – все, кроме государыни, были в оцепенении.
А голова все пылала, все пылала и курилась невыносимым чадом.
Первый очнулся Бобровский. Мысль, что за этим арестантом есть государево тайное дело, что его непременно нужно сберечь для допросу, а может быть, и для пыток, каким благоволит его предать царское величество, – мысль эта гвоздем засела в голову дежурного каптенармуса, и он суетливо бросился распоряжаться тушением курьезного пожара… Кто-то из колодников, по его приказу, утушил огонь полою своего кафтана.
Прасковья пожелала посмотреть на копченого стряпчего и казначея. Узнать его не было возможности. Волосы сгорели; лица вздулось, посинело, почернело, местами вовсе выгорело; глаза заплыли опухолью; подбородок тщательно обожжен, и только сквозь раздутые, черные губы слышались стоны.
Вид несчастного еще более раздувал гнев царицы.
Старушка, не чувствуя усталости, крайне занятая и оживленная своим делом, все еще находила, что мщение ее неполно; чего-то еще недостает; она жаждала чего-то нового и, в ожидании его, принялась за старое: ручка монархини и крепкая трость вновь загуляли по ли… но нет, то не было уже лицо: в громадной язве не было даже и подобия образа человеческого.
Если не без ужаса и негодования цепенеем мы пред страшною картиною, существование которой не может быть оправдано ничем (истина – всегда истина, в какой бы век она ни существовала), то зато и не без удовольствия находим в подлинных документах указания на то, что некоторые служители царицы, как, например, Кондрат Маскин, Никита Иевлев, Тимофей Воейков, Федор Воейков, Феоктист Иевлев, были поражены ужасом (если не состраданием) и, не вынося страшного зрелища, «многократно» выходили на чистый воздух подышать и освежиться…
Бобровский четыре раза уже посылал с донесениями о «всех действах» царицы к генерал-майору Скорнякову-Писареву, и всякий раз получал в ответ приказание – отнюдь не отпускать с царицей Деревнина. То же говорил Бутурлин.
Пожар головы арестанта заставил дежурного просить более подробных инструкций о том, допускать ли дальнейшие истязания. За этими инструкциями он послал к генерал-прокурору Павлу Ивановичу Ягужинскому.
Ударило десять часов вечера. В Тайную приехал генерал-прокурор. Все засуетились. У Деревнина, если он еще не потерял сознания, должна была мелькнуть мысль о спасении; у царицы же – надежда получить наконец арестанта. Прасковья ошиблась… Ягужинский… но позвольте познакомиться с ним поближе.
Павел Иванович, по отзывам современников, лично его знавших, был видный мужчина, с лицом неправильным, но живым и выразительным. В обхождении он был очень свободен, даже небрежен; но эта свобода была весьма в нем естественна, и все были ею довольны. Ягужинский был капризен, самолюбив, но при этом умен, рассудителен, жив. Он в один день делал столько, сколько другой не поспевал в неделю. Прямодушный, он твердо выполнял данное слово до такой степени, что готов был скорее умереть, нежели нарушить обещание. Мысли свои Павел Иванович выражал без лести пред самыми высшими сановниками. Буде первый сановник империи поступал несправедливо, Ягужинский порицал его так же смело и свободно, как последнего чиновника. Сначала денщик Петра, а потом генерал-прокурор Правительствующего Сената, он был одним из первейших любимцев Преобразователя. Государь обыкновенно называл его своим глазом и зачастую говаривал: «Если что Павел осмотрит, то это так верно, как будто я сам видел».
Если похвальные отзывы дюка Лирийского и леди Рондо хоть наполовину справедливы, то понятно, почему и в настоящем случае Ягужинский не уклонился, подобно Скорнякову-Писареву и Бутурлину, от вмешательства в дело Прасковьи, и хоть поздно, но явился на арену не совсем невинных ее развлечений.
– Что ты делаешь, государыня? – заговорил генерал-прокурор, когда пригляделся наконец к окружающим предметам, – что хорошего, государыня, что изволишь по Приказам ездить ночью?
– Отдайте мне Деревнина, – отвечала царица. – Он вор, вор, он покрал у меня казну!
– Без именного императорского величества указу отдать невозможно, – твердо отвечал Ягужинский, отдал приказ увести Деревнина к себе на дом под караул и тут же предложил Прасковье Федоровне оставить Тайную канцелярию.
– Завтра, может быть, я пришлю его к тебе, государыня, – обманчиво уверил Ягужинский, когда царица не прекращала упрашивать и умолять об исполнении ее просьбы.
Наконец огорченная старушка со слабой надеждой и немалой грустью оставила Деревнина и отправилась обратно в свою резиденцию, в село Измайлово. Впереди, сзади и по бокам ехали исполнители ее предначертаний.
Была глубокая полночь, когда вернулась Прасковья в свои хоромы; нежно обняла она ненаглядную свою внучку Аннушку и мирно опочила от трудов.
Вознаградил ли себя за труды водкообливатель и свечеобжигатель Карлус оставшейся полбутылкой пенника – из подлинного дела не видно.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































