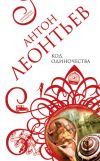Текст книги "Алексей Ставницер. Начало. Восхождение. Вершина"

Автор книги: Михаил Ситник
Жанр: Жанр неизвестен
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Море
Две одинаково любимых стихии: город и море. Город послевоенный, чистый, безлюдно-худощавый, малотранспортный, трамваи и редкие авто, одноконные повозки – площадки и тачечники. С раннего утра от моря – густой аромат водорослей, давно умерших рыб и ракушек. Позже, днем – запах света и тени, сырость подвалов и теплый шорох увядших цветов акации. Но средоточие запахов – на границе города и моря. Под обрывами плато – «затерянный мир», добираться до которого проще после переезда на дачу.
«На волю, в пампасы!» (Ильф и Петров) – лозунг, под которым где-нибудь в начале июня семья «выламывалась» из города. Событие радостное для всех – людей и животных. Увязывались в тюки постельное белье, матрасы, скатывались в рулон циновки и разбирались на части кровати. Троицкая пустела, кузов грузовика до уреза бортов («выше только люди и звери») вмещал движимое. В доме оставались печи, буфет и книги в небольшом количестве.

Для некоторых – для мамы – «дачная страда» начиналась в середине мая, по первым листочкам и почкам, до цветения. Потом, почти до созревания абрикосов, приходилось вручную обирать гусениц, остановить этот процесс было нельзя – сгрызут. Потому главное занятие каждого утра – гусеницы. «Ма-а, ну, после моря…» – «Нет, сейчас и уже».
Так что вскакиваешь пораньше, в банку – каплю керосина, и – на дерево, зарабатывать перед самим собой поход на море…
Сижу невысоко, но слазить лень, а банка почти полна зелено-серых гадов, глядь, под деревом стоит младший братик, говорю: «Лешечка, вон там у забора ямка, пожалуйста, пойди и закопай эту гадость», – ответ шестилетки после короткой паузы: «Если закопать, они умрут». Я: «Ну, и что, так и нужно». Снова небольшая пауза и демонстративно руки за спину: «Нет!» И – по своим делам.
Живое закапывать нельзя…
Но, слава Богу, дача – это не только гусеницы, полив деревьев сперва привозимой чуть не от порта, позже набираемой по ночам (хоть какой-то напор) в бочки водой, не только поездки в город на базар с мамой или походы в очередь за хлебом, но и море, то чистое еще море, со скалками у берега, с неимоверной живностью в морской траве у этих скалок с чистым первозданным песком и цветной галькой. Случалось как-то (и не раз) тонуть, случалось видеть тех, с кем «это» случилось, и как не изменилась с тех пор природа этого моря, не исчезла, не ушла его суть. Впрочем, возможно, я ошибаюсь, ведь суть моря не может не быть чистой, а это – изгваздано до слез.
Как-то не успелось ни разу во взрослой жизни спросить у Алеши, помнит ли он что-нибудь о наших с ним прогулках по границе моря и обрыва, помнит ли он, чем пахло это исчезнувшее пространство. А пахло оно дроком и дикими маслинами, камышом и осотом, муравьями и лисами, мышами и лягушками, ужами (видел желтобрюха толщиной в руку), черепахами и большими кусками железа – остатками взорванных боеприпасов. Между девятой и восьмой станциями Большого Фонтана на обрыве висела изумительная конструкция из сгоревших железнодорожных вагонов, спутавшихся в один гигантский клубок, цепочка таких же сгоревших вагонов тянулась от четвертой станции вдоль сплошного кукурузного поля. Очень красиво и чуть таинственно, впрочем, ничего такого – Одесса готовилась отбиваться от вражеских флотов, и на восьмой станции была развернута одна из трех или четырех батарей морской дальнобойной артиллерии. А вагоны были от ветки, протянутой к ней от города. Но война пришла и ушла по суше, и одесские обрывы еще лет 25 прожили своей привычной жизнью. И море – и дикое, и доброе, еще свободное от заботы мелких вождей, создавателей «всесоюзных здравниц».
В середине пятидесятых Одесса вылезла из кукурузы, появились Юго-Запады, Черемушки, под ножами бульдозеров стали умирать склоны со всей своей живностью, и у моря отобрали берег.
Но пока я говорю: «Шинькалец, шийдемпойц, шиноремоц?» – что значит: «Лешенька, пойдем на море?» – «малость» важно кивает головой. Мама: «Только не простуди ребенка». К морю не спускаемся, лазим по обрывам, парень – образец дисциплинированности. Короткий инструктаж: «Змей и железяки самому в руки не брать, за лягухами в озерца не лазить, проголодаешься, скажи – вот булка». Странно, но мне ни разу не пришло в голову пополоскать это быстро превращающееся в «глиняшку» создание в море, я и вправду боялся его простудить.
Глаза «щенка» горят, карманы полны разрешенного железа, тараторство вопросов: «а ежа, может, все же возьмем?», «а булки больше нет?».
Жизнь тогда обступала со всех сторон – все двигалось и благоухало, деревья и стоящая под ними корова, и вскипающий борщ – настоящий борщ с молодой картошкой и молодой свеклой, молодой фасолью и вишнями, все эти «молодые» ингредиенты были затерты «старым» салом, и абрикосовый компот – здоровые харчи детства…
Нити жизней наших, из рук Клото, разной крепости и плотности, извиваются в пространстве, от темных нор земли до безжизненных закоулков космоса, мы долго, незрячие, тянем к ним руки, изредка нащупываем – с мыслью коснуться, если не их начал, то конца. Увы, звук ножниц госпожи Антропос однозначен – он первая нота нашего реквиема. Расстаемся мы друг с другом здесь, на земле. И идем рядом по дороге, конец которой уходит в землю. И где же мне тебя искать? Между звезд, в космическом нотном стане или на земле среди цветов, звуков, линий, объемов, кусков глины, хлеба, дерева?
Неподвижность, тишина, бездействие, беззвучие, безвестие, без… без… без… Но где-то ты же есть, Лешик, индивидуум, личность, средоточие жесткой воли и нежности, бесхитростности и четкого расчета сложнейших решений. Душа, открытая приязни и любви, душа, куда не войти «без приглашения». Это еще из детства – неприкосновенность границ «чужого», соблюдение «прайвеси» во что бы то не стало, церемонии, щепетильность «скрупулы», застенчивость прикосновений к чужой жизни. Лучше показаться черствым или небрежным, невнимательным, чем не вовремя влезть с расспросами, это – мамина «польщизна». Завершенности чувство «прайвеси» достигло в Алексее, и!.. О Боже, сколько же от того осталось недоговоренным, недовысказанным и недоуслышанным! Но всегда при том казалось, что впереди бездна времени.

Алла
Плеск светлых глаз, русые волосы, тонкие черты лица, общее ощущение хрупкости. Лиловые горы, зеленое море и разноцветные души зверей и друзей жили в ней – Анна-Алла, жена Алексея, мать двух его сыновей… А может, детей рождают небеса? Расселина от звезд до звезд, полная звуков и запахов, смыслов и неосознанностей. Ею мы приходим в непонятное состояние – жизнь, в неизвестно где находящееся пространство – Мир.
Где-то к концу пути земного стала рисовать красками. Узнал об этом, жаль, когда нельзя было уже обменяться впечатлениями, знаниями. Не успел по ее просьбе нарисовать крыльцо к магазину на Преображенской, не успел. А если вдуматься, много, очень много не успеваем мы додумать, доделать, до…

Слишком рано ушла. Но кто поймет эту высшую арифметику бытия? Полвека с небольшим – это сколько, если в них вместились горы, дети и союз с Алексеем Ставницером? Последний день ее рождения на Мукачевском, шумный сбор друзей, неясное для меня выражение смертельной усталости в глазах. И тогда, как и через не очень уж много лет, другой близкий человек не сказал мне о боли приближающегося конца. А расспрашивать, нарушая «прайвеси», я с детства не умел. Прости, Анна-Алла…



Горы…
Горы – законченная, хоть и находящаяся в беспрерывном движении форма. Выпуклая дыра в пространстве. Закрытая в самой себе стихия – замерзшее море. Прекрасные пустые горизонты. Зеркало, отражающее самое себя. Человек в горах может быть только рядом (но не вместе) с этой живой безжизненностью. Пройти, проползти где-нибудь по краю, превозмочь в себе страх – «криэйтерство» в горах почти нонсенс, там слишком давно все есть (при том в бесчеловечных пропорциях): формы, звуки, краски.
И он ушел от гор, чтобы построить свою гору – башню до неба, с упорядоченной системой звуков и смыслов. И он сделал это.
Ведь штурм неба в человеческом измерении – это не спор с жизнью, но попытка внести в мир что-то новое, не бывшее еще, необычное и нужное. Это строительство жизни без насилия.
Спокойный человек дела Алексей Ставницер и голубоглазый «щенок» Лешка, как далеки и едины оба, замкнутые кольцом Времен. Об этом – вкратце.
Лежу в постели с какой-то ангиной, мама куда-то ушла, Леша носится по дому, чем-то гремит, ставит на подоконник большую кастрюлю, приносит сковороду, затем кастрюлю поменьше, уронив ее с грохотом, поворачивает голову ко мне: «Витя, извини, тебе не мешает?» «Нет», – говорю, и он убегает. В общем, вскоре на двух подоконниках и плите рядом с ними выстраивается композиция из домашней посуды, Лешка усаживается посреди комнаты на табурет, наклоняет голову, снова вскакивает, что-то поправляет, не замечая давно стоящей на пороге мамы, та улыбается, тоже вертит головой, потом со смехом: «Лешечка, в чем же я теперь готовить буду?» Леша секунду смотрит в пол, потом тоже заливается смехом и начинает разбирать композицию. Пятилетний дизайнер.
Идем с Лешиком, ему лет 8, из кино. Смотрели в «Уточкина» «Остров сокровищ». Путь напрямую к дому пролегает через громадную «развалку» (потом ресторан «Киев», фасадом на Греческую). Довольно широкая тропа, и вдруг у самой дорожки – труп собаки, громадной овчарки. Леша, широко распахнув глаза: «Витя!.. – интонация непередаваемая, – как ты думаешь, ей было больно?» Не нахожу ничего лучшего, чем сказать: «Здесь всему было больно, Лешечка», – имея в виду, что идем по разрушенному дому. Я думал, что его этим успокою. «Идем», – делаю шаг, оборачиваюсь. Ребенок машет в воздухе руками, будто разгоняя что-то, и слезы из глаз. Присаживаюсь возле него на корточки, что-то бормочу. Дурак, обобщение было не для такого живого ума. Прости, Лешечка, стыдно. До сих пор стыдно.
Леша что-то делает в углу комнаты, что-то меряет линейкой, постукивает молотком, смотрит на свое изделие внимательным взглядом, поворачивая со всех сторон, приседает на корточки и – шарах! – голубая молния. Это вилка из проволоки, вставленная в розетку. Дитя сидит на полу, широко раздвинув вытянутые ноги, голова к плечу, обе руки уперты сзади в пол. Пауза. Испытатель поворачивает голову к онемевшим зрителям и твердо серьезно изрекает: «Нет. Так нельзя». Пробки не вылетели. «Жучки» тогда делали из толстой проволоки, провода были новенькие, а на изоляцию шел каучук по «ленд-лизу». На лице ребенка ни капли испуга. «Плодотворный ребенок, – сказала мама, – что-то из него вырастет!»
Он был бесстрашным изначально. Я принес из клуба собаководства почти целую лошадиную ногу для нашей овчарки. Бросил ее в прихожей, закрыл дверь от Рекса и, почувствовав усталость, прилег, думая, что на полчасика. Будит меня, осторожно тряся, Леша: «Витя, там Рекс кого-то в прихожей съел, не то вора, не то почтальона», – на лице нет испуга, простая констатация факта. То ли дело я, со сна поверив, – Рекс громадный и лютый пес – несусь в прихожую. Там на полу – раскиданные ошметки мяса, две костищи и еле дышащая колода собаки. Я говорю: «Мерзкий пес». Имея в виду, что с таким делать, как спасать?! Но, услышав за спиной глубокомысленный вопрос: «А где, интересно, голова?» – прихожу в себя, смеясь, на ходу объясняя этому умному миляге, в чем дело. Потом начинаем спасать обжору.
Кавказ. Терскол
Я у Алеши в гостях. Иду из бассейна, любезно предоставленного мне братом «хоть до утра». Леша гуляет с Брутом, встречаемся. Звезды – с кулак. Меня понесло: «…музыка сфер…» – затем в рифму Агасфер, мол, бывал ли старик на Кавказе, почему-то перешли на «Столярского» – о школьных годах мы с ним иногда говорили, вспоминая, в основном, о встречавшихся в жизни интеллигентных людях. А тут возникла тема музыки как профессии, разговор был недолгим (с Лешей как-то не рассусоливалось), но концентрированным. Вот суть его вкратце.
Внутри довольно жестких внешних границ существования правила жизни в семье были довольно аморфны, и каждый сам (в меру талантов своих) напитывался смыслами, красками, звуками. Семья давала ощущение многовариантности жизни и воспитывала готовность отвечать на ее вызовы.
Занятие музыкой сулило (скорее всего) рутину оркестровой жизни, подчинение определенному порядку жизни преподавателя и, совершенно определенно, скудость средств существования. И потому после школы в неизвестность, но с готовностью мыслить, искать, выбирать по своей воле. Но не врать, «не делаться» – быть, а не казаться. А музыка из жизни не ушла, она приходит с первым вздохом человека, да и «Великое Безмолвие» не беззвучно. У Алеши большая коллекция музыкальных произведений.
Женщины. Звук времени
С кем быть, в каком пространстве и на каком расстоянии, всегда решал он сам. Так в его жизни появилась Елена, женщина, разделившая с ним свершения, боль и тяжесть последних лет, до сих пор полная горького счастья общения с ним и скорби от потери совместного их мира. «Я без него жить не могу…»
Елена – спутница времен его ухода с гор во времена воплощения «Главного». Она не могла бы быть с ним в горах. Ее место – долина Аджалыка. Ее время – строительство «Лимана». Дом, деревня, ферма. Она универсальна. В ней – масштаб и вкус. Она – одно из Лешиных произведений. Креатура времен рассветного заката. Она была поддержкой на совесть…
Есть в ее лице какая-то очаровательная «неправильность», что-то мне кажется ассиметричным. Оно изменчиво. Что она красива – осознается постепенно. Уверен, он любил ее. Жаль, что уже никогда…
Алексей-Леша
Этот человек воспринимал окружающее как только что рожденное (и тем нуждающееся в его опеке) или застывшее в ожидании его вмешательства, которое приведет в действие цепь событий. И то, что ему нужно, – сейчас и здесь. Эхо вопроса «Что делать?..» – «Делать! Решиться и делать. Думать и делать».
Он был органической частью доброй, созидающей сути жизни, личность изначально благородной потенции, он строил мир в себе и вовне, любя и сомневаясь, и главным правилом его жизни было золотое правило «Декалога» – «не делай другим то, что не хочешь, чтобы причинили тебе».
Две основополагающие черты его натуры – рационализм и чувственность – в отношениях с жизнью и людьми он сумел впечатать и в сыновей своих, таких разных, но неизбежно единых в душевной порядочности. «Стать» коллег его и компаньонов тоже неслучайна. Здесь все – знание предмета, четкая хватка и порядочность. Порядочность. Алексей просто создавал атмосферу порядочности, ну прямо XIX век с его твердым «купеческим словом». Слияние воль и интуиций, нестандартность мышления и вслед за тем решений. Умение подчинять и подчиняться. Подчинять все необходимости. И подчиняться любви к делу и к людям делотворящим. Ясно одно: другие люди – и, возможно, не воздвигся бы гигант ТИС.
В Леше жило творчество, оно и соединяло его с природой, с другими и с самим собой. И еще он четко понимал разницу времен и обстоятельств, ими порождаемых. «Экую империю вы тут сгрохали, сэр», – говорю. А он: «Эх, отец не дожил, он бы развернулся…»
Время начала нашего пути и окончание его нам не подвластны. В обоих случаях мы – ожидающие. Вот только цвета «черты» (или «порога») разнятся друг от друга, но сливаются в одно общее – мрак. То есть един цвет начала и конца.
Сказано: «Из праха пришед…» По-моему, материал, идущий на нашу оболочку, не так важен – важно, откуда приходят такие Леши и почему так редко. Может, со звезд, но и звезды отделены от нас и друг от друга мраком. Мрак – и не цвет, и не отсутствие его. Мрак – одно из агрегатных состояний Времени и Пространства. И мы, люди, и все, все сущее вмещаемся, вписываемся в тонкую «черту» где-то на границе сосуществования понятий. Значит: «Из мрака пришед, во мрак отъидеши…» Но, приходя, мы одновременно начинаем уходить, значит, во мраке пребываем, как дома. То же и Время. Это как случай Давида и Голиафа: разбрасывать камни и собирать их одномоментно (ну, почти), т. е. на лицо одинаковость бытия и отсутствия оного.
Все эти рассуждения понадобились, чтобы хоть чуть примириться с вопиющей неправильностью отсутствия Алеши по «эту сторону черты», в мире еще живых. С ним здесь было намного интересней.
Но однажды что-то изменилось во взаимных отношениях причин и следствий. Непонятный механизм тварного и бесплотного в неисчислимый раз показал, что «да», это – «нет», что надежда труднее возникает, чем перерастает в безнадежность, и ты задремлешь, продолжая надеяться в комнате какой-то клиники, а придешь в себя, чтобы услышать от младшего сына ужасное: «Папы больше нет». И в тебя войдет хаос зеленой пустоши, опавшие плоды, скользкая грязь наступившего ничто. И сущей нереальностью становятся «годы тому назад», реальностью становится растворение в пространстве…
Вино жизни стало уксусом, кислотой, источающей, разъедающей пребывание, наступает время, когда не нужны ответы – не возникает вопросов, иссякли.
От отца в нем была надежность. Легкая в движении плотность поступков и предприятий. От мамы – совершенный слух и… и… Каждый из нас – недостающее звено между плюсом и минусом, между да и нет, между светом и мраком, который все же – светлый мрак! Может, по ту сторону креста очень нужна Лешина готовность брать все на себя, «пенять» на себя, подменять собой, готовность заложить всего себя за «други своя»? А может, здесь, по эту сторону, мы – только схемы самих себя, кроки? Но на пути к чему? И, может, момент ухода – знак того, что ты все свое уже сделал, но не плачь, впереди – труды не менее значимые. Это в системе «сансара» – превращений, но, может, между «сансара» и скучной нирваной должно быть что-то третье (как понятие)? Предлагаю быть Человеком. Но только Человеком – Лешкой, Лешечкой Ставницером.
А если «там» пусто и холодно? Впрочем, «пусто» предполагает равнодушие к «холодно». А может, «вечность» – это поле деятельности? А может, вечность не окоротить и не надставить? Не перелепить, не довырубить? Так там нечего делать? А может, потерпеть Вечность? И, может, после Страшного Суда все только начнется, когда Вечность свернется в Ничто, не ясно только, где в «этом» окажется каждый из нас живущих и живших. И вспоминается…
19 февраля 2011 года, Вена, Леша спит в номере «Ринга». Елена звонит ко мне в номер: «Витя, Леша просил посмотреть одну икону, идешь?» – «Иду». Икона Леше приглянулась интересная, наверное, век XVII, но большие утери, реставрация будет сложной, начальная цена чрезмерна.
На обратном пути вижу музей – Академию искусств, где Триптих Босха, – куда уже дважды не смог попасть. Знаю, что Леша и Елена были там не раз. Извинившись перед Еленой, которая продолжила свой путь в гостиницу, промчавшись по этажам, а затем вдоль стен и сказав себе: «…я это видел… страх Божий… почему так поздно…» – и прочее такое, и, сказав: «…еще до встречи…», – я вылетел в прихожую зала. Распахивается дверь лифта, и передо мной Леша в коляске, ведомой Еленой. Он улыбается (так деликатно, как больше я никогда и ни на чьем лице не увижу, знаю это) и: «Витя, вот-те на, ты что, уже уходишь?» «Не, – говорю, – прости, только собираюсь приступить к осмотру». Везу его в зал. Служитель: «No sticks», – я бегу с костылями к камерам хранения, назад… А потом мы с Алешей первый раз в жизни в музее рядом, у чудесных и страшных окон в мир, пробитых в стенах «Канавы», насквозь пронзающей жизнь, и всем смотрящим в эти окна гласяще: «Оглянись!» Долго стоим возле Триптиха. «Вить, смотри, а интересно у нас в аду», – смеется. Что это? Предчувствие? Или он уже провел черту между нами?
Как я звал его с его последнего ложа – не вышло! Прости мне, Леша, этот скулеж. Прости, и до встречи…
Игорь Шаврук

В конце ноября нежданно заснежило, и газеты вновь запестрели заметками о превращении Англии в Скандинавию – островитяне никак не желали смиряться с изменениями климата. Через снежную ночь я и ехал из Скарборо, на севере, в столичный аэропорт Хитроу. Спящие под толстым слоем снега деревни, хорошо знакомые города… Йорк… Лидс… уже нарядно украшенные к предстоящему Рождеству… Кружащиеся за автобусным окном вихри по странным законам памяти вызывали затерявшуюся в глубинах памяти лыжню – деревья в белых шапках, желтоватые фонари на растяжках, шлепки лыж позади…
Обычно мы с Лешкой бегали на лыжах в парке Шевченко или по нынешнему Александровскому проспекту, который был сначала Сталина, а потом Мира. У него азарта было на это занятие на двоих, он готов был и среди дня сорваться на лыжи на часок-другой.
Где парк Шевченко пятидесятых прошлого, где Англия начала уже нового века? Жаль, что в последнее время, подумалось, стали опять видеться реже. И я постановил непременно по приезду в Одессу вызвонить Алексея, как бы он ни был занят. После его возвращения с Кавказа прервавшиеся по естественному течению жизни наши встречи и беседы возобновились. Ясно, что не в том режиме, как в школьные и юношеские годы. То у меня гастроли, то у Лешки работа, командировки, переговоры, проекты. И вечное строительство – то причалы, то склады, то какие-то станции. Получалось, по моим подсчетам, что последний раз мы виделись больше года назад. И выглядел он как-то… Но тогда у ТИСа был очередной конфликт с портом, к причалам терминала не пускали судно с важным грузом, в такой войне выглядеть огурчиком с пупырышками сложно.
После возвращения в девяностые в «суету городов», как мне показалось, у Леши более тесным был контакт с Шурой Красотовым. Может, потому что я месяцами пропадал на гастролях. Пропадал – возможно, и не совсем точное слово, потому как работать по три-четыре месяца в Англии, Испании или Германии было интересно и, что уж тут скрывать, выгодно материально. О такой свободной жизни мы в юности только мечтать могли.
О том, что Алексей вернулся в Одессу и занимается бизнесом, я узнал случайно. Попытался было разыскать его через общих знакомых, но не срослось, а тут – новые гастроли, словом, прошло какое-то время, пока мы встретились и… Стоят друг перед другом два немолодых уже человека, в прежней, школьной жизни – не разлей вода, во взрослой – каждый со своей стезей, а что в нынешней – ни одним словом не сказать, ни в одной встрече не проговорить. Если можно так сказать, мы начали знакомиться заново. И это новое узнавание друг друга было не на равных.
Новый Лешка, Алексей Михайлович, был для меня абсолютной неожиданностью. Что его занесло от музыки в горы – понятно, но в бизнес? Да еще в портовской, требующий специального знания и опыта? Правда, Шура Красотов вывел нечто вроде формулы: Лешка являет собой неопровержимое доказательство, что хороший музыкант способен на успешные занятия во всех сферах жизни.
Но в этой шутке была всего лишь шутка. Все, что Алексей рассказывал нам о своем деле, – причалы, корабли, склады и железнодорожные составы, транзитные грузопотоки, краны и технологии – было выше моего понимания. Когда во время наших встреч он отвечал на телефонные звонки, меня оторопь брала – шаг передачи, модули, сыпучесть, какие-то шпунты и тяги…
– Откуда ты все это знаешь?
– Ты не поверишь, пришлось читать другие книжки, – отшучивался он.
А мое занятие – музыка – Леше оставалось родным, понятным и близким. В музыке он не стал понимать меньше или чувствовать ее хуже, делал, как всегда, замечания лаконичные и точные. Если говорил, что его «зацепило», это был комплимент. Если ничего не говорил, то тема не стоила разговора. Хотя «лихие девяностые» были для него сложными и напряженными, он был частым посетителем филармонических концертов, вошел в Клуб друзей филармонического симфонического оркестра, в который Хобарт Эрл вдохнул новую жизнь и проложил ему дорогу к обретению статуса Национального.
В неизбежных при встречах расспросах о том, кто-где из прежних друзей, я и узнал от Алексея, что из «китайской стороны» приезжает Шура, Александр Красотов. Он был не намного старше нас, но на послевоенных весах каждый год значил нечто большее, чем количество дней, – это был опыт выживания. В школе Столярского, не бедной способностями и даже талантами, Красотов выделялся, помимо всего прочего, тем, что писал музыку. А исполнение и сочинение – разный уровень амбиций. Теперь Шуру занесло в Китай, где преподавал композицию в консерватории. Он пошучивал, что консерватория провинциальная. «Провинциальный» по китайским меркам город имел население в несколько миллионов, студенты были жадны на науку – учить их ему было легко и приятно.
В воспоминаниях иногда рождаются хорошие идеи. В частности, из ностальгии по эстрадному оркестру Жени Болотинского, появившемуся в шестидесятые в доме культуры Промкооперации. Мы путешествовали во времени вспять, когда еще Дерибасовская лежала под сенью акаций. Они смыкались кронами где-то высоко-высоко и образовывали зеленый тоннель. По странной моде Дерибасовская делилась фланирующей публикой на два потока. По нечетной стороне прогуливался народ, который можно было бы по классовой терминологии назвать буржуйским: интеллигенция, офицеры торгового флота с дамами под руку, художники и музыканты. По вельветовым рубашкам апаш в пятидесятые можно было отличить моряков загранки, как в шестидесятые по плащам «болонья» осенью или нейлоновым сорочкам летом. Разумеется, никаких кофеен не было, их извел победивший социализм. По четной стороне гулял народ попроще, сплошь в вельветовых «бобочках», там еще и в начале пятидесятых держалась инерция послевоенной моды: кепки-шестиклинки, хромачи, белый шелковый шарф. Эти потоки, может, благодаря тому, что по Дерибасовской ходил транспорт, никогда не смешивались. Мы себя чувствовали своими по обеим сторонам главной улицы.
Вечерами Дерибасовская не становилась тише, скорее наоборот. Публика с левой и с правой стороны считала необходимым показать Одессе новое чудо техники – транзисторный приемник.
Они были разных габаритов, но все орали на всю мощь динамиков. И тогда одесская знаменитость тех лет, художник Олег Соколов вышел на Дерибасовскую с шарманкой. Личность это была удивительная. К нему запросто можно было по средам ходить в гости без приглашения. От разговоров в мастерской Соколова вяли уши у кагебешных агентов, которых все знали и не боялись. Пожалуй, оттуда начинались наши политические университеты. И о культе, и о ГУЛАГе, и еще много о чем мы узнавали там задолго до «Одного дня Ивана Денисовича» или «Чистого неба».
Воспоминания вновь водили нас на крышу школы Столярского, самое любимое место школьных лет, мы там проводили все свободное время от уроков и вместо уроков. С крыши открывалась совершенно другая Одесса, ее улицы текли, как реки. Не буду утверждать, что школьная крыша имеет какое-то отношение к горным вершинам, которые потом так манили Лешку, но что с ней связаны первые, если можно так сказать, восхождения – точно. Было дело в старших классах, и в этом теперь можно сознаться: однажды ночью мы забрались на четвертый этаж, под крышу, в кабинет, где, по нашим предположениям, хранились экзаменационные билеты. Задумка была хулиганская – пометить билеты, чтобы каждый, не напрягаясь, выучил свои вопросы и не более. Восхождения, а их было два – в кабинеты музлитературы и химии, закончились неудачей, экзаменационные билеты мы не нашли. К слову сказать, в нашем отрочестве почему-то было модным ходить в гости, залезая по водосточной трубе на нужный этаж, потом, прогулявшись по карнизу до нужного окна, удивить хозяина. Не знаю ни одного несчастного случая, связанного с этими хождениями по стенам, как и не могу внятно пояснить такую моду – разве что каким-то повальным увлечением молодежи альпинизмом.
Само собой, что крыша была свидетелем наших разочарований и восторгов от первых свиданий, влюбленностей и, естественно, открытий. Никогда и нигде так хорошо не тек разговор о музыке, о литературе. Открывая для себя Бабеля, Чапека или Ремарка, Хемингуэя или Бредбери, мы всякий раз поражались, что еще вчера ничего об этом не знали, и ужасались, что так могли и не узнать эти высоты духа. Я помню, как нас поразила «Серенада Солнечной долины» – прежде всего, конечно, музыкой, это была иная жизнь, иной мир. Это ощущение было общим, мы пронесли его через всю взрослую жизнь. И именно в этих путешествиях во времени у меня мелькнула мысль включить Глена Миллера в свой репертуар.
Как потом оказалось, память о «Серенаде» бередила не только мою душу. Перед отъездом в Китай Шура Красотов отдал мне написанную специально для моего камерного оркестра новую аранжировку «Серенады…». Я был тронут, но и растерян – дружба дружбой, но такая работа стоит денег, а наш оркестр, мягко говоря, беден. Шура меня успокоил: гонорар он уже получил.
Потом я узнал, что аранжировку ему оплатила Лешина компания.
Музыкальная среда Одессы тех лет была своеобразной и отличалась от подобной субкультуры других городов. Если коротко, в ней была на несколько делений выше концентрация талантливых людей. Зарплаты у музыкантов были копеечные. Музыкантов называли «веселыми нищими», и это было абсолютно точное определение. Каждый, кто собирался стать музыкантом, должен был смириться с бедностью, что, говорю это по личному опыту, является тяжким испытанием. Подзарабатывать на жизнь в оркестрах, клубных кружках и вообще везде, где можно, было делом обычным. Но то, что затеял в ДК Промкооперации Болотинский, было не приработком лабухов, а прорывом в иное качество культуры. И само собой вносило в палитру музыкальной жизни новые краски.
Красотов делал для этого оркестра аранжировки и писал собственные композиции, и, как мне кажется, не без его доброго слова Болотинский взял в оркестр Лешку, 16-летнего школьника. Но слово словом, а чтобы оказаться в этом оркестре, нужны были талант, драйв и то особое качество, которое можно назвать чувством общности, без которого в оркестре делать нечего. Оркестр исключает личные амбиции и обостряет чувство коллективизма, соло каждого музыканта – своеобразная награда от товарищей.
Леша играл на альте. Альт был его первой любовью. Спустя многие годы он как-то скажет, что среди лучших романов советской школы числит «Альтиста Данилова» Орлова. Думаю, неслучайно.
Теперь уже нет с нами ни Александра Красотова, ни Алексея Ставницера, но когда оркестр исполняет «Серенаду…», я нет-нет, да и подумаю, что, возможно, кто-то из молодых слушателей сохранит ощущение праздника от музыки Глена Миллера так, как сохранили его мы.
Старая, пуританская, консервативная Англия пряталась в снежной ночи, комфортабельный салон автобуса располагал не только к воспоминаниям, но и размышлениям. В частности и о том, что мы предположить не могли, как на нашем веку рухнет «железный занавес», как загадочная заграница станет не просто доступной для путешествий, но и для работы. Возвращаясь после гастролей в Одессу, я рассказываю Лешке об английских театральных площадках, где дирижирую, а он мне о муторных переговорах с западными партнерами – поставщиками оборудования для ТИСа. Лешка отличается дотошной любознательностью: как англичане ходят в театр, как слушают, что понимают. Он и сам не раз бывал в Англии, у него свой ряд наблюдений, он их сверяет и пытается понять то, на что у меня нет ответа. Ему очень нравился памятник Черчиллю – мощная, идущая встречь ветру и преодолевающая его сопротивление фигура.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?