Текст книги "Очарованные Енисеем"
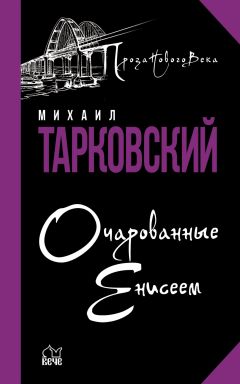
Автор книги: Михаил Тарковский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
По радио: ведущий Алексей. Звонок: «Здорово, Лёх».
58 тыс. человек погибло у нас в этом году.
9 дек. Ветер срывает дым с трубы. Завтра надену шапку нормальную, ушанку. Начинаю читать «Визитные карточки». «Завернули ранние холода»… Прекрасно как! Пароход… да всё… И вправду, сколько в жизни всего крепкого, хорошего.
Белый иней на деревьях по свинцовому небу. Как всё особенно первобытно – грубо наколотые дрова вокруг печки, обледенелое парящее ведро. Кто-то из мужиков говорит про товарища: «Ещё два-три дня, и в Байкит намыливается – защекотилось у него!»
21 декабря. Завтра еду. Естественно, плохо спал, хоть и на мягком сегодня (привез спальник с Майгушаши). Сегодня добыл куропатку. Она белая – попасть трудно, но попал, и она полетела на ту сторону и чиркнулась в снег на берегу, оставив синюю борозду-стрелу. Белая, чистейшего цвета – и капли алой крови… Погода сжалилась эти дни, 20–25, чуть ветерок с запада, ночью падает легчайший пушистый снежок из тонких палочек, припорашивает каждую ветку – до первого ветра. А завтра, похоже, опять мороз будет, ну и ладно!
После Нового года. Январь, 18 числа. Пришел запускать. Почему поздно – после Нового года мороз прижал, до пятидесяти восьми. Потом поехали. Поломались «нордики», один без вентиляторного ремня на Бедной, другой без коренного подшипника у Холодного. Пошел с Холодного, а мороз, на Метео переночевал, утром без двух пятьдесят. Да еще хиус, ветерок то есть, в морду. Дошел до Чёрных Ворот, ноги стало прихватывать, но не успело, зашевелил, так, пощипало слегка. Потом пошёл на Молчановский, потом (оттеплило слегка, утром чуть морочок) пошёл тайгой на Остров, дошёл хорошо, хоть и бродь.
21 янв. Пришёл с Майгушаши. Добыл там всего одного (!) соболя. И не на той, где думал, дороге. А где думал, добыл белку и зайца-великана в последнем очепе, издали гляжу – коромысло поднято, что-то висит, вижу белое, надеюсь, соболь заснеженный, потом надеюсь – песец, потом – тьфу – ушкан! Он всю дорогу мою пробежал. Чуть не с кобеля размером вообще-то кстати, брюхо поддержал.
День все длинней, в 9 уже синё, можно идти. Весной запахло, южный ветер и ясный денёк после облачности, солнечный, тёплый, с щедро-синим небом. Блажь в воздухе. Утром вчера, когда шёл хребтом, всё было совершенно синим: и кухта, и снег, и заснеженные колонны ёлок. Пушнины нет, и вечерами там на Майгушаше делать было нечего, смотрел на часы, торопил жизнь, спасался мыслями о прожитом, перебирал, будто ящички выдвигал из старинного комода, сколько всего! Писать надо. На Ручьи пришел, поднимался к избушке, радовался, отличное место и любимая избушка. Хорошо, когда стены жёлтые, для меня здесь дворец, всё есть, приемник и прочее. Завтра проверю короткую дорожку, скину снег с крыши, уберу шмотки на лабаз и попробую рвануть ниже. А там…
Не доходя до Майгушаши есть скалка, по ней течет вода струями и замерзает голубыми прядями. Когда я здесь, я будто соединяюсь напрямую с чем-то главным… и одновременно чувствую себя червём. Человеку обязательно нужно почувствовать себя червём.
Когда трудно, погода, соболя не ловятся, и просто с трудом что-то делается, хочется в деревню, а когда всё хорошо – тогда не хочется, что ли? Глянул на свою диковинную обмороженную рожу в зеркало – словно сбежал.
Нашёл запись 88-го года: «5 октября. Покрыл крышу. Рубероид склеенный, долго с ним возился. Сделал нары, пропилил окно, вечером сбил стол. Сруб с крышей стал избушкой. На стене ёлочка-отпечаток от сапога. Стелил пол, вторые нары. В избушке осталось только обдёргать-подоткнуть мох. Снаружи добрать половину сеней. Днём прилетают кукши, кедровки, ворон, дятлы. Вчера ходил вверх, глядел с яра на чёрный хребтик, идущий к Т. с запада. Все это – только что срубленная избушка, постепенно устанавливающийся порядок, растущие поленницы, камни под печкой, хребты – наполняло ощущением сбывающейся мечты. Какая-то ошарашивающая настоящесть слепит и высвечивает душу. Питает и крепит основательность тайги, далей, постепенность перемен, глубина и истинность… Это одна сторона, наружная. А внутри отвыкшая трудиться душа ломалась больно, металась от тоски к радости и не могла родить ни строчки. Не покидает ощущение странности жизни в этой, только что среди мокрых ёлок срубленной избушке. Сколько ни говорил с мужиками, все сходятся в одном: чуднó глядеть на срубленное твоими руками зимовьё. Не верится, и кажется, будто оно здесь всегда стояло. Настолько у него извечный вид. Вот и со словом должно так же быть».
23 янв. Поехал с Острова на Молчановский.
26 янв. Утро в деревне. В книгах прошлое людей имеет вид вставшей реки, а жизнь текуча, и переживая передрягу, не чувствуешь этой будущей законченности. Силён и спокоен тот, кто видит её заранее.
Мы всё себе придумываем, и тогда кажется, что есть сильный мир. Как в эфире будто голоса мужиков, а на самом деле радиоволны и сотни вёрст ночной тайги. Когда себе придумывают сильный мир – выходит судьба. Когда другим – книга.
C высоты
Ничего не остается, кроме воспоминаний…
Игнат Кузнецов
1.
Я родился 25 декабря 1959 года в поселке Никифорово Туруханского района Красноярского края в семье заготовителя Виктора Никифорова.
Поселок наш стоял на коренном правом берегу, с которого стальной трехкилометровый Енисей просматривался на десяток верст в каждую сторону. Высокий, таежный, круто обрывающийся к воде берег уступами мысов уходил вдаль и сходился у горизонта с узкой, почти невидимой, полоской левого берега. За деревней забиралась в хребтик тайга, слева маячил лиственями распадок Лебедянки. Зимой из него тянул пронзительный хиус, так резавший лицо и глаза, когда темным утром со старшим братом Валеркой мы шли в школу вслед за нашей матерью – учительницей русского языка и литературы.
Сразу за нашим домом стояла кособокая, седая от ветров и дождей изба деда Карпа, благообразного остяка, заходившего к нам после бани в байковой клетчатой рубашке и шароварах. По утрам дед Карп манил с крыльца Бусого, старого кобеля с отмороженным ухом, долго кричал вдаль, щуря и без того узкие глаза, и, подставляя лицо верховке, южному ветру, манил монотонно, протяжно, и моему детскому уху его крик почему-то слышался как: «Бусмерь, Бусмерь, Бусмерь!»
Помню томительное ожидание ледохода. Енисей уже подняло. Лед вспухший, в трещинах, через широкую зеленую заберегу уже не перекинешь доску, отец переезжает ее на ветке, в которой навалены гусиные профиля, фанерные, крашенные темно-зеленой краской, с колышками для втыкания в снег.
Никак не идет этот лед, все опостылело, никуда не выйдешь – Енисей весь живой, забереги широченные, ночью то и дело раскатисто грохает лед, а в лесу по пояс рыхлого снега.
Витас – небольшой, рыжий, вихрастый литовец с веснушчатыми веками – вечно собирал всякие механизмы и на этот раз сделал что-то вроде плавающих аэросаней, установив на железное корыто одноцилиндровый мотоциклетный двигатель с деревянным винтом.
На той стороне уже вовсю гоготали гуси. Под вечер Витас утащил к забереге под наши окна корыто, двигатель, долго устанавливал его. Мы сидели на крыльце. Где-то тренькал табунок чирков. Витас закончил сборку, положил в корыто ружье и профиля, и вот он стаскивает свою посудину, садится в нее, гребет через заберегу, вот уже налез передком на лед, и вот – все это происходит моментально – Витас проворно выкарабкивается на твердое, потому что корыто, хлебнув кормой воды, стремительно тонет. Помню невозможный смех, который разобрал нас с Валеркой от этой картины, и веселые глаза отца, ринувшегося под угор с веревками и багром. Кто-то стащил ветку, трясущегося, но неунывающего и серьезного Витаса перевезли на берег, потом, тросом, нашарили и выудили его агрегат. Витас все переживал из-за ружья, но оно лежало целехонькое, заклиненное сбоку между бортом и какой-то стойкой. Витас долго разбирал свою конструкцию, и в студеной тишине вечера отчетливо слышались его бормотанье и звяканье ключа. Вскоре раздался стук подошв по лестнице. Сначала показалась лопасть винта, потом вихрастая курносая голова. И вот он удаляется по краю угора, согнувшись под взваленным на спину мотором, с растопыренным деревянным винтом – напоминая неудавшегося воздухоплавателя. Наутро пошел Енисей. Ошалело метнулся табунок уток, ослепительно блеснула вода в длинной ломаной трещине, и вот с мощным грохотом толкает лед на берега, растет кайма грязного зубастого льда по берегу, и на каргу, каменистый мыс, мнет ледяную сопку размером с дом, будто кто-то невидимый пихает на нее сзади сахарную треугольную глыбу, которая вдруг с проворной легкостью обрывается вниз, а на ее место уже громоздится горб сизой каши с задранным в небо бревном, на глазах прибывает вода, а мы с Валеркой стоим внизу у разливающейся по песку выпуклой лужи, в которой лежит, сияя, голубая льдина, будто собранная из длинных хрустальных иголок.
Жена деда Карпа тетя Груня, маленькая сухая националка, приходила в гости, бухалась на табуретку и говорила: «Это че за погода такая? То сибер, то беркопка». Дед Карп время от времени гулял, продав на пароход рыбу, и вся благообразность с него слетала. Он хватал ружье и принимался гонять тетю Груню. Однажды мы с Валеркой, который не мог без приключений, попали под его обстрел. Из избы выскочила очень серьезная тетя Груня, а за ней дед Карп с ружьем. Он оглушительно пальнул в воздух, тетя Груня прытко шлепнулась в траву и затаилась. Мы тоже залегли и слышали сопенье Карпа, его шаги, крик: «Грунька! Тоять!» – и отчетливые щелчки взведенных курков. Потом Валерка пошевелился, Карп выстрелил, брату попала в губу дробина и так и осталась в десне, где ее с восхищением щупали младшие ребятишки. «Была б бинтопка, он бы его убил, нехоросый он пьяный, – говорила потом Груня и, помолчав, задумчиво добавляла: – тарик мой».
Степановы – наши соседи с другой, нижней стороны – дерганый, психоватый дед Прокопич и баба Таня, которой упавшей лесиной изуродовало лицо: ушел в сторону нос, съехал глаз и вообще тряслась вся голова. У нас с Валеркой было развлечение – стукалочка. Мы брали самоловный крючок, вешали на него вместо поплавка картофелину, привязывали к ней длинную нитку и, когда темнело, втыкали крючок Прокопичу в оконную раму. Сидя за баней, мы подергивали нитку, картошка стучала в окно, Прокопич выбегал, сопел, озирался и ничего не понимал. Мы ждали, пока он уйдет, и тогда снова дергали нитку, доводя старика до бешенства.
У Степановых жил в это время то ли бич, то ли просто приезжий парень, собиравшийся охотиться, – точно не помню, и Прокопич в один прекрасный день приревновал его к своей кривой трясоголовой старухе и застрелил из ружья навылет в грудь. Стрелял через дверь из избы в сени, а после выстрела заперся и занял круговую оборону. Мы с Валеркой проползли по траве к сеням и слышали, как с хрипом выходит воздух из простреленной груди паренька. Кроме этого доносился еще какой-то странный мягкий звук. «Сучка кровь слизыват», – с недетским пониманием дела прошипел Валерка. Прокопич вскоре одумался и сдался. Приехал на почтовом катере следователь и увез его в Туруханск. По дороге они на пару пили и так куролесили, что капитану пришлось связать их обоих. Так они и провалялись связанные в кубрике до самого Верхнеимбатска.
В какие переделки мы только не попадали с братом! Мне уже исполнилось пятнадцать лет, когда после Нового года мы проверяли у десятиверстной избушки капканы. В начале верхней дороги я увидел медвежьи следы и ночную лежку – снежную яму с бурым волосом на стенках. Следы уходили по путику, тянувшемуся в полуверсте от Енисея. Я вернулся за Валеркой, мы побежали по следам, но так никого и не догнали, медведь свернул к реке. Мы попили чаю, собравшись в деревню за отцом, спустились к реке и увидели вдруг черную фигуру медведя, не спеша трусящего по проколевшей забереге в сторону избушки. Валерка крикнул: «Вон он, вон!» – и выскочил на лед. Я следом. Зверь, заметив нас, ринулся в гору, мы бросились за ним. Почему-то решив, что он доберется до утренней дороги и снова побежит по ней, мы разделились: Валерка полез за медведем, а я помчался по забереге вверх к ручью, где наша дорога близко подходит к берегу. Поднявшись, я со взведенными курками шел на лыжах рядом с дорогой, ожидая, что медведь вот-вот попадется навстречу. Раздались несколько выстрелов. Дойдя до следов, пересекающих путик, я побежал по Валеркиной лыжне. Снега было больше метра, и медведь передвигался прыжками, оставляя глубокие борозды. Сил у него оставалось немного. Было удивительное ощущение легкости и азарта, я летел, как на крыльях, пока вдруг не услышал негромкий полувопросительный голос Валерки: «Серьга?» Как будто это мог быть не я. Валерка материл ружье, из-за раздутых стволов плохо бившее пулей. «И сюда, – он взял меня за плечо и указал в елки метрах в тридцати за небольшим прогалом, – во-о-нде-ка». Я ринулся туда с ружьем в руках. Медведь, казавшийся на снегу угольно-черным, поднялся вдыбки и зарычал раскатистым рыком – с таким звуком рвут очень крепкую ткань. Мне запомнились круглые уши и густо-красная пасть с языком. Я выстрелил ему в лоб, и он рухнул. Подбегая, я еще раз выстрелил ему в голову, и он даже не дернулся. Это был один из ярчайших дней в моей жизни. Валерка шутливо буркнул что-то вроде, мол, все сделал, загнал, только «стрелить осталось».
Шатун оказался исхудавшей медведицей с желтыми старыми зубами. Ободранная, лежащая ничком, она поразительно напоминала освежеванного атлета. Потом мы возили на нарточке мясо, потом отец налил нам водки, и мы, перебивая друг друга, в десятый раз рассказывали, кто куда побежал, что подумал, и как медведица, когда Валерка стрелял, кидалась на березку и летела из-под ее зубов береста. Главный деревенский дед дядя Вова, прямой крепкий сельдюк, говорил своим гулким басом, обращаясь к нам с Валеркой: «Моводцы, что прибрали, а то бы он вас создрал». Он выпил стопку, но от второй отказался, накрывая ладонью рюмку и бася: «Нельзя-я-я. Бауска заругат». Старики еще долго обсуждали, что выгнало медведицу из берлоги. Наш дед считал, что она «зыру не набрала», дядя Вова, что ее «коренная вода пошевелила», а отец, подмигнув нам, примирительно сказал: «Хрен их разберет, может, она с осени шарашится». Шкуру мы отдали тете Груне, она ее выделала и отрезала нос. Мы возмутились, а отец махнул рукой: «Век такая ерунда. Это у них болесь», имея в виду, что у всех медведей остяки почему-то отрезают носы.
Однажды весной мы чуть не утонули, пробуя сорвать с зацепа плавную сеть. Веревка намоталась на винт, мотор заглох, лодку поставило носом вниз, а поскольку мы оба сидели в корме, а течение было сумасшедшее, через транец хлынула вода и поглотила бы нашу казанку, если бы мы не метнулись, как наскипидаренные, на нос. Отчерпавшись и осторожно пробравшись к мотору, я перерезал веревку.
Валерка ничего не боялся, в его храбрости было что-то отчаянное, казалось, он даже притягивал опасность. Однажды мы ездили в Севостьяниху по ягоду. Пилили дрова возле избушки, и вдруг потемнело небо и налетел зверский шквал. Из-под берега взмыл «ветерковский» капот, потом выросли на воде неестественной высоты и частоты черные, похожие на лезвия, волны, тут же завернувшиеся трубочками, зашумели кедры, мягко и на удивление податливо клонясь и качая мясистыми ветками, и вдруг стали с треском падать один за другим, выворачивая корни с подстилкой. Валерка отскочил, и на место, где он только что стоял, стрекоча «дружбой», рухнул, сотреся землю, сучковатый ствол. Через минуту все стихло. Мы, обалдев, глядели на уцелевшее зимовье, по бокам которого упало по лесине. И вокруг нас и дальше вдоль берега – всюду стояли вывернутые пласты земли с корневищами и пергораживала путь вздыбленная тропинка с оббитым нашими сапогами корнем и висящим на остатках печурки капканом.
Мой дед по отцу – дед Никифор – ослеп в семьдесят лет. Он был, как и отец, очень живым и деятельным, и ослепнув, все продолжал руководить жизнью на расстоянии, все спрашивал у отца, где и как поставлены сети, добром ли вытащена лодка, накормлены ли собаки и прочее, причем меры не знал и вызывал этим раздражение матери, которая говорила, ударяя на слово «наверное»: «Да ты че, дедка, такой-то? Наверное Витя знат, как делать». Про сети он говорил: «Не ставь на быстерь – плесенью забьет». Однажды по дороге с рыбалки меня едва не угробило оторвавшимся от мотора маховиком, маховик оторвался вместе с верхушкой вала, просвистел мимо моего виска и вонзился в воду. В доме начался переполох, а дед только задвигал напряженным лицом и сказал своим глухим голосом: «А ты, парень, в рубаске родиуся».
Дед сидел в свитере на высокой железной кровати, держа в руке палку, прямой, худощавый, с проступающим костяком продолговатого черепа, глядя куда-то вперед белесыми глазами, и время от времени что-нибудь рассказывал. Он говорил «горносталь» и «росомага», отца называл Ветя. Я никак не мог взять в толк, почему от верховки волна частая, суетливая и невысокая, а от севера медленная и большая, но сразу понял, когда дед объяснил, что «сивер, он Анисей задират».
В его времена соболя почти не было и охотились на белку. Охотники ходили в тайгу звеньями по четыре человека, продукты и палатку с печкой тащили собаки. Дед рассказывал, как они гайновали, что требовало большого искусства, как выгоняли верховой ход белки по ссыпавшейся с веток кухте. Охотники опромышляли одно место, снимали палатку и шли в другое, дневной переход назывался «палаткой», и когда отец спрашивал специально для нас с Валеркой: «Скажи, дедка, сколь до Каменного километров?», дед быстро отвечал: «А парень, девять палаток». Дед изрядно потаскал отца по тайге, отец им гордился, ему нравилась охотничья старина, и зная все дедовы истории наизусть, он специально для нас заводил того на рассказы и сам их слушал, поглядывая на нас и кивая на деда, вот, мол, какие старики были. Дед рассказывал про эвенков, которые ходили по Кяхте на берестянках. У этих лодок был деревянный каркас, листы бересты сшивались корешками, а стыки заливались смолой. Два брата по фамилии Эмидаг относились к нашему сельсовету, но жили в хребте, выезжая на оленях снабжаться на факторию Тынеп. Вместо порток они носили «трусы и ноговицы», и нас с Валеркой очень смешили эти трусы и то, что эвенки однажды купили в никифоровском магазине велосипед и увезли с собой в тайгу.
Отец работал приемщиком пушнины. Помню эти приемки перед Новым годом, толчею в прокуренной конторе, где собирались вышедшие из тайги охотники, отмытые, в чистых деревенских фуфайках, с диковатыми, какими-то одновременно и опухшими, и похудевшими лицами, и их прерываемый взрывами хохота негромкий басовитый разговор. Они сидели вдоль стен, и у каждого в ногах лежал мешок с пушниной, которую он, когда подходила очередь, по-хозяйски вываливал на стол. Отец в свитере и пиджаке, вооруженный расческой с острыми и частыми металлическими зубьями, быстро раскидывал белок к белкам, соболей к соболям, отдельно бросал пару горностаев и делал пометки в тетради. Разбив по цветам, он смотрел уже каждую шкурку, тряс ее, складывая, дул на мех, указывал дефект, подведя итог, выписывал квитанцию и сгребал пушнину в мешок. Приемку отмечали тут же в конторе. Отец играл на баяне и пел песню, как я потом понял, переделанную на наш лад «Бодайбинку»:
Где же ты теперь, моя девчонка,
Что за песнь поет пурга тебе.
Износилась ветхая шубенка,
Перестала думать обо мне.
Ты теперь одна в горах Виктима,
Скрылась путеводная звезда,
Отшумели воды Бодайбима,
Не забыть любимого лица.
Не забыть таежного зимовья
При закате огненной зари,
Облака, окрашенные кровью
И густые ели спят вдали.
Я приду к тебе через Сарчиху
С караваном бешеных собак,
Брошу я рыбалку и охоту,
Буду водку пить, курить табак.
Последний куплет пелся особенно дружно. Иногда Валерка подыгрывал отцу на клубной балалайке и подпевал – у него был отличный слух.
К отцу часто заходили за советом. Тот сидел с папиросой на табуретке, в любимой позе, сложившись, изогнувшись, подсунув под себя согнутую в колене ногу в вязаном носке. Прежде чем закурить, он долго и порывисто усаживался, ворочался на стуле, как в гнезде, рукой подтягивал за ступню, заводил как можно дальше согнутую в колене ногу, и по этому поводу его друг, охотник дядя Петя, с которым они с отцом все время остроумно препирались, говорил, подмигивая нам с Валеркой: «И че гнездится? Че гнездится?» От дяди Пети приходилось всегда ждать каверзы, у него была манера, когда в тайге кто-нибудь выходил из избушки по большой нужде, брать на охотничью лопатку снега и, подкравшись, кидать на голую задницу. Дядя Петя громко стучал в дверь. Отец, уже зная, кто это, кричал:
– Наши все дома!
– Здоров, – входил дядя Петя.
– Здоровей видали, – отвечал отец.
– Смотри-ка какой зверь, – хмыкал дядя Петя, садился на лавку, не снимая фуфайки, клал рядом с собой рукавицы и шапку и говорил после паузы:
– Ты, Никифорыч, пушальню (то есть сеть) давно смотрел?
– Треттего дня. А что, не попадат?
– С той недели как отрезало.
– Хошь место продам? – щурился отец, топыря пальцы: большой и мизинец, и пояснял: – Бутылка.
– По затылку, – быстро вставляла мама.
Тут еще кто-нибудь приходил и начинал рассказывать про лису, разорившую «вкрах» все «капканья», и отец, подсунув под себя ногу, сидел с отсутствующим видом, глядя в угол и дымя папиросой, сидел долго, пока пришедший не заканчивал, а потом вдруг неожиданно задавал точнейший вопрос, и сразу становилось ясно, с каким великим вниманием он слушал. Потом он что-нибудь советовал, и когда удовлетворенный гость поднимался, неизменно спрашивал: «А че не сидел?»
Сам отец частенько засиживался в гостях, и мать посылала за ним кого-нибудь из нас, а потом шла сама и стояла у отца над душой, пока тот не начинал медленно обуваться, и скороговоркой приговаривала: «Дай-дай-дай (в смысле «давай»), пайсь-пайсь-пайсь (в смысле «подымайся»)». Отцу было неудобно перед мужиками, он делал вид, что баба ему не указ, но слушал мать и вдобавок так болел с похмелья, что наутро проклинал пьянку на чем свет стоит. Он долго ломался, приказывал налить на посошок, но потом сдавался и начинал медленно надевать валенки.
Мать он привез из Иркутска. Ладная, с ямочками на круглом лице, с какой-то очень упрямой осанкой, выгнув спину и чуть косолапя ноги, она стояла со сковородкой у раскаленной плиты, и редкозубый обветренный отец казался рядом с ней непутевым и обтрепанным. Жили мы дружно, единственным камнем преткновения были отцовские товарищи-охотники, к которым мать его ревновала и без которых он не мог жить.
Однажды я наблюдал, как сумароковская националка заводила мотор. Ребятишки сидели на веслах, а она, намотав веревку на маховик, как-то очень неуклюже по-бабьи ее дергала рывком всего корпуса, и в этом рывке было что-то отчаянное. И у матери, когда она работала, тоже был отчаянный вид, колола ли она дрова или в фуфайке, валенках и красном толстом платке тащила нарточку с дровами.
Отец ни минуты не сидел на месте, всю жизнь вставал ни свет ни заря, мчался по сети, по самоловы, и старость оказалась для него настоящим ударом. Я уже был взрослым, когда мы рубили отцу избушку, ночевали у костра под навесом из рубероида – и у отца вдруг стало страшно сводить ноги. Вытянув их вперед, он сидел на пихтовом лапнике, и по сморщившемуся от напряжения лицу я видел, что ему не только просто больно, а еще и до слез обидно и стыдно за свое уходящее здоровье. Судороги не прекращались, пришлось спустить с него штаны и колоть иголкой в бедра, в икры, в худые усохшие ноги с выпуклыми коленками. Боль то стихала, то нарастала, и он скрипел зубами и почти кричал: «Коли! Серьга, коли!»
Отец делал из нас охотников, но Валерка по-настоящему больше интересовался тракторами, судовыми дизелями и вообще поселковой жизнью. Летом он пропадал на самоходках, где у него завелась уйма знакомых, и отец, махнув на него рукой, все свои надежды перевел на меня – и на Енисее, и в тайге, и в конторе – везде я был рядом с ним. Мать волновалась за меня страшно, и приходилось быть начеку, чтобы не подводить отца. Чем в большие передряги втягивал меня отец, тем большим теплом и заботой окружала меня дома мать. При том, когда бабки-соседки выговаривали за меня отцу: «Гляди, весь он у тебя нарастапашку! Сам – черт тя бей, парня бы пожалел. Живая простуда», мать, несмотря на все страхи, говорила: «Ладно, бабка, наверно, не маленькие – сами разберутся».
Однажды я на глазах у матери, заведя мотор на скорости, вылетел за борт, и она потом все повторяла: «Как он тебя выбросил!», одушевляя мотор и тактично переводя на него вину за мое разгильдяйство. А однажды мама колола дрова, и в глаз ей попал осколок листвяжного сучка. Дома никого не было, и мне пришлось его вытаскивать. Она оттянула веко, и этот обнажившийся красный белок с веточкой сосудика пронзил меня своим беззащитно-телячьим выражением – я вдруг понял, что мама тоже умрет.
В тайге я читал отцовские записи: «Пришел с Хурингды. Морозяка. Следьев нет ни хрена», или: «Настроение хреновое. Собаки, падлы, убежали на Голмакор. Отпустил соболя. Был бы у меня нюх и ноги, как у Пестри – сидел бы он на пялке», под этой записью стояла аккуратная приписка дяди Пети, отцовского напарника: «Много дал бы, чтоб посмотреть, как ты с лаем и на карачках за соболем бежишь». В дальней избушке я нашел мамину записку, которую она передала в тайгу через дядю Петю: несколько слов, а под ними обведенная детская рука – чтобы отец видел, как я вырос за три месяца, пока он был в тайге. Отец носил ее собой.
В те времена учение казалось мне нудной помехой на пути к трудной и интересной жизни рыбака-охотника, и главная заслуга матери состояла в том, что она, преследуя цель педагогического упреждения с поправкой на лень, заставляла нас читать положенные по программе произведения заранее, поэтому впечатления от той или иной книги были у меня собственные и не испорченные школьной скукой. Позже это сработало, и перечитывая наших писателей, я вдруг понял, что взгляд на мир, который я считал своим, на самом деле был заложен в меня еще в те годы, и открывая заново какое-то слово, образ, ощущение, я дивился этому как чуду и чувствовал, что моя жизнь обретает какую-то новую прочность.
В 1973 году мы с братом уже вовсю работали. Это было после укрупнения, когда позакрывали две трети поселков и в разросшемся за счет двух соседних деревень Никифорове сделали отделение промхоза. До конца февраля я охотился с отцом, а потом мы с мужиками возили сено и пилили дрова для садика, школы и пенсионеров. Неделя – сено, неделя – дрова, и так до весны. С утра пораньше шли на конюшню и запрягали каждый своего коня, у меня был Звездач, а у Валерки – Рекорд. Кони невысокие, крепкие и мохнатые, как дикие звери. На первом возу, «передом», ехал Вовка Бесшаглый, очень трудолюбивый малоразговорчивый холостой мужик лет тридцати пяти. У остальных даже не было вожжей, от них требовалось только сидеть в санях – кони сами шли как надо за Вовкой. Мы переезжали Енисей и ехали за десять километров на Банный остров. Там Вовка привставал в санях, направлял коня к зароду в гору по полутораметровому надувному снегу. Конь то садился на зад, то пытался повернуть, то, отчаявшись, с трудом выпрастывал передние ноги и делал прыжок, и Вовка упорно заставлял его двигаться вперед, свирепо-утробным голосом ревя на него: «Но, медве-е-едь! Но, медве-е-едь!» Как-то Вовку послали на другую работу, и передом пошел Валерка, он тоже старался, бил дорогу к зародам, и я с завистью и уважением смотрел, как упорно подчиняет он Гнедка, как упрямо и свирепо входит в роль, ругаясь и тоже утробно ревя: «Но, медве-е-едь!» В Енисее прибывала вода, и на обратном пути мы влезли в наледь. Липли сани, кони проваливались, шарахались, а толстый маленький Рекорд, провалившись одной ногой, вдруг забился в панике, а потом рухнул и лежал, сквозь прикрытые глаза хитро поглядывая на Валерку, который после долгих и постепенных усилий вывел коней на твердый лед. Он стоял, держа вожжи красными голыми руками и, несмотря на все крики: «Но, медведь!» и недавнее выражение отчаянного, почти богатырского напряжения, был так спокоен и уверен в себе, что я вместе с гордостью за брата почувствовал, как недосягаемо он отдалился от меня за этот день. Стояла ясная погода градусов тридцать пять, стеклянно поблескивали торосы, белели заиндевелые конские морды, и хлесткий ветерок срывал с зеленой усыпанной сеном воды клочья пара. Приехали мы в темноте, как обычно, надо было скидать сено в сенник и распрячь коней, и весь вечер Валерка, будто понимая мои чувства, был со мною особо приветлив.
В армии он служил вместе с гитаристом из группы «Ветер». У них был свой ансамбль, и Валерка так, по выражению отца, «наблатыкался» играть на гитаре и так развил свой и без того безупречный слух, что, вернувшись, целыми днями теперь пропадал в клубе, куда как раз привезли новые инструменты и аппаратуру. Его группа, называвшаяся «Мираж», на Новый год дала концерт, потрясший всех никифоровцев, невзирая на возраст. Работал Валерка конюхом в промхозе, а вечерами репетировал с «Миражом» в клубе, куда приходили мужики с бутылочкой и где вообще было весело.
Никогда мне Валерка не нравился так, как в то время. На концертах и репетициях я сидел в углу сцены и видел сзади Валерку, надушенного, в брюках, в туфлях с каблуками, в пушистом махеровом свитере, с гитарой на широченном ремне. Дребезжали динамики, сквозь плывущий звук дешевой аппаратуры пробивался резкий и чистый Валеркин голос, и, глядя на этого стройного парня, я все никак не верил, что это мой брат. Был особый шик спеть без гитары, отдав ее весь вечер ждущего этого момента пареньку, или, спрыгнув в зал, бесшабашно поизвиваться в толпе польщенных раскрашенных девок.
На Новый год успех был полный. Кроме песен и собственных куплетов они еще приготовили номера, например, нарядили коренастого Вовку Хохлова в юбку и женский рыжий парик, и он проскакал по сцене с раскрашенной рожей, изображая знаменитую певицу и доведя зал до истерики своими крепкими волосатыми ногами.
Валерка никогда не противопоставлял одну музыку другой, знал и любил народные песни и умел тронуть самых суровых стариков. Под конец они сыграли вальс, и пожилые женщины с обреченной бабьей заботой друг к другу долго и аккуратно кружились по залу.
После концерта уже у нас в гостях, где собралось полдеревни, успех Валерки продолжался, дядя Вова попросил повторить песню, спетую в клубе. Когда Валерка закончил, все захлопали, а почтарь дядя Коля Петров все кричал: «Моводец, Валера! Ты отлично играшь! Но вот этот барабан! Эт-тот ба-ра-бан! Он же тебя забиват! Наглухо забиват!» – продолжал он кричать, пригибаясь и морщась, будто его самого били по голове барабанной палкой. Валерка держался скромно, но с осознанием силы.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































