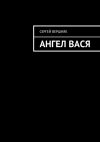Текст книги "Черный ангел"

Автор книги: Мика Валтари
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
28 февраля 1453 года
Во время ночного шторма из порта скрылось немало судов. Большой корабль венецианца Пьеро Давенцо и шесть критских парусников со всем грузом. Клятв, угроз и целования креста оказалось явно недостаточно. Капитаны спасли тысяча двести ящиков соды, меди, индиго, воска, разных мастик и пряностей, сохранив их для Венеции и критских купцов.
Кроме того, капитаны спасли сотни богатых беглецов, которые готовы были заплатить за место на судне любые деньги. Говорят, что подготовка к побегу уже давно была в порту тайной, известной всем и каждому.
Турки в Галлиполи не сделали по этим кораблям ни единого выстрела и не бросили в атаку свои военные галеры. Стало быть, и здесь обо всем договорились заранее. Через посредников из нейтральной Перы. Да и стоило ли султану беспокоиться из-за нескольких сундуков с медью и пряностями, если, пропустив беглецов, он мог сократить количество кораблей, на которые так рассчитывал император, и ослабить таким образом оборону порта?
А флотоводец Лука Нотар, выходит, знал о готовящемся побеге и отправил на одном из кораблей в безопасное место свою дочь. Но и женщины из императорской семьи тоже покинули город. И никто не знал, когда.
От капитанов оставшихся судов василевс потребовал новых клятв и обещаний, что они не выйдут из порта без его соизволения. А что еще ему оставалось делать? В любом случае, венецианцы отказались выгрузить из трюмов на берег ценные товары. А это был, пожалуй, единственный надежный способ удержать корабли в Константинополе.
1 марта 1453 года
Меня пришел проведать сам Джустиниани, поскольку мне пока не хочется выходить из дома. Мои раны зудят, лицо горит, словно охваченное огнем, меня лихорадит.
Когда генуэзец спрыгнул со своего огромного боевого коня, вокруг тут же собралась толпа. Греки восхищаются протостратором, хоть он и латинянин. Мальчишки почтительно ощупывали сбрую скакуна. Император подарил Джустиниани изукрашенное золотом седло и усеянный драгоценными каменьями парадный чепрак. Визит протостратора был для меня большой честью. Мы долго беседовали. Я рассказал ему о своей философии, изложил мысли моего старшего друга и учителя, достопочтенного Николая Кузанского – о том, что верное и неверное, правда и ложь, добро и зло не исключают друг друга. Все в этом мире относительно и обретает равновесие лишь в вечности. Но Джустиниани этого не понял.
Войдя в комнату и увидев мой израненный лоб и ободранный нос, генуэзец покачал головой и восхищенно прищелкнул языком.
– Обычная драка в таверне, – сказал я.
– Ты удержал свои позиции? – поинтересовался он.
– Я перешел в контрнаступление и прорвался к двери, – ответил я.
– Если это правда, то я не стану тебя наказывать, – усмехнулся он. – Пока, во всяком случае, никто не жаловался, что ты напился и учинил публичный скандал. Покажи рану.
Он велел Мануилу снять с меня повязку и принялся бесцеремонно тыкать толстым указательным пальцем во вздувшиеся края раны.
– Удар в спину, – пробормотал генуэзец. – Ты был на волосок от смерти. Нет, драка в таверне тут ни при чем – хотя, глядя на твое лицо, и можно подумать о чем-то в этом роде.
– У меня не слишком много друзей в этом городе, – признался я.
– В таком случае тебе надо носить кольчугу, – заявил Джустиниани. – О легкую кольчугу ломается острие меча; она не дает даже самому тонкому стилету вонзиться в тело слишком глубоко.
– Мне это не нужно, – ответил я. – Мое тело твердо, как камень, – если я полностью владею собой.
Генуэзец заинтересовался.
– Ты и правда такой неуязвимый? – спросил он. – У тебя есть какой-нибудь талисман? Или ты дал себя заколдовать? А может, носишь, в кошеле вербену? Все способы хороши, если только в них верить.
Я взял со столика у ложа длинную серебряную булавку.
– Смотри, – сказал я и начал бормотать вполголоса одно из арабских заклинаний, которому меня научили дервиши. А потом быстро пронзил булавкой мышцы плеча, так что ее кончик вышел с другой стороны. Но не появилось ни одной капли крови.
Джустиниани снова покачал своей большой головой.
– Так почему же твоя рана воспалилась? – с сомнением спросил он. – Почему она не заживает и не затягивается сама по себе, если ты так веришь, что тело твое – твердо, как скала?
– Я потерял самообладание. Забылся, – ответил я. – Будь спокоен. Рана заживет. Послезавтра я снова буду рядом с тобой.
2 марта 1453 года
Припекает солнце. На углах улиц и в садах жгут мусор. Светло-зеленые травинки устремляются вверх изо всех щелей и трещин в пожелтевшем мраморе. Склоны Акрополя пестрят яркими весенними цветами. В порту шум каждый вечер не стихает до поздней ночи. В тихих сумерках музыка доносится даже до моего дома. Никогда, никогда еще не видел я столь великолепных закатов, как этими вечерами, когда купола горят в последних лучах солнца, а окруженный холмами и горами залив становится черным, как смоль. На другом берегу сияют пурпуром стены и башни Перы, отражаясь в темной воде.
Когда я сидел вот так, любуясь закатом, и сердце мое разрывалось от тоски, ко мне подошел мой слуга Мануил и сказал с нажимом:
– Господин мой, пришла весна, а турки все еще не появились. Неразумные птицы хлопают крыльями, призывая к себе подруг. Голубиная воркотня мешает людям спать. Ослы в стойлах у патриаршего дворца ревут так оглушительно, что скотники скоро рехнутся. Господин мой, одиночество не идет человеку на пользу…
– Это еще что такое! – удивленно вскричал я. – Надеюсь, ты не собрался жениться на старости лет? А может, хочешь выудить у меня несколько монет на приданое для дочки одной из твоих двоюродных сестер?
– Господин мой, я думаю лишь о твоем благе, – обиженно ответил Мануил. – Я знаю тебя – и мне известно, какое положение ты занимаешь. Я понимаю, что тебе пристало делать, а чего не пристало. Но весна может зажечь огонь в крови даже у самого высокопоставленного человека, и тут император ничем не отличается от бедного козопаса. Мне и вправду не хочется, чтобы ты еще раз вернулся домой, едва держась на ногах, в окровавленной одежде… У меня тогда едва сердце не разорвалось от жалости и страха. Поверь мне, темные арки ворот и окруженные стенами дворы в этом городе весьма небезопасны.
Мануил потирал руки и прятал от меня глаза, то и дело замолкая и подыскивая слова.
– Но все можно устроить, – многозначительно проговорил он. – Тебя что-то угнетает. Ночами сон твой неспокоен. Это причиняет боль моему сердцу. Конечно, я – не из тех людей, которые хотели бы обманом выведать твои тайны. Знаю свое место. Но от моего внимания не могло укрыться, что тебя давно не навещала та прелестная гостья, при виде которой лицо твое сияло от счастья. Наоборот, ты вернулся домой один, с головы до ног в крови, из чего я делаю вывод, что все открылось, вам пришлось расстаться – и теперь ты страдаешь и томишься… Но время лечит любые раны – и для любых ран существуют целебные средства, даже для ран сердечных.
– Замолчи ты наконец, – сказал я. – Если бы этот закат не заставил меня просто заболеть от тоски, я давно уже дал бы тебе по морде, Мануил.
– Не пойми меня превратно, господин мой, – поспешно ответил старик. – Но мужчине в твоем возрасте необходима женщина, если он не монах и не посвятил себя как-то по-другому служению Господу. Это – голос самой природы. Почему бы тебе не насладиться жизнью за то короткое время, что нам еще осталось? У меня к тебе предложение, и даже два, если ты меня правильно понимаешь.
Он осторожно отодвинулся, стал еще меньше, чем всегда, и продолжил:
– Дочь моей двоюродной сестры, молодая вдова в расцвете лет. Она столь внезапно и быстро потеряла мужа, что, можно сказать, почти невинна. Видела, как ты ехал на коне по городу, и так безумно влюбилась в тебя, что постоянно изводит меня просьбами, чтобы я ввел ее в твой дом и познакомил с тобой. Это добродетельная и благовоспитанная женщина. Она была бы счастлива посетить тебя – и ты бы оказал всей нашей семье большую честь, если бы соизволил провести с нашей родственницей одну или две ночи. Ни о чем больше она не просит, и ты сам решишь, что ей подарить, когда она тебе надоест. Ты таким образом совершишь доброе дело – и в то же время успокоишь свое измученное тело, избавив его от невыносимого напряжения.
– Мануил, – ответил я. – Я ценю твою заботу, но если бы я удовлетворял желания каждой женщины, которая бросает на меня пылкие взгляды, я никогда не вырвался бы из дамских ручек. С молодых лет на мне лежит тяжкое проклятие: женщины всегда хотели меня больше, чем я – любую из них. Но всякий раз, когда я всем сердцем жаждал чего-то, та, другая, особа отнюдь не разделяла моих стремлений. Это мой крест… Поверь, тоска и боль, которые испытывает дочь твоей двоюродной сестры, лишь усилились бы, если бы я, не любя эту молодую женщину, взял ее к себе на ложе, чтобы согреть свое тело.
Мануил тут же согласно закивал:
– Я и сам пытался выбить эти глупости у нее из головы, но ты же знаешь, каковы женщины. До того упрямы… Но у меня есть другое предложение. Одна из моих теток знакома с очень порядочным и деликатным человеком, который охотно помогает людям как высокого, так и низкого звания в разных затруднительных ситуациях. Для этих целей он приказал построить недалеко от Влахернского холма очень скромный снаружи, но прелестный внутри дом. В этом доме живут молодые невольницы со всех концов света. Там можно принять горячую ванну, девушки делают массаж. Даже дряхлые, бессильные старики-архонты выходили оттуда, вполне довольные услугами рабынь, и потом самыми разными способами выражали свою благодарность хозяину этого уютного уголка. Дом вполне соответствует твоему высокому положению, и ты ничего не потеряешь, если поинтересуешься тем, что там предлагают.
Он поймал мой взгляд, сразу оробел и поспешно объяснил:
– Я вовсе не хочу сказать, что ты – дряхлый и бессильный, господин мой. Наоборот, ты – мужчина в расцвете лет. Но о том я и толкую… В этом доме можно также в глубокой тайне очаровательно провести время с благородными женщинами, которые ищут в жизни разнообразия или из-за скупости своих мужей с удовольствием сами добывают небольшие суммы на косметику и наряды. Может, ты мне не поверишь, но даже женщины с Влахернского холма посещали этот дом и не имели никаких неприятностей. Наоборот. Уважаемый друг моей тетки прекрасно разбирается в людях. Он – очень милый и снисходительный человек. Ему удалось подобрать весьма изысканный круг клиентов.
– Не хочу способствовать падению нравов в этом умирающем городе, – вздохнул я. – Нет, Мануил. Тебе меня не понять…
Мануил казался глубоко оскорбленным:
– О каком падении нравов ты можешь говорить, господин мой, если речь идет исключительно о непринужденном дружеском общении образованных, просвещенных и свободных от предрассудков людей, занимающих одно и то же положение? Ты, стало быть, считаешь более естественным и менее предосудительным лазить под покровом ночи через заборы или нашептывать украдкой гнусные предложения порядочным девушкам? Если уж человек должен грешить, то почему не делать этого весело, утонченно и без угрызений совести? Ты с головы до ног – латинянин, даже если этого и не понимаешь.
– Я не тоскую по греху, Мануил, – сказал я. – Я тоскую по утраченной любви…
Старик покачал головой, и на лице его вновь появилось выражение унылой покорности,
– Грех – всегда грех, в какие бы одежды он ни рядился. И неважно, как его называть: любовью или наслаждением. Результат один и тот же. Ты только зря мучаешь себя, господин мой, распаляя свои чувства. Даже самый соблазнительный грех не стоит таких жертв. Ты разочаровал меня, господин мой. Я думал, что ты умнее. Но человек не получает ясной головы в подарок от добрых крестных, даже если рождается в пурпуре.
Тут я схватил его за горло и заставил опуститься на колени в пыль двора. Мой стилет кроваво блеснул в лучах заходящего солнца. Но я быстро овладел собой.
– Что ты сказал? – спросил я. – Повтори, если у тебя хватит смелости.
Мануил жутко перепугался. Его тощая шея дергалась в моих руках. Однако, казалось, что, оправившись от потрясения, он был даже польщен моей дикой выходкой. Старик поднял на меня свои водянистые глаза, и на его лице с всклокоченной бородой появилось выражение хитрого упрямства.
– Я не хотел оскорбить тебя, господин мой, – заверил он меня. – Не думал, что тебя разгневает моя шутка.
Но слова его звучали слишком неискренне, чтобы я мог ему поверить. В конце своих долгих разглагольствований он подбросил мне хитрую наживку, чтобы посмотреть, заглочу ли я ее. Куда делось мое самообладание? Куда испарилось спокойствие духа? С легким стуком вложил я стилет обратно в ножны.
– Ты сам не знаешь, что говоришь, Мануил, – процедил я. – У тебя за спиной только что стоял ангел смерти.
Мануил замер передо мной на коленях, словно наслаждаясь своим унижением.
– Господин мой! – вскричал он. Глаза его заблестели, а на бледных щеках постепенно проступил румянец. – Ты возложил мне на голову десницу. И у меня перестали болеть уши! И ломота в коленях тоже прошла, хотя я стою на сырой земле. Господин мой, разве это не доказывает, кто ты?!
– Ты несешь чушь, – сказал я. – Ты перетрусил, увидев мой стилет. Внезапный испуг заставил тебя забыть обо всех болезнях.
Старик опустил голову, взял горсть земли и просеял ее сквозь пальцы. Голос Мануила был так тих, что я с трудом различал слова.
– Ребенком я много раз видел императора Мануила, – прошептал мой слуга. – Господин мой, я никогда не предам тебя.
Он поднял руку, словно хотел прикоснуться к моим коленям, и уставился, как зачарованный, на мои ноги.
– Пурпурные сапоги, – бормотал он про себя. – Ты возложил десницу на мою голову, и все мои болезни прошли.
Последние отсветы кровавого заката угасли. Наступил вечер – сумеречный и холодный. Я уже не различал в темноте лица Мануила. И ничего не сказал ему. Я был очень одинок. Повернулся и вошел в тепло моего дома.
Чернила и бумага. Раньше я любил сладковатый запах чернил и сухой шелест бумаги. Теперь я их ненавидел. Слова обманчивы, как и все земное. Они – лишь неуклюжие порождения бренности, которые каждый понимает и толкует, как хочет, по собственному усмотрению и потребностям души. Вечность не выразишь никакими словами.
В порту пока стоят корабли. Если чуть-чуть повезет, то западное судно еще может проскользнуть мимо турецких укреплений и выйти в Эгейское море. Нет такого латинянина, которого нельзя было бы купить. Но огонь, полыхающий в моем сердце, заставил меня швырнуть драгоценности генуэзцу. Огонь моего сердца заставил меня снова освободиться от богатства, словно от тесных одежд. Теперь я слишком беден, чтобы нанять целый корабль и помчаться вслед за ней на всех парусах. Боялся ли я именно этого, избавляясь от своих сокровищ? На свете не бывает случайностей! Все свершается так, как должно. Никому не дано избежать своей судьбы. Человек – совсем как лунатик – сам идет ей навстречу, раз и навсегда избрав свой путь.
Значит, я боялся самого себя? И не был в себе уверен? А Мехмед знал меня лучше, чем я сам, – и потому искушал, вложив мне при прощании в руку красный кожаный мешочек? Выходит, именно потому я и должен был освободиться от этого дара?
Султан Мехмед, победитель. Мне достаточно лишь нанять лодку, переправиться в Перу и зайти в дом с голубятней. Предать. Опять предать.
Никогда еще не погружался я в столь глубокое и беспросветное отчаяние. Выбор не бывает окончательным. Его приходится делать каждый день и каждый час. Постоянно. До последнего вздоха. Дверь всегда открыта. Всегда. А за ней – путь к бегству, предательству, самообману.
На болотах под Варной ангел смерти сказал мне: «Мы встретимся у ворот святого Романа».
До сих пор слова эти были мне поддержкой и опорой. Но он не уточнил, по какую сторону ворот я в тот момент окажусь. Он не открыл мне этого…
Нет – и не должен был открывать. Всю свою жизнь я вырывался из одной тюрьмы, чтобы попасть в другую. Из этой последней тюрьмы я не убегу, не убегу из тюрьмы, стенами которой стали для меня стены Константинополя. Я – сын своего отца. Эта тюрьма – мой единственный дом.
7 марта 1453 года
Рано утром, перед восходом солнца к храму монастыря Хора, расположенного близ Влахернского холма и ворот Харисия, двигалась толпа монахов в черных капюшонах, монахинь и бедных женщин с горящими свечами в руках. Эти люди пели, но голоса их тонули в сонной тишине и предрассветном мраке. Я последовал за этой процессией. Потолок и стены храма представляли собой одну огромную мозаику. Разноцветные камешки блестели на золотом фоне в сиянии бесчисленных восковых свечей.
Разливался аромат кадила. Горячие молитвы собравшихся в храме людей растрогали меня и успокоили мою душу.
Зачем я пошел за ними? Почему опустился рядом с ними на колени? Я ведь и раньше видел много монахов и монахинь. Они бродят по двое из дома в дом со своими чашами для пожертвований, чтобы собрать немного денег для бедных беженцев, которые нахлынули в город, спасаясь от турок.
Все монахини похожи внешне одна на другую, и различить их невозможно. Есть среди них и благородные женщины, и простолюдинки. Одинокие женщины из состоятельных семей, купившие себе место в монастыре. Послушницы, трудившиеся во имя Господа, не принимая пострига. Они пользовались большей свободой, чем монахини на Западе. Но греки и своим священникам разрешают жениться и носить бороды.
Все монахини похожи одна на другую. Одинаковые черные одеяния, скрадывающие очертания тела, одинаковые покровы на головах, спускающиеся до бровей. Но бессознательно – хоть ничто явно не бросилось мне в глаза – я обратил внимание на монахиню, которая шла за мной по улице и замедляла шаг, когда я оглядывался. Вместе с другой монахиней она проскользнула мимо моего дома и на миг остановилась возле маленького каменного льва, чтобы посмотреть на мои окна. Но не постучала в дверь и не попросила подаяния.
После этого я стал внимательно приглядываться ко всем монахиням, которых видел. Что-то в посадке головы, в походке, в пальцах, которые эта женщина прятала в широких рукавах, говорило мне, что я узнаю ее в любой толпе. Я сплю, я грежу наяву. Отчаяние ослепило меня. Я верю в невозможное. Надежда, в которой я не решаюсь признаться даже самому себе, горит в моей душе, словно огонек свечи.
10 марта 1453 года
Эти дни я прожил как во сне, как в тумане. Тем утром обе монахини снова прошли мимо моего дом; и остановились, чтобы заглянуть в окна, словно ожидали, что, заметив их, я поспешу на улицу. Я бегом спустился с лестницы и распахнул дверь. Тяжело дыша, я стоял перед ними, не в силах произнести ни слова. Они попятились и склонили головы. Одна монахиня протянула деревянную чашу для пожертвований и пробормотала обычную молитву.
– Войдите в мой дом, сестры, – проговорил я. – Я оставил кошель в комнате.
Вторая женщина держалась за спиной своей старшей спутницы и не поднимала головы, точно пряча от меня глаза. Услышав мое приглашение, святые сестры хотели уйти. Я потерял самообладание. Схватил молодую монахиню за плечо, и она не смогла оттолкнуть меня. Примчался перепуганный Мануил.
– Господин мой, ты сошел с ума! – предостерегающе вскричал он. – Люди забьют тебя камнями, если ты обидишь монахиню!
Пожилая женщина ударила меня костлявым кулаком в лицо и принялась колотить деревянной чашей по голове. Но завопить монашка не решилась.
– Войдите в дом, – произнес я. – Иначе тут соберется толпа.
– Твой командир прикажет тебя повесить, – с угрозой прошипела пожилая монахиня, но повернулась и нерешительно посмотрела на свою спутницу. Та кивнула. Она не могла поступить иначе. Я крепко держал ее за плечо.
Когда Мануил запер за нами дверь, я сказал:
– Я узнал тебя. Узнал бы тебя и в многотысячной толпе. Это действительно ты? Как такое могло случиться?
Дрожа, она вырвалась из моих рук и поспешно обратилась к своей спутнице:
– Это какая-то ошибка или недоразумение. Я хочу выяснить, в чем дело. Останься здесь.
И я понял, что она – не настоящая монахиня, принявшая постриг. Ведь тогда она не смогла бы разговаривать со мной наедине. Я проводил ее в свою комнату и запер дверь на засов. Сорвал с волос женщины покров и заключил ее в объятия.
Я крепко прижал Анну к себе.
И лишь тогда я сам задрожал и разрыдался. Так велики были мое отчаяние, мои сомнения и моя страсть. Теперь все во мне взорвалось. Мне сорок лет. Стою на пороге своей осени. Но я плакал, судорожно всхлипывая, как дитя, пробудившееся от кошмарного сна в спокойном и безопасном доме.
– Любимая моя, – простонал я. – Как могла ты так поступить со мной?
Она позволила покрову упасть на пол и отбросила черный плащ с капюшоном, точно стыдилась этого одеяния. Она была очень бледна. Анна не дала остричь себе волосы. Она больше не дрожала. Глаза ее были прозрачно-золотыми, гордыми и любопытными. Она гладила меня кончиками пальцев по щеке и удивленно смотрела на них, словно не понимая, почему они стали мокрыми.
– Что с тобой, Иоанн Ангел? – спросила она. – Ты плачешь? Почему? Неужели я причинила тебе такую боль?
У меня не было слов. Я мог лишь смотреть на нее. Чувствовал, что лицо мое сияет, как в дни моей молодости. Под моим взглядом она опустила свои карие глаза.
– Я действительно считала, что потеряла тебя, – попыталась продолжить она. Но слова застряли у нее в горле. Шею и щеки залил румянец. Она повернулась ко мне спиной.
Она отвернулась от меня – и сдалась. Я положил руки ей на плечи. Мои ладони скользнули к ней на грудь. Затаив дыхание, я впитывал в себя всю прелесть и очарование этой женщины, ощущая трепетное пробуждение ее нежного тела. Поцеловал ее в губы. И почувствовал, что она отдала мне в этом поцелуе всю свою душу. Светлая, звенящая радость пронизала все мое существо. Ни единого темного уголка не осталось в моем сердце. Страсть моя была чистой, как родник, и ясной, как огонь.
Я сказал:
– Ты вернулась ко мне.
– Отпусти меня, – взмолилась она. – У меня подгибаются колени. Я едва держусь на ногах.
Женщина опустилась на стул, поставила локти на стол и закрыла лицо руками. Но в следующий миг она вскинула голову. И в невыразимо знакомых карих очах Анны, взор которых был прикован к моим глазам, я увидел ее невыразимо обнаженную душу.
– Мне уже лучше, – проговорила женщина дрожащим голосом. – Просто я испугалась, что умру в твоих объятиях. Я не знала… Я даже не подозревала, что можно пережить такое…
А может, и знала, – продолжала она, глядя на меня так, словно не могла насмотреться. – Наверное, потому и не уехала из города. Хотя поклялась, что никогда больше тебя не увижу. Пообещала это себе, чтобы иметь мужество остаться. Вот так по-детски я пыталась обмануть саму себя.
Анна покачала головой. Ее волосы были золотыми. Кожа – будто слоновая кость. Брови – точно высокие синие дуги. А в глазах – золотисто-каряя нежность.
– Я избегала тебя, хотела держаться от тебя подальше, но все равно должна была время от времени видеть тебя, хотя бы издалека. Наверное, скоро я пришла бы к тебе по собственной воле. Я никогда в жизни не была так свободна, как сейчас, в монашеском облачении. Могу свободно ходить по городу, свободно разговаривать с бедными людьми, чувствовать под ногами дорожную пыль, протягивать простую деревянную чашу, собирать милостыню и благословлять добрых и щедрых. Иоанн Ангел, я многому научилась за эти дни. Я готовилась ко встрече с тобой, хоть сама и не знала об этом.
Она чуть приподняла край своего одеяния и показала мне голую ногу, обутую в сандалию, которая состояла из кожаной подошвы и завязанных вокруг щиколотки ремешков. Ремешки оставили на ее белой коже красные отметины. Ногу покрывала дорожная пыль. Это была обычная нога обычной живой женщины. Анна перестала быть только раскрашенным идолом. Она очень изменилась.
– Но как же так? – недоумевал я. – Я же встречался с твоим отцом той самой ночью. Он пригласил меня к себе. И сказал, что ты уехала.
– Отец ничего не знает, – прямо заявила она. – Он по-прежнему считает, что меня нет в городе. Я купила себе место в монастыре, куда благородные женщины удаляются время от времени, чтобы помолиться о спасении души. Я оплачиваю свое пребывание в святой обители и живу там как гостья по имени Анна. Никто не интересуется ни моей фамилией, ни моей семьей. У монастыря было бы множество неприятностей, если бы выяснилось, кто я на самом деле. Поэтому моя тайна – и их тайна. Если бы я захотела остаться там до конца своих дней, то приняла бы другое имя – и никто бы никогда не узнал, кем я была в прошлом. Это известно только тебе. Я не могла этому помешать.
– Но ты не собираешься уйти в монастырь?! – в ужасе вскричал я.
Анна лукаво взглянула на меня из-под ресниц.
– Я совершила тяжкий грех, – проговорила она с напускной грустью. – Обманула отца. Может, мне придется теперь долго каяться…
Но я по-прежнему не мог понять, как Анне, с которой не сводила глаз целая толпа слуг, удалось бежать? Она объяснила, что отец хотел отправить ее на Крит, чтобы она не попала в рабство к туркам или латинянам. Но мать Анны лежала больная и не могла сопровождать ее. Поэтому девушке с самого начала весь этот план страшно не нравился. С вещами и служанками ее посадили в сумерках в лодку и отвезли на корабль. Он был переполнен беглецами, которые заплатили головокружительные суммы за возможность попасть на борт. Воспользовавшись суетой и давкой Анна вернулась в лодку и велела гребцам следовать в порт. Пройдет немало времени, пока отец узнает, что его дочь пропала.
– Я свободна, – проговорила она. – Пусть думают, что я упала за борт и утонула. Отцу будет еще больнее, если он когда-нибудь узнает, что я обманула его. Даже представить страшно, что тогда может случиться…
Мы долго сидели в молчании, глядя друг на друга. Этого нам было достаточно. Я чувствовал, что еще одно движение – пусть даже слабая улыбка или легкое прикосновение – и сердце мое разорвется. Я понял, что имела в виду Анна, говоря, будто боится умереть в моих объятиях.
Потом костлявая рука постучала в дверь. Раздался резкий недовольный голос пожилой монахини:
– Сестра Анна, ты еще здесь?
Я слышал, как Мануил напрасно пытается успокоить ее.
– Я уже иду, – крикнула в ответ Анна Нотар. Потом она повернулась ко мне, коснулась рукой моей щеки и сказала, устремив на меня лучистый взор: – А теперь мне пора. – Но сразу уйти не смогла. Встала на цыпочки, чтобы еще глубже заглянуть мне в глаза, и тихо спросила: – Ты счастлив, Иоанн Ангел?
Я ответил:
– Счастлив. А ты, Анна Нотар? Ты тоже счастлива?
Она проговорила:
– Я очень, очень счастлива.
Открылась дверь – и в комнату влетела пожилая монахиня, грозно размахивая деревянной чашей. Но Анна успокаивающе взяла свою спутницу под руку и вывела из дома.
Я сжал голову Мануила в ладонях и расцеловал его в обе щеки.
– Благослови тебя Господь, – сказал я.
– И тебя тоже – и да пребудет с тобой Его милость, – ответил Мануил, когда вновь обрел дар речи, потерянный от изумления – Монахиня, – добавил он с насмешливым блеском в глазах и покачал головой, – монахиня в твоей комнате… так, может, ты теперь бросишь латинян и перейдешь наконец в истинную веру?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?