Текст книги "Танцовщица"
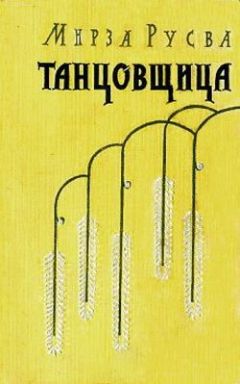
Автор книги: Мирза Хади Русва
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
1
В какой истории для вас есть больше прелести, мой друг?
Что вас займет, моя судьба или судьба людей вокруг?
Послушайте, Мирза Русва-сахиб! Почему вы так настойчиво расспрашиваете меня? Что так привлекает вас в жизни обездоленной женщины? Никогда не поверю, чтобы вам могла понравиться моя исповедь – исповедь такой несчастной и горемычной, как я, такой бездомной и неприкаянной, рожденной на позор отчему дому и на всесветное поношение.
Ну что ж, слушайте, и слушайте внимательно.
Какой смысл мне хвалиться благородным происхождением, называть имена своего отца и деда? Да сказать по правде, я их и не помню. Знаю только, что мой отчий дом был в Файзабаде и стоял он на окраине города. Дом у нас был каменный, а вокруг теснились саманные домишки, жалкие хижины и лачуги. И народ в них жил самый простой: водоносы, цирюльники, прачки, носильщики. Если не считать нашего дома, во всем околотке было только одно высокое здание. Его владельца звали Дилавар-хан.
Мой отец служил в усыпальнице Баху-бегам;[22]22
Баху-бегам – мать наваба Асафуддалы, вплоть до своей кончины (1816) остававшаяся в Файзабаде, первоначальной столице навабов Ауда (с 1775 г. их резиденцией стал Лакхнау). Ее мавзолей, на благоустройство и обслуживание которого она завещала громадные суммы, представляет красивейшую из старых построек города. Бегам (букв, «госпожа») – титул дамы из знатного мусульманского семейства.
[Закрыть] не знаю, на какой должности, не знаю, какое он получал жалованье, помню лишь, что все его звали «джамадаром».[23]23
Джамадар – старший слуга.
[Закрыть]
Я целыми днями возилась со своим братишкой, и он был так привязан ко мне, что без меня не ступал ни шагу.
Незачем спрашивать, как мы с ним радовались, когда вечером отец возвращался со службы. Я бросалась к нему на шею; брат, лепеча «папа, папа», подбегал и цеплялся за полу его кафтана. Отец радостно улыбался, целовал меня, нежно поглаживал по спине, потом подхватывал на руки братишку, ласкал нас обоих. Я хорошо помню, что он никогда не возвращался домой с пустыми руками: то принесет два куска сахарного тростника, то какие-нибудь сласти в кулечке из листьев. Разделит их на части, а сам уйдет, и тут у нас с братом разгораются жаркие битвы: он тянет к себе кусок тростника, я прибираю к рукам кулечек со сладостями. А мама в это время готовит ужин, сидя на корточках под навесом. Отец, войдя, еще не успеет сесть, как я начинаю приставать к нему:
– Папочка, милый, ты не принес мне куклу?… Посмотри на мои ноги – туфли совсем разорвались, а ты об ртом и не подумал… Послушай, мое ожерелье еще не получили от ювелира! Дочку младшей тети скоро будут отнимать от груди,[24]24
Когда младенцу впервые дается прикорм, устраивается церемония, на которую приглашают гостей.
[Закрыть] а в чем я к ним пойду?… А на праздник Ид[25]25
Ид – большой мусульманский праздник.
[Закрыть] я обязательно надену новое платье. Да, надену новое платье! Надену, надену!
Покончив со стряпней, мама звала меня. Я приносила корзинку с лепешками и горшочек с приправой, расстилала дастархан. Мама подавала кушанья, и мы всей семьей принимались за ужин. Потом возносили хвалу аллаху, отец читал вечернюю молитву, и все укладывались спать. Утром, на заре, отец, поднявшись, совершал намаз.[26]26
Намаз – мусульманское богослужение, совершаемое пять раз в течение суток.
[Закрыть] В это время я просыпалась от шума шагов и вновь принималась осаждать отца просьбами:
– Мой папочка! Уж сегодня-то не забудь! Обязательно принеси куклу… Папочка! Вечером принеси побольше гуавы и апельсинов.
Совершив утренний намаз, отец с молитвой шел на крышу, выпускал голубей, давал им зерна и заставлял раза два подняться в воздух. Мама, едва закончив уборку, принималась готовить завтрак, потому что отец уходил на службу очень рано. Потом она усаживалась за шитье или штопку, а я, забрав братишку, отправлялась бродить по улицам или располагалась под тамариндовым деревом, которое росло против наших дверей. Здесь собирались мои сверстники и сверстницы. Усадив где-нибудь братца, я самозабвенно отдавалась игре.
Ах! Что это были за дни! Никакие заботы не отягощали меня. Пища моя казалась мне лучшей из лучших, одежда – красивейшей из красивых, – ведь на мой взгляд никто из соседских детей, моих ровесников, ни в чем не мог соперничать со мной. Моя душа была не искушена, глаза еще не прозрели.
Там, где я жила, не было дома более высокого, чем наш. Все соседи ютились в тесных глинобитных хижинах или крохотных каморках. А в нашем доме было две больших смежных комнаты. Одна из них служила гостиной, и перед нею тянулась крытая черепицей веранда, на которой были отгорожены две комнатки поменьше. С одной стороны находилась кухня, с другой – лестница вела на плоскую крышу с надстройкой, состоявшей из двух комнатушек и крытого балкона. Кухонной посуды у нас было с избытком. Было и несколько простых ковров с белыми покрышками для них; соседи нередко приходили попросить их на время. Нам воду доставлял водонос, а другие женщины сами ходили за ней к колодцу. Когда отец, облачившись в свое форменное платье, появлялся на улице, люди приветствовали его почтительными поклонами. Мама отправлялась в гости в паланкине, а соседки ее всюду ходили пешком.
И внешность у меня была более привлекательная, чем у моих подружек. Меня вряд ли могли бы назвать красавицей, но, конечно, я была не такой, как сейчас. Кожа моя имела приятный золотистый оттенок; черты лица тоже были неплохие: довольно высокий лоб; большие глаза; румяные, по-детски пухлые щеки; нос, хоть и не очень прямой, все же не казался ни приплюснутым, ни слишком широким. Стан у меня тогда был стройный – не то, что теперь, – хотя даже тогда я не казалась худощавой. Я носила неширокие шаровары из красного шелка с узорчатой отделкой на поясе, кофточку из пестрой хлопчатобумажной ткани и кисейное покрывало. На руках у меня было по три серебряных браслета, на шее – ожерелье, натхуни[27]27
Натхуни – женское украшение, обычно в форме маленькой горошинки из серебра, золота или драгоценного камня, которое носят на ноздре.
[Закрыть] в носу золотое, а у всех других девочек натхуни были серебряные. Дырочки в ушах мне проткнули довольно поздно, и в то время, о котором я говорю, в них были продеты лишь синие ниточки, а золотые сережки еще только заказали.
Я была сговорена с сыном тети[28]28
Вплоть до недавнего времени в Индии сохранялся обычай женить детей очень рано, а обручали их иногда даже во младенчестве. Для мусульман, кроме того, характерно устраивать брак между двоюродными братом и сестрой.
[Закрыть] – сестры моего отца. Помолвка состоялась, когда мне минуло девять лет. Теперь наши родственники торопили со свадьбой. Моя тетя вышла замуж в Навабгандж, за местного заминдара,[29]29
Заминдар – помещик.
[Закрыть] и их дом был гораздо богаче нашего. Еще до помолвки я несколько раз ездила к ним с мамой. Все там было не так, как у нас: дом, хоть и саманный, но очень просторный; на дверях – соломенные занавески; во дворе – коровы, буйволы, быки; молоко и топленое масло всегда в изобилии; зерна – огромные запасы. Когда созревала кукуруза, ее таскали с поля корзинами; сахарный тростник лежал в связках или просто в кучах – ешь, сколько душа пожелает.
Видела я и своего жениха, вернее, того, с кем меня собирались обручить; даже играла с ним.
Отец уже приготовил мне приданое, оставалось только скопить еще немного денег. Свадьба была назначена на месяц раджаб.[30]30
Раджаб – седьмой месяц мусульманского лунного года.
[Закрыть]
Когда по вечерам родители заводили речь о моем замужестве, я незаметно для них прислушивалась и радовалась в душе. «Ах! – думала я. – Мой жених красивей жениха Кариман (так звали мою сверстницу, дочку чесальщика хлопка). Ведь у нее он черный-пречерный, а у меня белый-белый. Какая у него длинная борода, у жениха Кариман, а у моего даже усы еще как следует не пробились. Жених Кариман носит грязнющее дхоти,[31]31
Дхоти – кусок белой материи шириной около метра и длиной до пяти метров, которым индийцы повязывают бедра.
[Закрыть] рубашка на нем вся в бурых пятнах, ходит он босиком, голову повязывает какой-то тряпкой. А мой-то жених – в каком великолепном наряде появляется он в день праздника Ид: курточка из зеленого ситца, шелковые шаровары, шапочка с галуном, туфли бархатные!»
Словом, я была довольна своей жизнью. Да и как не быть довольной? Ведь мне казалось, что ничего лучшего и быть не может; казалось, что все мои желания исполнятся очень скоро.
Я не помню, чтобы за все то время, пока я жила в родительском доме, со мною произошло хоть что-нибудь неприятное. Вот разве только припоминаю такой случай: однажды во время игры в сбор налогов я потеряла колечко. Оно было простенькое, серебряное, наверное, стоило не больше аны[32]32
Aнa – мелкая монета в 1/15 долю рупии, употреблявшаяся в Индии до 1957 г.
[Закрыть] – это я теперь так думаю, а тогда откуда мне было знать цену вещам? Из-за этой потери я плакала так долго, что даже глаза опухли. Целый день я пряталась от матери, но вечером она наконец заметила, что кольца на моем пальце нет, и спросила, куда оно делось. Пришлось повиниться. Мама закатила мне пощечину, я закричала, залилась слезами; меня душили рыдания. Тем временем пришел отец. Он рассердился на маму, а меня приласкал, и я утешилась.
Я убеждена, что отец любил меня больше, чем мать. Он ни разу меня пальцем не тронул, а мама шлепала за каждый пустяк. Она обожала своего сынишку. Немало шлепков довелось мне отведать из-за младшего братца, и все-таки я его крепко любила. Под строгим маминым взором я иногда часами не смела прикоснуться к нему, но стоило ей отвернуться, как я хватала его на руки, прижимала к груди, ласкала. А как услышу, бывало, что мама возвращается, сразу же выпущу его из рук. Тут он разревется, мама догадается, что это я виновата, и ну меня бранить…
Однако достаточно было у меня заболеть хоть мизинцу, как мама лишалась покоя. Она не пила и не ела, ночью не смыкала глаз, бросалась туда-сюда, то за лекарствами, то за амулетами. Когда мне стали готовить приданое, она сняла с себя украшения и передала их отцу.
– Добавь немного серебра и отдай переделать все это, – сказала она. – А те украшения, что поновее, надо отполировать заново.
Из всей медной посуды, какая имелась в доме, она оставила себе лишь две-три кастрюли, а остальное отложила, чтобы отдать полудить. Отец сказал ей тогда:
– Подумай, сама-то как жить будешь?
– Э! Как-нибудь обойдемся! – отвечала мама. – Твоя сестра – жена заминдара; так пусть увидит, что брат кое-что дал за дочкой. Хоть она тебе и сестра, но дочке нашей будет свекровью, а от свекрови добра не жди. Если дочь твоя войдет в ее дом голой, люди над нами смеяться будут.
Вот, Мирза Русва-сахиб, я и нарисовала вам картину своего детства – той поры, когда жила в родительском доме. Теперь сами посудите, была ли я счастлива в те годы. Мой слабый рассудок говорит, что тогда мне было хорошо.
Судьба заставила меня скитаться по краям чужим,
Но как мне оправдать себя перед наставником своим?
Многие считают, да я и сама это часто слышала, – что нечего винить тех публичных женщин и танцовщиц, которые унаследовали свое ремесло.[33]33
В старой Индии с ее кастовым строем существовало строгое наследование профессий. Так же по наследству передавалась профессия танцовщицы.
[Закрыть] Что бы они себе ни позволили, – все им надо простить. Ведь они с детства воспитываются в таких домах и в такой среде, где царит порок; их матери и сестры сами служат ему. Но когда дочери честных родителей бегут из дому и предаются распутству, их надо прямо убивать на месте.
На этом я оборву повесть о своем детстве: больше рассказывать не о чем, ибо вскоре я покинула отчий дом. Обо мне могут подумать: вот, мол, негодница, делать ей было нечего; вышла задержка со свадьбой, так она завела с кем-то шашни и убежала. Любовник бросил ее, она сошлась с другим, но и тут ей не улыбнулось счастье – вот постепенно и докатилась до своего ремесла.
Действительно, часто так оно и бывает. Я не раз видела и слышала, как по разным причинам сбивались с пути женщины из хороших семейств. Случается, что девушка уже на выданье, а родители медлят со свадьбой. Или, наоборот, выдают замуж дочку насильно – лишь бы спихнуть за первого, кто подвернется; где уж там подумать о возрасте жениха, всмотреться в его лицо, разузнать, какого он нрава. Не уживется женщина с мужем – вот и пойдет на улицу. А бывает, вдруг свалится на нее беда, словно скала на голову обрушится, – овдовеет в расцвете юности. Если не сумеет совладать с собой – сойдется с кем попало, а не повезет с ним – ударится в распутство. Но со мной, несчастной, стряслась иная беда: судьба и случай забросили меня в такие дремучие джунгли, откуда не было выхода, кроме как на путь разврата.
Дилавар-хан – владелец того большого дома, который стоял неподалеку от нашего, – якшался с разбойниками. Он много лет просидел в тюрьме в Лакхнау. Как раз в то время, о котором я рассказываю, его по чьему-то ходатайству освободили. Отца моего он жестоко ненавидел, и вот почему: когда его арестовали в Файзабаде, на следствие вызвали для показаний несколько человек с нашей улицы. В их число попал и отец. Ах, бедняга, он был такой правдивый, чистосердечный! И вот, когда королевский чиновник дал ему в руки коран и приказал: «Ну, джамадар! Говори правду, что это за человек», – отец выложил начистоту все, что знал. По его показаниям Дилавар-хан и был посажен в тюрьму. Обо всем этом я слышала от своей матери. Теперь, выйдя из тюрьмы с жаждой мести в душе, Дилавар-хан стал разводить голубей, чтобы досадить моему отцу. Однажды ему удалось поймать нашего голубя. Его попросили вернуть птицу, но он не отдал. Отец предлагал Дилавару-хану четыре аны, а тот требовал восемь. Вскоре после того, как отец ушел на службу, я, не помню зачем, выскочила на улицу. Смотрю, Дилавар-хан стоит под тамариндом.
– Эй, дочка! – позвал он меня. – Твой отец отдал мне деньги. Пойди, забери голубя.
Тут я и попалась на его удочку – побежала за ним. Но когда мы вошли к нему в дом, гляжу: никакого голубя нигде нет. Не успели мы войти, как он запер дверь изнутри на засов. Я было закричала, но он заткнул мне рот тряпкой и связал руки платком. В комнате была другая дверь. Бросив меня на пол, Дилавар-хан подошел к ней и позвал:
– Пир Бахш!
Вошел Пир Бахш. Вдвоем они положили меня на повозку, запряженную быками, и двинулись в путь. Я оцепенела и даже дышала с трудом, чувствуя себя совершенно беспомощной в когтях у этого злодея. Дилавар-хан сидел на дне повозки, зажав меня между коленями, глаза у негодяя налились кровью, в руке он держал нож. Пир Бахш погонял быков, и они шли очень быстро.
Вскоре наступил вечер. Сгустилась тьма. Дело было зимой, дул порывистый ветер, и я всем телом дрожала от холода; силы покидали меня, слезы катились градом. «Ах! – думала я. – В какую беду я попала! Отец, наверное, уже пришел со службы, ищет меня; мама бьет себя в грудь, а братишка играет – ему и невдомек, что случилось с сестрой!» Мать, отец, брат, большая комната в доме, внутренний дворик, кухня – все так и стояло у меня перед глазами. Но всего сильнее был страх. Дилавар-хан то и дело грозил мне ножом, и я ждала, что вот-вот этот нож вонзится мне в сердце. Тряпки во рту у меня уже не было, но от ужаса я все равно не могла произнести ни звука. И в то время, как я была в таком состоянии, Дилавар-хан и Пир Бахш со смехом болтали друг с другом, перемежая каждое слово бранью и осыпая ругательствами моих родителей и меня.
– Видал, брат Пир Бахш! Как говорится: «Солдатский сын хоть двенадцать лет прождет, а уж за себя отплатит». То-то этот мерзавец сейчас бегает-крутится.
– Верно, брат. Как по пословице говорится, так ты и сделал. Пожалуй, двенадцать лет будет, как тебя посадили?
– Ровно двенадцать… Чего только, брат, я не натерпелся в Лакхнау!.. Ладно! Придет день, вспомнит он меня!
Нынче я только нанес ему первый удар. Потом самого укокошу.
– Что ты! Неужто пойдешь на такое?
– А как же? Не убью его, значит нет во мне богатырского семени.
– Да, брат, ты хозяин своему слову! Как скажешь, так и сделаешь.
– Вот увидишь!
– А с ней что делать будем? – спросил Пир Бахш.
– Да что с ней делать? Где-нибудь прикончим и закопаем в канаве. К полночи домой поспеем.
Как услышала я эти слова, так сразу уверилась в своей неминуемой гибели. Слезы застыли у меня на глазах, сердце затрепетало, голова бессильно поникла; рук и ног своих я уже не чувствовала. Злодей видел, что со мною творится, но и тут не пожалел меня – пихнул в бок, так что я чуть не лишилась сознания и снова расплакалась.
– Ну, хорошо, ее мы убьем, а мои деньги?… – спросил вдруг Пир Бахш.
– Этого добра везде хватит.
– Откуда же ты их возьмешь? Нет, я думаю, по-другому надо…
– Знай свое дело! Не достану денег, продам голубей и отдам тебе долг.
– Дурак ты! Зачем голубей продавать? Послушай-ка, что я скажу.
– Говори!
– Свезем девчонку в Лакхнау и возьмем за нее, сколько дадут.
С тех пор как я окончательно перестала сомневаться в том, что меня убьют, разговор негодяев скользил мимо моих ушей, доносясь до меня словно сквозь сон. Но слова Пира Бахша возродили во мне слабую надежду. В глубине души я уже благодарила его. Теперь меня мучило нетерпенье узнать, что же решит второй негодяй.
– Ладно, там видно будет, а пока поезжай, – сказал Дилавар-хан.
– Может, нам остановиться тут ненадолго? Вон под тем деревом костер горит. Попросим огоньку, хукку закурим.
Пир Бахш пошел за огнем. Я подумала: а вдруг Дилавар-хан прикончит меня в его отсутствие? Смертельный ужас овладел мною, и я невольно закричала во весь голос. В ответ на мой вопль Дилавар-хан закатил мне две-три увесистых оплеухи.
– Поганая! Никак не угомонится! – зарычал он. – Выдать захотела. Вот пырну ножом…
– Нет, брат! Не надо! – остановил его Пир Бахш, который еще не успел далеко отойти. – Ты же мне обещал! Сделай, как я советую.
– Ладно, иди! Огня-то принеси.
Пир Бахш удалился и вскоре вернулся с огнем. Он раскурил хукку и передал ее Дилавару-хану.
– Ну, а сколько же за нее могут дать? – спросил тот, затянувшись. – И кто продавать станет? А вдруг нас на этом поймают? Получится еще хуже.
– Это уж моя забота. Я и продавать буду. Эх, почтенный, ну что ты говоришь? Кто нас поймает? В Лакхнау такие дела и ночью делают и среди бела дня. Знаешь моего шурина?
– Карима?
– Да. Он этим и кормится. Ловит мальчишек и девчонок десятками. Привезет в Лакхнау – и денежки готовы.
– А где он нынче?
– Где ему быть? В Лакхнау, на том берегу Гумти[34]34
В середине XIX в. Лакхнау размещался преимущественно на южном берегу р. Гумти; северная сторона считалась заречной.
[Закрыть] дом его тестя. Там он, наверное, и теперь живет.
– Так. А почем продают мальчишек и девчонок?
– Это уж смотря, какие они из себя.
– А наша за сколько пойдет?
– За сто, может за полтораста. Как повезет.
– Приятно слышать. Сто – полтораста… Только навряд – уж больно она неказиста. И ста-то много.
– Там видно будет. Ну, давай поедем. А убить ее – что толку?
В ответ Дилавар-хан, нагнувшись, что-то шепнул на ухо Пиру Бахшу, но я ничего не расслышала.
– Это-то я смекнул еще раньше, – отозвался Пир Бахш. – Да ты и сам не дурак, понимаешь…
Всю ночь катилась наша повозка. Душа моя была объята тревогой. Силы оставили меня, я вся одеревенела, смерть стояла перед глазами. Но, говорят, сон нисходит даже на приговоренного к казни – немного погодя я задремала. К счастью, Пир Бахш догадался укрыть меня бычьей попоной.
В ту ночь я несколько раз просыпалась, открывала глаза, но подать голос не смела. Наконец, превозмогая страх, сдвинула попону с лица и увидела, что повозка стоит, и я в ней осталась одна. Тихонько выглянула наружу. Вижу – впереди несколько жалких лачуг; неподалеку лавчонка; Дилавар-хан и Пир Бахш что-то покупают в ней; рядом, под баньяновым деревом, жуют солому быки; несколько крестьян греются у костра; один из них курит хукку. Но вот Пир Бахш подошел к повозке и протянул мне горсть поджаренного гороха. Изголодавшись за ночь, я принялась жевать его. Немного погодя он принес мне воды в горшочке. Я чуть-чуть отпила и опять улеглась, не сказав ни слова.
Повозка стояла тут долго. Наконец Пир Бахш запряг быков. Дилавар-хан, набив хукку, уселся рядом со мной, и мы двинулись дальше. Теперь, днем, со мной обходились уже не так жестоко, как ночью. Дилавар-хан спрятал свой нож, пинки и ругательства больше не сыпались на меня. Сидя каждый на своем месте, Дилавар-хан и Пир Бахш курили и разговаривали, а когда болтать надоедало – затягивали песню. Один поет, другой слушает; слушает, а сам, должно быть, думает, о чем бы еще потолковать? Немного погодя снова завязывается разговор. Нередко случалось и так, что вдруг вспыхивала перебранка: приятели засучивали рукава, подтягивали пояса. И вот один уже скатывается с повозки, а другой готов его задушить. Потом, смотришь, почему-то сразу успокоились. Ссора забыта; согласие восстановлено; опять начинается дружеский разговор; драки словно и не бывало.
– Из-за чего это мы с тобой повздорили?
– И верно, – из-за чего?
– Ладно, вперед всегда говори прямо, если что тебе не по нутру.
– H ты тоже.
2
О, позволь мне, птицелов, трепетать в неволе!
Мне сегодня в первый раз ночевать в неволе…
Вот вы теперь и узнали, как прошла первая ночь моей неволи. Ах! Никогда, до самого смертного часа не забуду я овладевшего мною тогда отчаяния. Удивляюсь, как я жива осталась. До чего же крепко цеплялась моя душа за тело!.. Подлый Дилавар-хан! Теперь ты наконец получил по заслугам; но разве это принесло мне облегчение? Даже если бы тело твое у меня на глазах изрубили на мелкие куски и бросили коршунам и воронам, я и тогда не содрогнулась бы. Надеюсь, ты каждое утро и вечер терпишь адские муки в могиле, а на Страшном суде, бог даст, испытаешь и что-нибудь похуже… А каково, надо думать, было моим родителям? Как они, должно быть, проклинали тебя!
Но хватит, Мирза-сахиб! На сегодня довольно: о том, что еще случилось со мною, буду рассказывать завтра. Горечь переполнила мое сердце. Хочу выплакаться как следует…
Да и на что вам слушать повесть о моих злоключениях? Может быть, мне на этом и кончить свой рассказ?… Лучше бы Дилавар-хан сразу убил меня. Честь моя сохранилась бы в горсточке праха, на доброе имя родителей не легло бы пятно, и не было бы мне стыдно перед всем миром.
Правда, я еще раз увидела свою мать. Когда это было? Давно уже… Бог ведает, жива она еще или нет. Говорят, у моего брата есть сын лет четырнадцати – пятнадцати (храни его аллах!) и две дочери. Как мне хочется повидать их всех! Ведь и живут-то они не так уж далеко – до Файзабада можно доехать всего за одну рупию. Но что поделаешь? Мне и думать нельзя о встрече с ними.
В те времена еще не было железной дороги, и на путь из Файзабада в Лакхнау уходило четверо суток. Но Дилавар-хан, опасаясь, как бы мой отец не пустился за нами в погоню, выбрал такую окольную дорогу, что мы ехали чуть не восемь дней. Я, глупая, конечно, не знала, где находится Лакхнау, но из бесед Дилавара-хана с Пиром Бахшем мне стало ясно, что везут меня как раз туда. Название этого города я часто слышала дома, потому что мой дедушка служил там в охране при каком-то дворце. У нас в семье о нем говорили часто. Однажды он даже приезжал в Файзабад и привез мне много сластей и игрушек. Я его хорошо запомнила.
В Лакхнау меня привезли к тестю Карима. Дом его стоял за рекой Гумти. Это была крохотная саманная лачуга. Теща Карима – она смахивала на нищую обмывальщицу покойников – заперла меня в какой-то темной каморке. Привезли меня сюда утром, и до полудня я сидела одна, взаперти. Наконец дверь каморки открылась. Молодая женщина – жена Карима – положила передо мной три лепешки, поставила глиняную миску с маленькой кучкой чечевицы и медный кувшинчик с водой и ушла. В тот миг даже эта еда показалась мне роскошью – ведь прошло уже восемь дней с тех пор, как я в последний раз ела горячую пищу, а в дороге мне не перепадало ничего, кроме поджаренного сухого гороха да мучной болтушки. Я выпила залпом почти половину кувшинчика, потом растянулась на полу и заснула. Одному богу известно, сколько я проспала, – в этой темной каморке день не отличался от ночи. Несколько раз я открывала глаза. Темно; тишина полная… И я снова укладывалась и засыпала, с головой накрывшись своим покрывалом. Наконец глаза мои совсем открылись, и сон уже больше не вернулся ко мне, но я не вставала. Тем временем вошла теща Карима. Я села. Старая ведьма ворчала без передышки.
– Да когда же она только проснется, эта девчонка? – бормотала она. – Вечером звала ее, пока не охрипла. Как ни трясла, она и не охнула. Я уж думаю, не змея ли ее укусила? Э, глянь-ка! Поднялась-таки…
Я молча слушала. Досыта наворчавшись, старуха спросила:
– Где миска?
Я подала миску старухе, и она ушла. Дверь каморки закрылась. Немного погодя явилась жена Карима, открыла ставни – оказывается, в каморке было окно – и вывела меня наружу. Я очутилась среди каких-то развалин; отсюда ничего не было видно, кроме неба. Вскоре она отвела меня обратно в мою тюрьму. На этот раз мне дали поесть гороховой похлебки и пшенной каши.
Так прошло два дня. На третий в каморку ко мне посадили еще одну девочку, года на два старше меня. Бог знает откуда увез ее обманом Карим. Как она, бедная, плакала! Но для меня ее появление было счастьем: когда она выплакалась, я нашла в ней собеседницу.
Она была дочкой лавочника. Звали ее Рам Деи, и жила она в какой-то деревушке недалеко от Ситапура. В темноте я не могла разглядеть ее. Но когда на следующий день, как обычно, открыли окно, она увидела меня, а я ее. Рам Деи оказалась очень хорошенькой, тоненькой девочкой с приятным светлым цветом лица.
На четвертый день ее забрали из нашей темницы, и я опять осталась одна. Я провела в этом доме еще два дня, а на третий, поздно вечером, пришли Дилавар-хан с Пиром Бахшем и увели меня с собой. Светила луна. Мы пересекли какой-то пустырь, миновали базар, потом вышли на мост. Река волновалась, дул холодный ветер, я вся дрожала. За мостом был другой базар. Отсюда мы свернули в узенький переулок и шли по нему так долго, что у меня устали ноги. Потом мы опять вышли на какую-то торговую улицу. Здесь двигалась густая толпа, пробиться через которую было нелегко. Наконец мы остановились у дверей одного дома.
Мирза Русва-сахиб! Вы догадались, что за торговлю вели на этой улице? Здесь помещалась та лавка, где стали торговать моей честью… Мы были на Чауке, а в доме, к которому мы подошли, я обрела все, что мне было уготовано в мире: бесчестье и славу, позор и известность, гордость и стыд. Перед нами открылись двери дома Ханум-джан.[35]35
Ханум-джан. – Ханум (букв, «госпожа») – вежливое обращение к женщине; здесь использовано вместо имени собственного. Частица джан (букв, «душенька») придает обращению ласкательный оттенок.
[Закрыть]
В глубине коридора была видна лестница. Мы поднялись по ней и, обогнув по балкону внутренний дворик, вошли в просторную комнату Ханум-джан.
Вам, наверное, случалось видеть Ханум. В ту пору ей было лет пятьдесят… Что за великолепная была старуха! Правда, слишком смуглая, однако любые наряды удивительно шли к ней, несмотря на ее полноту. Другой подобной женщины я не знала. Волосы на висках у нее уже поседели, но очень ее красили. Ее белое кисейное покрывало было выбрано с исключительным вкусом; коричневые полушелковые шаровары бросались в глаза – такие они были широкие; толстые золотые браслеты плотно охватывали руки у кистей; простые, в виде колец, серьги в ушах стоили множества изысканных украшений. Бисмилла – ее дочь – цветом и чертами лица, да и всем обликом, очень походила на мать, но ее изяществом похвастаться не могла.
Даже сейчас Ханум возникает в моей памяти точно такой, какой я увидела ее в тот первый день. Она сидит на ковре перед тахтой. Горят свечи под абажуром в виде лотоса, большая расписная шкатулка с бетелем открыта; Ханум курит хукку. Перед нею танцует какая-то смуглая девушка (то была Бисмилла-джан).
Когда мы вошли, танец прекратился. Все, кто был в комнате, удалились.
– Это та самая девочка? – спросила Ханум Дилавара-хана.
Очевидно, они уже сговорились.
– Да, – ответил Дилавар-хан.
Ханум-джан ласково подозвала меня и усадила рядом с собой. Потом, приподняв мою голову, посмотрела мне в лицо.
– Хорошо! Вы получите столько, сколько я обещала. А как насчет другой девочки? – спросила она.
– С той уже дело сделано, – ответил Пир Бахш.
– За сколько продали?
– За двести.
– Что ж, неплохо. А куда она попала?
– Одна бегам купила ее для своего сына.
– Та была хороша! За нее и я дала бы двести. Ты поторопился.
– А что я мог поделать? И так и сяк уговаривал шурина, да он не послушался.
– Эта тоже недурна собой, – вмешался Дилавар-хан, – да и вам ведь она понравилась.
– Девочка как девочка…
– Ладно, какая есть, вся перед вами.
– Ты вправе хвалить свой товар, – сказала Ханум и позвала: – Хусейни!
Вошла толстая смуглая женщина средних лет и стала перед хозяйкой.
– Слушай, Хусейни!
– Что прикажете, госпожа?
– Принеси сундучок.
Хусейни вышла и вернулась с сундучком. Ханум открыла его и положила перед Дилаваром-ханом кучку монет. Потом уже я узнала, что за меня отдали сто двадцать пять рупий. Часть их, как говорили, пятьдесят рупий, отсчитал для себя Пир Бахш и завязал в свой платок. Остальное ссылал себе в кошелек подлый Дилавар-хан. Оба попрощались и вышли, В комнате остались Ханум, бува[36]36
Бува – обращение к женщине невысокого социального положения, близкое к нашему «тетушка».
[Закрыть] Хусейни и я.
– Хусейни, – начала Ханум, – а не кажется тебе, что для такой девчонки это чересчур дорого?
– Дорого? Я бы сказала, дешево.
– Нет уж, никак не дешево! Ведь мордочка-то у нее совсем простенькая. Аллах ведает, чья она дочь. Ох, что-то теперь с ее отцом-матерью? Кто знает, где подцепили ее эти разбойники? Бога они не боятся! Бува Хусейни! Мы с тобой ни в чем не виноваты. Божья кара падет на них, подлецов; а с нас-то что спрашивать? Они все равно ее продали бы – не здесь, так в другом месте.
– Госпожа, да ведь у нас ей будет неплохо! Или вы не слыхали, каково достается служанкам у благородных хозяек?
– Как не слыхать! О таких случаях до сих пор поминают. Говорят, госпожа Султан Джахан служанку свою до смерти засекла, когда застала ее за болтовней с хозяином.
– Такие хозяйки что хотят, то и делают. Да покроются они в судный день вечным позором!
– Вечным позором! Этого мало – их бы в адский котел надо…
– Хорошо бы! И поделом им, злодейкам, – согласилась бува Хусейни и добавила просительным тоном: – Госпожа! А девочку-то отдайте мне. Я ее воспитаю. Она будет ваша, а я ей только послужу.
– Ну что ж, воспитывай.
Все это время бува Хусейни стояла. А тут подсела ко мне и завела разговор:
– Дочка! Ты откуда?
– Из Банглы, – ответила я, заливаясь слезами.
– Где это Бангла? – спросила бува Хусейни у Ханум.
– Эх ты! Ребенок ты, что ли? Банглой Файзабад называют, – ответила та.
– Как звать твоего батюшку? – продолжала Хусейни, обращаясь ко мне.
– Джамадар.
– Не приставай к ней, – укоризненно проговорила Ханум. – Откуда девочке знать его имя?[37]37
В индийских семьях не принято, чтобы домочадцы называли главу семьи по имени. Жена обращается к нему со словами «хозяин» или «господин» и так же говорит о нем за глаза.
[Закрыть] Она ведь еще маленькая.
– Ладно. А тебя как зовут? – спросила Хусейни.
– Амиран.
– Нам это имя не нравится, девочка, – сказала Ханум. – Мы будем звать тебя Умрао.
– Слышишь, дочка! – подтвердила бува Хусейни. – Откликайся на имя Умрао. Когда госпожа скажет: «Умрао!» – отвечай вежливо: «Да, госпожа!»
С того самого дня меня и называют Умрао. Впоследствии, когда я уже сделалась танцовщицей, меня стали величать Умрао-джан. Ханум до своего последнего вздоха звала меня просто Умрао; бува Хусейни – Умрао-сахиб.
Бува Хусейни увела меня к себе в комнатку, вкусно накормила, угостила сластями, вымыла мне лицо и руки и уложила спать рядом с собой. В ту ночь я увидела во сне своих родителей. Снилось мне, что отец вернулся со службы. В руках у него кулечек со сластями. Братишка мой играет. Отец вынимает и дает ему кусочек сладкого, потом кличет меня, а я будто в соседней комнате. Мама на кухне. Я увидела отца, и вот бросаюсь к нему на шею и со слезами рассказываю обо всем, что со мной приключилось.
Во сне я разревелась навзрыд. Бува Хусейни разбудила меня. Я открыла глаза и что же вижу: нет ни нашего дома, ни большой комнаты в нем, ни папы, ни мамы. Я плачу на груди у бувы Хусейни, а она вытирает мне глаза. Теплится ночник. Гляжу – по лицу старухи катится слеза за слезой…









































