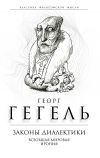Текст книги "О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории образования и университетскому вопросу. Том 1"

Автор книги: Моисей Рубинштейн
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Моисей Матвеевич Рубинштейн
О смысле жизни
Труды по философии ценности, теории образования и университетскому вопросу
Под редакцией Н. С. Плотникова и К. В. Фараджева
Том I
Подготовка настоящего издания осуществлена при поддержке Фонда Фольксваген (Ганновер, ФРГ) в рамках научного проекта «Личность-субъект-индивидуум. Философские концепты „персональности“ в истории немецко-русских культурных связей»
СОСТАВИТЕЛИ СЕРИИ
В. В. Анашвили, А. Л. Погорельский
НАУЧНЫЙ СОВЕТ
В. Л. Глазычев, Л. Г. Ионин, А. Ф. Филиппов, Р. З. Хестанов
ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МОИСЕЯ РУБИНШТЕЙНА
Казалось бы, в последние годы все «забытые» имена отечественной философии триумфально или пусть даже без лишнего шума вернулись к широкой публике, заняли свое место в философском обиходе и завершили череду открытий-воскрешений в российской интеллектуальной истории.
Вероятно, это благополучие иллюзорно – ведь признание обрели прежде всего труды представителей религиозно-философских направлений, удобных в качестве готовой альтернативы выхолощено официозной диалектике марксистского толка, но столь же глобальных в притязаниях на утверждение собственной картины мира. При этом нередко упускаются из вида концепции, лишенные грандиозности претензий на разрешение последних тайн бытия, но концентрирующие внимание на методологии и старающиеся не уходить в стилизованное богословие или упиваться спасительной метафорикой, которая вроде бы избавляет от необходимости строго придерживаться собственно философских средств.
Этим как раз отличается подход М. Рубинштейна – человека удивительной судьбы, философа и педагога, который неизменно пытался ограничить круг исследования соразмерно познавательным средствам используемой дисциплины. Его теоретико-познавательные установки подразумевают отказ от претензии достигнуть абсолютного знания в рамках философского анализа, основанного на законах логики и рассчитанного на человеческий масштаб восприятия. В подобном отказе от всеохватности познавательных устремлений сказывалось влияние неокантианства, а также школы прагматизма, прежде всего, главного ее представителя – Вильяма Джемса. В дискуссии о прагматизме на одном из философских собраний[1]1
Спор о прагматизме // Русская мысль. 1910. № 5 (Участники Н. Бердяев, С. Булгаков, С. Котляревский, Л. Лопатин, С. Лурье, М. Рубинштейн, П. Струве, А. Топорков, кн. Е. Н. Трубецкой, С. Франк, В. Хвостов).
[Закрыть] М. Рубинштейн отмечал, что это направление, наряду с неокантианством, не рассматривает метафизику как объект научного или философского знания – такая познавательная установка не нарушает компетенции религии, но противостоит «средневековой тенденции» подчинять логику религиозному опыту[2]2
Там же. С. 149 – 150.
[Закрыть].
При этом методологическая требовательность не означала этической безоценочности. Напротив, даже представители религиозной философии, преодолевшие увлечение неокантианством и настороженно относящиеся к прагматизму, например, С. Франк и Н. Бердяев подчеркивали своеобразную этизацию гносеологии школой «Виндельбанда – Риккерта»[3]3
Там же. С. 115, 124.
[Закрыть]. Также и Г. Шпет указывал на склонность Наторпа – одного из основоположников Марбургской школы неокантианства – рассматривать этику и эстетику как продолжение и развитие логики в иных модусах бытия[4]4
П. Наторп. Философия как основа педагогики. Пер. с нем. и предисл. Г. Г. Шпета. М., 1910. С. 3.
[Закрыть].
Признание истины являлось в этой перспективе своеобразным долгом – отголоском категорического императива. Воля к истине – движущая сила любого познания, и логика возвеличивалась до уровня этики мышления. Если суждение основано на законах логики, отрицать его можно или вследствие недостаточной способности к логическому восприятию, или в силу желания обмануть. Отрицание логически очевидного оказывается безнравственно, если, конечно, оставаться в логической системе координат, не декларируя обращения к иным способам познания, которые не лишены права на существование, но не могут являться общеобязательными…
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
Моисей Матвеевич Рубинштейн родился 28 июня (по новому стилю) 1878 года в селе Захарово Верхнеудинского уезда Забайкальской области в купеческой семье. После окончания Верхнеудинского (ныне Улан-Удэ) уездного училища он продолжил образование в Иркутской губернской гимназии. В 1899 году М. Рубинштейн поступил в Императорский Казанский университет, славный именами многих студентов, добившихся известности в самых различных областях науки. При университете была собрана богатая библиотека, налаживались связи с зарубежными центрами образования. Проведя год в Казани, М. Рубинштейн вместе с женой – Н. И. Зисман – уехал стажироваться в Германию – сначала, в мае 1900-го, в Берлин, потом во Фрейбург – изучать медицину. Увлеченный неокантианством (прежде всего в исполнении Виндельбанда и Риккерта), он в 1901-м решил оставить занятия естественными науками и перейти на философский факультет.
В 1905-м М. Рубинштейн успешно защитил у Риккерта диссертацию «Логические основы системы Гегеля и конец истории» и начал печататься в ряде немецких и российских изданий. Поработав в университетах Берлина, Дрездена и Гейдельберга, он в 1907-м возвращается с семьей в Россию – близость к народническим идеалам просвещения и предчувствие грядущих перемен заставили его покинуть – на тот момент – благополучную Германию.
В 1909-м вышла первая его монография «Идея личности как основа мировоззрения». М. Рубинштейн читает лекции на Высших женских курсах В. А. Полторацкой, сотрудничает с журналами «Вопросы философии и психологии», «Русская мысль» и «Вестник воспитания». В 1910-м занимает должность декана педагогического факультета Московских высших женских педагогических курсов Д. И. Тихомирова, одновременно преподавая на многочисленных курсах повышения квалификации. В 1912-м начинает преподавательскую деятельность при кафедре философии Императорского Московского университета. Здесь помогла его формальная принадлежность к лютеранству, поскольку еврей, исповедующий иудаизм, преподавать в университетах права не имел. (Так же и в случае С. Франка устройство на работу в Санкт-Петербургский университет было возможно лишь благодаря его переходу в православную конфессию.) М. Рубинштейн становится все более известен, как один из ведущих исследователей в области проблем педагогики, в 1913-м выходит его монография «Очерк педагогической психологии в связи с общей педагогикой».
М. Рубинштейн отличался не только широтой научных интересов, но и организаторскими способностями. Являясь членом Московского психологического общества, возглавляемого Л. Лопатиным, он занимался организацией съездов и конференций, стоял у истоков студенческого научно-педагогического кружка при Императорском университете, вел неустанную просветительскую работу, участвуя в заседаниях Московского общества грамотности, Кружка по дошкольному воспитанию при Московском городском народном университете им. А. Л. Шанявского. Кроме того, пытался наладить издание серии «Великие педагоги», привлекая к сотрудничеству таких неординарных мыслителей и педагогов, как Г. Шпет и П. Блонский.
Конечно, М. Рубинштейн особенно болезненно воспринимал начало войны со страной, где проходило его становление как философа. Стремясь предельно отчетливо выразить свою гражданскую позицию, он не мог оставаться в стороне от полемики по поводу духовных истоков войны. Его точка зрения особенно ярко выражена в статье «Виноват ли Кант?». Прежде всего это был ответ на изобретенные В. Эрном и адресованные Канту упреки в апологии субъективизма, который будто бы обосновывает допустимость любого произвола во всех жизненных сферах[5]5
В. Ф. Эрн. Сочинения. М., 1991. С. 307 – 318.
[Закрыть].
М. Рубинштейн подчеркивает, что сущность кантовской философии заключается как раз в утверждении моральной ответственности субъекта – война не является неизбежным выражением особенностей немецкой культуры, напротив, представляет собой отпадение от ее основ, от заветов великих ее деятелей. Попытки В. Эрна сблизить «Канта и Круппа» он именует «вандальскими актами» и «чудовищной нелепостью»… Вообще, надо сказать, многие статьи М. Рубинштейна представляют собой образец качественной философской публицистики, достаточно редкой для социально-философского поля в предреволюционной России.
Как уже было отмечено, сочетание в человеке философского и организаторских талантов встречается нечасто, но это как раз случай М. Рубинштейна. Особенно показательна борьба за основание Иркутского университета. Вообще университетский вопрос – тема, к которой отечественные философы обращались довольно редко. Отчасти это было связано с традиционно непрочным положением философии в российских университетах, а также с подозрительным отношением со стороны представителей «вольной» философии к официальным учреждениям. Для М. Рубинштейна практический аспект процесса образования – прежде всего положение дел в высшей школе – уже в молодости являлся одним из приоритетов в научных интересах, отраженных в статьях «К вопросу о русских студентах в немецких университетах», «Пасынки университета (О подготовке молодых ученых)», «Университет и воспитание».
Планы организации Восточно-Сибирского университета зрели давно, но дореволюционные власти не были от этой идеи в восторге, поскольку, по удачному выражению одного из сыновей М. Рубинштейна – Александра[6]6
А. М. Рубинштейн. Из неопубликованных воспоминаний. Архив Е. А. Свет.
[Закрыть], Иркутск был перевалочным пунктом для рассредоточения политических заключенных. Надежды на создание университета пробуждались и рушились вместе со сменой правительств – царского, временного, советского, «Всемирного сибирского», снова советского… Летом 1918-го М. Рубинштейн, заручившись поддержкой в Наркомпросе, очередной раз выехал в Иркутск, но пока находился в пути, (более месяца), советская власть в Сибири была свергнута – достигнутые с большевиками договоренности потеряли силу, и учреждение университета снова оказалось под угрозой. Лишь счастливый случай спас в дороге семью: командировка, оформленная Наркомпросом, являлась достаточным поводом для тюремного заключения. Но военным комендантом станции в городе Курган оказался офицер – бывший студент М. Рубинштейна, выдавший ему охранную грамоту…
Переговоры об обеспечении нового учебного заведения материально-технической базой пришлось начинать с нуля, велся напряженный поиск источников финансирования. В августе министр народного просвещения Временного сибирского правительства В. Сапожников подписал устав университета. М. Рубинштейн назначается исполняющим обязанности ректора, университету передается бывший дом генерал-губернатора Иркутска, именуемый горожанами Белым домом. В октябре, наконец, состоялось торжественное открытие, М. Рубинштейн был утвержден ректором[7]7
Н. С. Романов. Летопись города Иркутска за 1902 – 1924 гг. Иркутск, 1994.
[Закрыть].
Еще на стадии подготовки к открытию университета отчетливо ощущалась необходимость в поиске достойных преподавательских кадров. М. Рубинштейн старается привлечь к преподаванию в новом университете ряд известных столичных специалистов, знакомых коллег – философа Г. Шпета, востоковеда А. Крымского, занимавшегося историей античности Н. Куна, филологов и историков литературы А. Орлова, С. Радцига, Б. Ярхо[8]8
Архив музея ИГУ. «Личное дело о службе ректора Ун-та М. М. Рубинштейна». Известно, что М. Рубинштейн вел переписку с Г. Шпетом и по поводу возможного участия в журнале «Мысль и слово» в 1917 – 1918-м гг. См.: Густав густавович Шпет. Архивные материалы. Воспоминания. Статьи / Под ред. Т. Д. Марциновской. М., 2000. С. 24 – 25.
[Закрыть].
Большинство ученых не смогли принять приглашение в силу экстремальных обстоятельств, характерных для послереволюционного времени. Тем не менее ректору удалось наладить работу историко-филологического и юридического факультетов, и, несмотря на экономическую разруху и угрозу продолжения гражданской войны, он борется за открытие медицинского и физико-математического. Активно формируется университетская библиотека. В Иркутск переехали несколько преподавателей из Казанского университета, среди них замечательный социолингвист А. Селищев, который возглавил кафедру русского языка.
Но возникают проблемы с местными военными властями, требующими разместить в Белом доме лазарет, а также провести поголовную мобилизацию студентов и преподавательского состава, включая профессоров. В результате этих конфликтов против ректора дважды возбуждались уголовные дела, которые, правда, удалось замять. Университет устоял – в октябре 1919-го благополучно отмечали его годовщину.
Все же очередная смена власти принесла новые неприятности: человек, оказавшийся способным в период правления белых сдвинуть с мертвой точки дело по организации университета, начал вызывать подозрения. В январе 1920-го М. Рубинштейн «по состоянию здоровья» складывает с себя полномочия ректора и сосредотачивается на подготовке книги «Платон-учитель» для продолжения серии «Великие педагоги». В то же время советская власть была заинтересована в открытии учебных заведений, обеспечивающих подготовку специалистов для работы в новых условиях. М. Рубинштейн принимается за организацию Восточно-Сибирского педагогического института и вскоре становится его ректором. Впрочем, уже в следующем, 1921-м году институт был преобразован в педагогический факультет Иркутского университета, а М. Рубинштейн остался в должности декана.
В 1920-м в Москве выходит третье издание «Очерка педагогической психологии…», вызвавшее положительную реакцию в среде либеральных педагогов, – на тот момент еще продолжают издаваться несколько педагогических журналов, альтернативных официозу. Так, П. Каптерев дал небольшую рецензию в «Педагогической мысли», отмечая, что очерк написан «живо, просто, сердечно; во всем видится не казенная, обязательная работа, а труд, начатый по свободному изволению»[9]9
П. Каптерев. Рец. на кн.: М. М. Рубинштейн. Очерк педагогической психологии в связи с общей педагогикой. М., 1920 // Педагогическая мысль. М. 1921. № 9 – 12. С. 66.
[Закрыть]. Последнее, значительно сокращенное издание данной книги было осуществлено в 1927 году.
О творчестве М. Рубинштейна отзывался и В. Зеньковский, характеризуя «Очерк педагогической психологии…» как одну из лучших отечественных книг по общей педагогике[10]10
В. Зеньковский. Русская педагогика в 20-м веке. Париж, 1960.
[Закрыть]. Впрочем, непосредственно философские труды М. Рубинштейна остались В. Зеньковскому незнакомы. Об этом свидетельствует и замечание в «Истории русской философии», что книга «О смысле жизни» практически недоступна заграницей, и предположение, что М. Рубинштейн был до революции поклонником «метафизического», а не нормативного и теоретико-познавательного идеализма. (О необходимости тщательного разграничения различных видов идеализма он подробно толковал в статье, посвященной Риккерту)
Чтобы немного представить себе обаяние личности М. Рубинштейна, интересно обратиться к воспоминаниям Елены Боннэр, которая приходится ему внучатой племянницей. «В 1982 году, когда я еще ездила из Горького в Москву мне на маминой полке попалась на глаза книга в старом коричневом переплете издания 1913 года – М. М. Рубинштейн «Очерк педагогической психологии». Я видела ее всю жизнь, помнила, что там есть дарственная надпись от автора моей бабушке, но никогда раньше у меня не появлялось желания прочесть эту книгу. Я взяла ее в Горький. Теперь нашлись «время и место». При чтении книги меня не покидало то же ощущение доверительности и серьезности, которое возникало при каждом общении с дядей Мосей в реальной жизни. Доверительности и серьезности и по отношению к собеседнику – сейчас читателю, – и к ребенку, о котором вся книга. Детский поиск Бога, поиск доброты, попытки постигнуть понятия «жизнь» и «смерть». Ну, конечно же, он был идеалист, наш дядя Мося»[11]11
Е. Г Боннэр. Дочки-матери. М., 1994. С. 115.
[Закрыть].
В 1923-м он принимает приглашение со стороны нескольких московских вузов и остается в столице, работая в МВТУ, МГПИ, Центральном институте физкультуры и т. д. В конце двадцатых годов в полную силу развернулась безобразная травля педагогов, позволяющих себе мыслить не только в пределах партийных установок. М. Рубинштейна клеймят, как идеалиста и буржуазного реакционера[12]12
Спорные вопросы марксистской педагогики / Сб-к статей под ред. А. З. Иоаннисиани. М., 1930.
[Закрыть]. Его также не допускают к работе над первой советской педагогической энциклопедией, составленной из тематических статей и вышедшей в 1927 – 1929 годах.
Следствием этой кампании явился арест, полгода, проведенные без предъявления обвинения в одиночной камере, и ссылка в Алма-Ату. Интересно, что помощь в этой ситуации оказала семье Рубинштейнов комиссия, возглавляемая Е. Пешковой. Летом 1933-го М. Рубинштейн вернулся в Москву и некоторое время не мог устроиться на работу – следствие ссылки. В наиболее страшный период 1936 – 1937 годов М. Рубинштейна не тронули, но горе не обошло семью: в Ленинграде по 58-й статье был арестован старший сын – Борис, приговоренный к десяти годам заключения без права переписки и расстрелянный в феврале 1938-го. В том же году в АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников родины) была отправлена и его жена. М. Рубинштейн забрал к себе в Москву двух внуков – четырех и шести лет, – которые в дальнейшем у него и воспитывались.
Судьба других сыновей М. Рубинштейна сложилась более удачно: Александр стал одним из ведущих в стране специалистов в области органической химии, Владимир – известным музыкантом, а Виктор – писателем, занимающимся фольклором малых народов Сибири и Дальнего Востока, автором многочисленных книг для детей (псевдоним – В. Важдаев) …
С конца 1920-х годов М. Рубинштейну становилось все сложнее публиковать свои труды, к примеру, он вынужден заниматься вопросами «рационализации обучения шоферов с помощью тренажера»… После начала Великой Отечественной войны последовала эвакуация в Сибирь с «полагающимися» приключениями в пути – так, например, М. Рубинштейн отстал от поезда, пытаясь на одной из станций найти кипяток. Не только супруга с внуками, но и пиджак с паспортом, билетами и деньгами остался в купе… К счастью, ему удалось попасть на один из скорых поездов и нагнать свой состав.
Находясь в эвакуации, М. Рубинштейн работал на кафедре педагогики в Красноярском педагогическом институте. Это не спасало его от необходимости возделывать участок в двенадцати километрах от города, добираясь туда пешком. Положение дел на фронте позволило ему в 1943-м вернуться в Москву и возобновить работу в МГПИ. После окончания войны М. Рубинштейна ожидали новые испытания: его клеймят как космополита, «преклоняющегося перед иностранщиной», и приверженца фрейдизма, «принятого на идеологическое вооружение германским фашизмом»[13]13
Из неопубликованного отзыва канд. пед. наук Е. Игнатьева на книгу проф. М. М. Рубинштейна и проф. В. Е. Игнатьева «Психология, педагогика и гигиена юности». 1951 г. С. 1 – 2. Архив Е. А. Свет (внучки М. М. Рубинштейна).
[Закрыть]. Он также обвиняется в апологии «эгоцентризма и эгоизма», выражающих сущность «современного американского агрессивного империализма»[14]14
Там же. С. 2.
[Закрыть] и в проповеди ницшеанства, получившего развитие в «человеконенавистнических теориях»[15]15
Там же. С. 3.
[Закрыть]. В упрек ставилось и то, что в своих лекциях он, к примеру, не дает ссылок на последнее выступление тов. Сталина перед туркменскими конниками[16]16
Из неопубликованной анонимной рецензии на текст лекции проф. М. М. Рубинштейна «Воля и ее воспитание». 1951 г. С. 2. Архив Е. А. Свет.
[Закрыть]… В результате оголтелой травли в 1951-м М. Рубинштейну пришлось покинуть педагогический институт. Умер он 3 апреля 1953-го и был похоронен на Введенском кладбище в Москве, как пишет Е. Боннэр, так и не дождавшись посмертной реабилитации сына…
В последние годы появился ряд диссертаций, посвященных творчеству М. Рубинштейна (особый интерес представляет фундаментальная работа Д. В. Иванова[17]17
Д. В. Иванов. Становление педагогической концепции М. М. Рубинштейна в первой четверти XX века. Дисс. На соискание уч. ст. канд. пед. наук. Иркутск, 1999.
[Закрыть]). В то же время труды М. Рубинштейна за последние полвека переизданы не были, за исключением сокращенного варианта книги «Проблема учителя», снабженной небрежным предисловием, в котором даже год рождения М. Рубинштейна указан неверно[18]18
В. Сластенин. М. М. Рубинштейн – философ, психолог, педагог // М. М. Рубинштейн. Проблема учителя. М., 2004.
[Закрыть]…
ВОСПРИЯТИЕ НЕОКАНТИАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
В исследовательской литературе, посвященной западному неокантианству, отмечается, что за бурным расцветом данного направления последовало столь же неожиданное исчезновение с философской сцены. Разумеется, на это можно возразить, что традиция с наступлением национал-социализма была прервана искусственно. Тем не менее некоторые причины, способствующие решительному завоеванию неокантианством популярности, предопределили и его быстрое забвение[19]19
Подробнее см., например: М. Pauscker. Einführung in den Neukantianismus. München, 1997; H.-L. Ollig. Der Neukantianismus. Stuttgart, 1979.
[Закрыть].
Одним из основных поводов к развитию нового философского направления в Германии, начиная с середины XIX века, была неприспособленность системы Гегеля к условиям стремительного развития естественных наук. Вероятно, теория Канта позволяла более удачно легитимировать специальные науки, основанные на изучении эмпирической действительности, признавая их значимость как «полноценного» содержания сознания. Кроме того, учение Канта могло противостоять притязаниям материалистических течений, захлестывающих в своем позитивистском теоретизировании и сферу этики. Кант же пытался обосновать несводимость основ морали и религии к понятиям и деятельности рассудка.
Помимо историко-философских поводов способствовали развитию неокантианства и некоторые социально-политические обстоятельства, прежде всего цензурные сложности с преподаванием философии в университетах, вызванные реакцией на революционные события 1848 года. Востребованной оказалась в первую очередь гносеология, вроде бы не стремящаяся непременно обращаться к особенно злободневным темам. (Довольно быстро такая ситуация изменилась, и в русле неокантианства начали зарождаться, например, концепции критического социализма или либерально-педагогические теории.)
Необходимо отметить и разочарование в сциентизме, сосредоточенном на выявлении общих закономерностей, но чуждом интереса к ценностным аспектам познания и к культурному развитию. Именно культурно-философская проблематика сделалась вскоре для неокантианства ведущей.
Надо сказать, что социально-политический оптимизм неокантианства, а также вера в неуклонность исторического прогресса и неисчерпаемость «запасов» идеальных ценностей в свете трагических событий первой половины XX века несколько «скомпрометировали» данное направление и заметно охладили к нему интерес. Так или иначе, возникает вопрос, существовали ли в России на рубеже XIX-XX веков какие-либо специфические условия для успешного продвижения данного направления?[20]20
См. также: Н. А. Дмитриева. Русское неокантианство: «Марбург» в России. Историко-философские очерки. М., 2007.
[Закрыть] Во многом именно социальные аспекты неокантианских концепций, создающихся в условиях «потепления» политического климата в Германии, привлекали внимание отечественных философов, ищущих альтернативы ортодоксальному марксизму[21]21
См.: Н. С. Плотников. Философия «Проблем идеализма» // Проблемы идеализма. М., 2002; М. А. Колеров. Idealismus militans // Там же.
[Закрыть]. Знаменитый сборник «Проблемы идеализма», в котором приняли участие Н. Бердяев, С. Булгаков, С. Франк и другие наиболее известные представители отечественной философии того времени, отчасти был посвящен проблемам обоснования социальных теорий этическими предпосылками учения Канта. Интересно, что даже перейдя на позиции религиозной философии и отдалившись по своим глобальным мировоззренческим позициям от неокантианских стратегий, некоторые из участников этого сборника время от времени применяли аргументацию, заимствованную у неокантианцев[22]22
Необходимо отметить, что некоторые представители немецкого неокантианства (прежде всего Коген, Наторп и Виндельбанд) в различные периоды своего творчества также обращались к религиозно-философской проблематике – в основном это были попытки укоренить религию в системе философии культуры. Религиозное чувство в этой перспективе предшествует идеям Истины, Добра и Красоты, воплощаемых в логике (науке), этике (нравственности) и эстетике (искусстве). Данное чувство оказывалось не подвластно отчетливым дефинициям, но представлялось нормативным для всех эмпирических проявлений мира культуры. Вера рассматривалась как связующее звено между идеальным и реальным планами бытия, как главенствующее условие осуществления ценностей. Но философия, являясь продуктом сознания, незамутненного мистическими порывами, оставалась в рамках неокантианства, как правило, свободной от стремления непременно упорядочить отношения веры и рациональности, исчерпывающе определить истоки религиозного начала в мире культуры.
[Закрыть].
Например, С. Булгаков, ведя полемику в «Философии хозяйства» с марксистскими социологическими притязаниями, приводит в качестве обоснования невозможности предсказать ход истории теории Баденской школы, разграничивающие естественные (обобщающие) и исторические (индивидуализирующие) науки[23]23
С. Н. Булгаков. Философия хозяйства. Трагедия философии / Соч. в 2 тт. Т. 1. М., 1993.
[Закрыть]. Надо отметить, что это было скорее разграничение методов, которые в той или иной степени были призваны применяться в любом исследовании.
По мнению С. Булгакова, индивидуализация какого-либо явления неизбежно предполагает признание его нетипичности и невозможность полностью укоренить это явление в системе закономерностей, которые позволили бы делать достаточно определенные прогнозы или предсказания. В этом плане также показательно неокантианское разделение понятий закономерности и причинности – первое подразумевает подчиненность законам эмпирической действительности, второе – мотивы, выражающие свободное творческое начало…
Для неокантианства в целом характерно стремление утвердить философию в статусе верховной формы научной рациональности, способной определять методологию различных специальных наук. Так, в отечественной философской традиции особенно напряженные дебаты велись вокруг методологии исторического знания. В этом плане показательна дискуссия между «ранними» Струве и Бердяевым с одной стороны и сторонниками школы «субъективной социологии» с другой.
Некоторые российские историки или историософы обращались к неокантианским методологическим разработкам (прежде всего Виндельбанда и Риккерта), в частности, к концепции, разделяющей способы научного познания на номотетический, который ориентирован на выявление общих закономерностей, и на идеографический, призванный концентрировать внимание на индивидуальном и неповторимом. Значимость исторического события при этом зависела от степени его соотнесенности с миром идеальных ценностей. По мысли Риккерта, оба этих метода могли применяться в любой области знания, определяя лишь исследовательский угол зрения. Важность данного подхода, берущего исток в немецкой исторической школе, признавали Н. Кареев, А. Лаппо-Данилевский и В. Хвостов, но их историко– или социально-философские рассуждения в целом не укладываются в рамки неокантианства. Также и философы – правоведы (например, Б. Кистяковский) при известной симпатии к неокантианству по существу остаются в стороне от этого течения.
Ряд отечественных академических философов пытались развивать непосредственно учение Канта, не ориентируясь на традиции немецкой школы неокантианства, но уделяя особое внимание вопросам гносеологии, проблемам имманентности познания (ограниченности человека миром явлений и собственными представлениями, которые заменяют бытие «вещей в себе») и вытекающей отсюда опасности солипсизма или философского эгоцентризма (А. Введенский, И. Лапшин, Г. Челпанов).
Представители российского неокантианства, как правило, прошедшие философскую подготовку в университетах Германии, группировались вокруг международного журнала «Логос» (1910 – 1914, 1925), издаваемого на немецком и русском языках, – кроме М. Рубинштейна наиболее известны среди них С. Гессен, Б. Яковенко, Ф. Степун, В. Сеземан. Их интересовали прежде всего теория познания в духе кантовского критицизма и определение предмета философии. В этой связи характерно стремление М. Рубинштейна оградить философию от гнета социальных ожиданий – от наивно-позитивистских попыток сделать из нее инструмент общественных преобразований. В этом, кстати, по его мнению, заключалась одна из причин задержки исторического развития философии в России[24]24
М. М. Рубинштейн. Философия и общественная жизнь в России: Набросок // Русская мысль. 1909. №. 3. С. 180 – 190.
[Закрыть].
Опора на последние достижения теории познания сулила новые возможности противостоять методологическим «вольностям» религиозно-философских течений. При этом необходимо отметить, что впоследствии большинство близких неокантианству мыслителей из круга «Логоса» также стремились обогатить данную традицию онтологической проблематикой, разрабатывать теорию познания в синтезе с феноменологией (В. Сеземан) или с философией жизни (Ф. Степун, а также М. Рубинштейн в период работы над книгой «О смысле жизни»).
Не избежал увлечения философией, причем именно в неокантианском исполнении, и Б. Пастернак, отправившись на выучку в Марбург к Когену Данное направление подкупало тем, что «не разделяло ленивой рутины всевозможных «измов», всегда цепляющихся за свое рентабельное всезнайство из десятых рук»[25]25
Б. Л. Пастернак. Охранная грамота. ПСС в 13 тт. М., 2003 – 2005. Т. 3. С. 168.
[Закрыть]. Не подчиненное терминологической инерции неокантианство, по его мнению, черпало вдохновение в первоисточниках, отчего философия «вновь молодела и умнела до неузнаваемости»[26]26
Там же.
[Закрыть].
Несмотря на то что ряд отечественных философов в начале XX века защитили под руководством неокантианцев диссертации в Германии[27]27
Kistiakowski, Theodor. Gesellschaft und Einzelwesen. Eine methodologische Untersuchung. Strassburg, 1899. Phil. Diss. Ref. Windelband;
Rubinstein, Moses. Die logischen Grundlagen des Hegelschen Systems und das Ende der Geschichte. Freiburg, 1906. Phil Diss. Ref. Rickert;
Bubnoff, Nickolai von. Das Wesen und die Voraussetzungen der Induktion. Heidelberg, 1908. Phil Diss. Ref. Windelband;
Hessen, Sergius. Über individuelle Kausalität. Freiburg, 1909. Phil Diss. Ref. Rickert; Steppuhn, Fedor. Wladimir Ssolowjew. Heidelberg, 1910. Phil Diss. Ref. Windelband; Gawronsky, Dimitry. Das Urteil der Realität und seine mathematischen Voraussetzungen. Marburg, 1910. Phil Diss. Ref. Cohen, Natorp;
Lourié, Samuel. Das disjunktive Urteil; Eine logische Untersuchung. Heidelberg, 1910.
Phil Diss. Ref. Windelband http://hcoonce.math.mankato.msus.edu/html/id.phtml?id=57545;
Ssalagoff, Leo. Vom Begriff des Geltens in der modernen Logik. Heidelberg, 1910. Phil Diss. Ref. Windelband http://hcoonce.math.mankato.msus.edu/html/id.phtml?id=57545;
Rubinstein, Sergej. Eine Studie zum Problem der Methode absoluter Rationalismus (Hegel). Marburg, 1914. Phil Diss. Ref. Cohen, Natorp.
[Закрыть], данное направление не завоевало в российской философской среде главенствующее положение. С одной стороны, строгость методологических установок не позволяла свободно развертывать излюбленные религиозно-философские сюжеты, с другой – представители марксистских направлений без разбора отметали все, что так или иначе связано с идеализмом, опасаясь распространения «реакционно-буржуазных» теорий, уводящих от насущных социальных проблем в туманно-метафизические сферы.
Среди проблем, исследуемых в русле отечественного неокантианства, особая актуальность в дискуссиях начала XX века придавалась спору «догматизма» и «критицизма» – спору, который выражал попытки осмыслить вопрос о природе философского знания на новом культурно-историческом этапе. Является ли методологическая рефлексия всегда лишь эхом уже свершившегося – непосредственного акта познания, можно сказать, жизненного впечатления, которое собственно и представляет собой материал для ретроспективно-критических изысканий? Или же стремление к построению отчетливой методологии может определять степень подлинности познания? Ясно, что однозначных ответов здесь быть не может…
Нельзя сказать, что «Логос» придерживался исключительно неокантианской направленности[28]28
Подробнее см.: Н. Плотников. «Логос» в истории европейской философии: Проект и памятник // «Логос» в истории европейской философии: Проект и памятник. Сб. материалов под ред. Н. С. Плотникова. М., 2006. С. 7 – 12.
[Закрыть]: в журнале публиковались и культурологические труды, и работы представителей феноменологии или даже мыслителей, близких религиозной философии. Но также невозможно отрицать и то, что «изюминку» журнала редакция видела в отчаянно амбициозной задаче – в выработке системы философии, позволяющей глобально упорядочить способ мышления человека, исчерпывающе выявить условия возможности универсальной познавательной деятельности. При этом подчеркнутая претензия на научность, выраженная в гипертрофированном систематизме, исходила прежде всего от одного из немецких кураторов журнала – Риккерта, который, впрочем, лишь развивал тенденции, заложенные в учении самого Канта[29]29
См. В. Куренной. Философский проект «Логоса»: немецкий и русский контекст // «Логос» в истории европейской философии: Проект и памятник. С. 13 – 72.
[Закрыть].
Интересно, что едва ли не наиболее позитивные отклики «Логос» вызывал в среде, близкой к набирающим силу, в ту пору относительно новым наукам – психологии, социологии и педагогике[30]30
Напр.: П. Сорокин. Рец. на «Логос». Международный ежегодник по философии культуры. 1911 – 1912 гг. Книга вторая и третья // Вестник психологии, криминальной антропологии и педологии. Пг, 1912. № 3. С. 62 – 65.
[Закрыть]. Кроме того, высказывались предположения, что на его страницах может происходить выработка своеобразного метаязыка, обеспечивающего коммуникацию между различными областями культуры[31]31
А. Штейнберг. В поисках философии будущего // Русская мысль. 1911. № 6. С. 39 – 43.
[Закрыть]. Подобные надежды, правда, необходимо было еще согласовать с программными гносеологическими установками издания, призывающими к поиску критериев, которые должны определять «зоны ответственности» едва ли не каждой науки, будь то в естествознании или в гуманитарных сферах.
Со стороны ряда экзальтированно-религиозных философов (прежде всего В. Эрна) журнал «Логос» подвергался нападкам за утрату национально-философских традиций: избыточный рационализм и недостаточное внимание к онтологической проблематике. Н. Бердяев толковал даже о «полицейских» функциях неокантианства, подразумевая излишне критическое отношение этого направления к методологии философского познания, – данную метафору использовал изначально сам Кант в «Критике чистого разума». Вообще полемика между представителями направления, близкого «Логосу», и мыслителями, издающими журнал «Путь», – едва ли не наиболее значимый сюжет в развитии отечественной предреволюционной философии.
Как известно, Виндельбанд, узнав о выпуске содружеством молодых неокантианцев сборника «О мессии» и намерении Ф. Степуна, Н. Бубнова и С. Гессена назвать предполагавшийся журнал «Логос», отнесся к этому с оттенком иронии, высказав предположение, что они еще могут «причалить у монахов»[32]32
Ф. А. Степун. Бывшее и несбывшееся. В 2 тт. Нью-Йорк, 1956. Т. 1. С. 175.
[Закрыть]. Ф. Степун отмечает в этой связи, что на позициях чистого неокантианства впоследствии оставался лишь Н. Бубнов. Сам Ф. Степун отчасти сблизился с позициями религиозно-философского направления, – о состоявшемся сближении свидетельствовало сотрудничество бывших противников в эмигрантском журнале «Новый град», издаваемом в Париже…