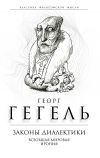Текст книги "О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории образования и университетскому вопросу. Том 1"

Автор книги: Моисей Рубинштейн
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Если у Лейбница создалось такое положение, что то исчезала возможность совершенствования, то при допущении зла и несовершенства подымались недопустимые обвинения бога и сомнения в нем, у Шопенгауэра совершилось обратное. Никакие усилия не могли спасти абсолютный пессимизм от притока оптимистических веяний. Как у него, так и у буддизма не может не бросаться в глаза уже то, что Нирвана достижима, т. е. что скорбь, безотрадность и бессмыслица не безграничны. Но искорки оптимизма разрастаются дальше все больше. Как ни энергично отклонял Шопенгауэр то, что он называет историзмом[192]192
A. Schopenhauer. Aphorismen zur Lebensweisheit. W. IV. S. 359.
[Закрыть], развитием, тем не менее эта идея выявилась и у него и в довольно яркой степени, а с нею воскрес и известный телеологизм. В самом деле. Как можно было отклонить идею развития и при том все повышающегося, когда весь мир расположился в толковании Шопенгауэра хотя и по направлению к небытию, но все-таки в виде иерархической лестницы: одна и та же воля оказывается на различных ступенях; с все прибывающей ясностью и отчетливостью вырисовывается, что эта полнота и ясность возвышаются в человеке до высшей ступени, где мрак родит свет, из недр темной воли является самосознание. В этом самосознании достигла просветления не только личность, но и весь мир; злой обманщик все-таки пришел к саморазоблачению и, следовательно, к коренному устранению зла. И это не иллюзия только, потому что все это способно привести к реальным следствиям абсолютно положительного свойства, а именно: к уничтожению мира. Если мир абсолютное зло и бессмыслица, то тем больше ценности и смысла в его уничтожении. Жизнь личности таким путем обрела ясный смысл и у Шопенгауэра и при том смысл прямого космического значения: через свое просветление и отказ в себе от воли к жизни она спасает мир от мук и бессмыслицы, хотя бы уничтожением всего; она срывает покрывало Майи. Логическое начало оказывается способным победить алогическое и у другого пессимиста, Гартмана. Сам Шопенгауэр в письме к А. Беккеру 24 авг. 1844 г. определяет жизнь мира как «с необходимостью совершающийся процесс просветления», завершающийся Нирваной. Смерть, призраком которой пугал нас Шопенгауэр, и та в одном месте описывается в ее естественной форме как естественное незаметное угасание, по существу лишенное мучения и страдания[193]193
A. Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung. W. II. S. 550.
[Закрыть].
В полном согласии с этим всплывает оптимистическая черта и во взгляде на человека. В его самосознании не только достигнуто мировое просветление, как мы уже это отметили, но на пути проникновения в тщету и злую основу мира и постижения внутреннего противоречия явления с самим собой самосознание возвышается до возможности святости и самоотречения[194]194
Ibid. I. S. 376.
[Закрыть], и если бы даже они не привели ни к чему положительному, сами по себе они обозначают нравственное завоевание и вносят очень существенную оптимистическую черту во взгляд на человека. Чем ближе Шопенгауэр подходит к человеку и к тем главам своей философии, где он затрагивает вопросы императивного характера, тем яснее слышится там голос высокой оценки разума и познания человека; там он везде зовет к самоуглублению, к самосознанию личности, как спасительному фактору не только метафизически, но и житейски[195]195
A. Schopenhauer. Aphorismen zur Lebensweisheit. W. IV. S. 358. Интересно отметить высказываемую Шопенгауэром мысль, что здоровье выше всех внешних благ.
[Закрыть]. Личность со всех точек зрения возводится в ранг первостепенного фактора, почти абсолютной ценности[196]196
A. Schopenhauer. Aphorismen zur Lebensweisheit. W. IV. S. 359.
[Закрыть]. Значение этого вывода нисколько не умаляет то, что подавляющая масса людей остается всецело во власти темной воли к жизни. Идея личности и ее самосознания привели Шопенгауэра к бреши в пессимизме в коренном пункте: несмотря на свою радикально пессимистическую оценку principium individuationis, Шопенгауэр уделил человеческому индивиду совершенно исключительное положение. В то время как Лейбниц, спасаясь от тягостной проблемы зла, увидел себя вынужденным принизить индивида, возложив всю вину на него и его свободу, Шопенгауэр, наоборот, ища выхода, как правильно констатирует Фолькельт[197]197
J. Volkelt. A. Schopenhauer. S. 374.
[Закрыть], отвел отдельному человеку в конце концов место особой идеи, меж тем как в природе идея вообще снисходит только до рода; человек уже выходит за пределы явления и обретает бытие, восходящее к царству вечного и единого: решением его воли, просветленной его постижением, может быть спасен мир или уничтожен. Пусть мир плох, но мощь и значение человека от этого выступают тем рельефнее. Пусть даже это значение принадлежит только умопостигаемому характеру, тем не менее индивидуальность личности коренится в вещи в себе. В своей статье «О видимой преднамеренности в судьбе отдельного человека» Шопенгауэр говорит о предназначении и о том, что нашей судьбою управляет какая-то высшая метафизическая власть, наш гений, хотя добавляет, что эта статья есть только плод метафизической фантазии, но ведь фантазия нормально выступает только немотивированно. Шопенгауэр даже признает возможность «сравнительного счастья»[198]198
A. Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung. W. II. S. 674.
[Закрыть]. В самодовлении личности он открывает даже и более широкие перспективы, подымаясь на высоту настоящей житейской мудрости: «Довольствоваться самим собой, быть для себя всем во всем и иметь право сказать «все мое несу с собой», без сомнения, самое плодотворное свойство для нашего счастья»[199]199
A. Schopenhauer. Paränesen und Maximen. W. IV. S. 469.
[Закрыть].
Это продвижение оптимиста и пессимиста как бы навстречу друг другу может быть дополнено относительно Шопенгауэра еще одним фактом, без сомнения, самым важным. Проблески оптимизма нашли себе выражение у него не только в отрицательной форме, в уничтожении безумной, чудовищной основы мира, в прекращении бессмыслицы, но у Шопенгауэра ясно и определенно наметился положительный смысл всей мировой драмы. Шопенгауэр энергично и многократно подчеркивал, что в смерти и отрицании мы познаем только то, что мы теряем, но не то, что мы приобретаем таким путем. Определив Нирвану как ничто, он уже первый том своего труда «Мир как воля и представление» заканчивает указанием на то, что абсолютное ничто совершенно невозможно[200]200
Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung. W. I. S. 524. § 71.
[Закрыть]. Он заканчивает свой труд характерными словами, что с уничтожением, отрицанием воли ничто получается только для всех тех, кто утверждал волю, был полон ею; для тех же, в ком совершился мистический переворот, исчез мираж, «этот столь реальный мир». Шопенгауэр описывает достижение Нирваны состоянием экстаза, просветления, соединения с богом и т. д. Отсюда открывается нечто непознаваемое, непосредственный мистический опыт, а потому и непередаваемый[201]201
Ibid. S. 525.
[Закрыть]. Он намечает свою мысль через отрицание, указывая, чего в Нирване нет: он говорит только, что Нирвану можно определить как ничто только в том смысле, что в мире этом нет ни одного элемента, который был бы пригоден «для определения и построения ее»[202]202
Ibid. S. II. С. 716.
[Закрыть], но что вообще она не есть абсолютное ничто[203]203
Ibid. S. 720.
[Закрыть]. Мы просто только не знаем, что дальше[204]204
A. Schopenhauer. Nachträge zur Lehre von der Bejahung und Verneinung des Willens zum Leben. W. V. S. 326.
[Закрыть]. Но мы, свободные от пессимизма Шопенгауэра, чувствуем, как мысль наша необходимо переходит от того, что он отрицает, к мысли о том, что он этим самым намечает. Когда он говорит нам, что там за сорванным покрывалом Майи уже не будет рождения, возрастов, болезней и смерти[205]205
A. Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung. W. I. S. 459.
[Закрыть], когда мы знаем, что все зло скопилось в этом мире, что ни один элемент отсюда не войдет туда, что человек не исчерпывается явлением и не подлежит целиком времени и что дальше не только потеря, о которой мы знаем, но еще какое-то обретение, о котором мы не знаем, то ничто не может уже нам помешать сказать, что дальше во всяком случае не могила, не беспросветный мрак, а что-то по замыслу философа лучезарное, неизмеримо величественное. Так пессимизм Шопенгауэра в конечном счете вылился в полнозвучный аккорд оптимизма. Вдумываясь в эти мысли Шопенгауэра, невольно вспоминаешь о другом вдохновенном философе-оптимисте, Вл. Соловьеве, у которого царство божие также приобретает роковое сходство с Нирваной[206]206
См. главу о Вл. Соловьеве.
[Закрыть].
Лейбниц и Шопенгауэр встретились и еще в одной черте. Оба интеллектуалисты, оба отвели познанию и познавательному фактору центральное место, оба ждут восхождения и совершенства от познавательного прояснения. В итоге они оказались также оба в крайне рискованном положении в отношении человеческой личности. В их прямых сознательных заявлениях личность оказалась возведенной на большую высоту, но по существу ее положение в их системах, с другой стороны, оказалось совершенно подорванным. У Шопенгауэра индивидуальные стремления все-таки должны бесследно исчезнуть с этим миром вообще, как и всякие стремления, хотя бы в слабой степени напоминающие волю; исчезает движение, прогресс, жизнь, достигается какое-то неведомое статическое положение, совершенно нестерпимое для личности. Вскрывшийся в заключении оптимизм касается внеличного, несубъективного и даже внемирового состояния, он не для личности. Приходится думать, что с миром ее миссия кончилась и дальше ее нет. Очень показательно, что сам Шопенгауэр, прославлявший аскетизм, устанавливает тесную, неразрывную связь между мистицизмом, аскетизмом и квиетизмом[207]207
A. Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung. W. II. S. 722.
[Закрыть].
Мало утешительного получается для решения проблемы смысла жизни личности и у Лейбница. Там всеведение и всемогущество бога по существу закрыло все свободные входы и выходы, оно определило все, и, сколько бы Лейбниц ни отрицал этого, для личности не осталось решительно ничего, возможного по ее собственному решению; все, что было, есть и будет, установлено богом, и от него не укроется ничто. В трудных этапах своей философии Лейбниц рекомендует личности тотчас вспомнить о таинственной премудрости божией и о необходимости положиться на его благость[208]208
Г.-В. Лейбниц. Защита бога. § 124 и сл. С. 289 и сл.
[Закрыть]. Что может дать он сознанию личности, когда он убежден, что и будущее все определено? Наш философ пробует спасти крупицы осмысленного собственного дела личности тем, что он рекомендует нам исполнять свой долг по разуму, «так как мы не знаем ни того, как оно определено, ни того, что предвидено и решено» (т. е., иными словами, мы будем думать, что мы что-то решили и сделали, на самом же деле все совершается по заранее установленному божественному плану). Недаром у Лейбница вырвалось сравнение человека с «духовным автоматом», потому что все в человеке, как и везде, заранее твердо установлено и определено[209]209
G. W. Leibniz. Theodicee. § 52. S. 204.
[Закрыть]. Все наши планы и стремления основываются просто на нашей неосведомленности, а если бы мы все знали, то, по мнению самого Лейбница, нам абсолютно нечего было бы желать больше[210]210
Г.-В. Лейбниц. Защита бога. § 59. С. 269.
[Закрыть]. Это обозначает категорический смертный приговор личности; она сама как таковая утрачивает свое значение, потому что от ее воли и ее самосознания вне общемирового хода ничто не зависит; мы только звенья в общей цепи, способные только строить обманчивые фантазии, что мы можем что-то решить и сделать от себя. Бог у Лейбница возвеличен, но личность оказалась уничтоженной в корне.
Такой итог далеко не случаен. То же самое получилось и у необычайно интересного другого талантливого религиозно-философского оптимиста, Вл. Соловьева[211]211
См. гл. о Вл. Соловьеве.
[Закрыть]. Положительный смысл жизни личности мыслим только при условии, что она может внести, если проявит добрую волю, кое-что от себя. Сказать же – как это делают объективный оптимизм и пессимизм, построенные не на уповании, а на утверждении определенного характера действительного положения вещей, – что мир все равно останется собой и ему гарантирован или неуклонно предуказан определенный путь и конец, пессимистический или оптимистический – безразлично, чтó бы личность ни предпринимала, это значит совершенно уничтожить смысл и суть личности. И крайний пессимист, и крайний оптимист делают свои усилия и планы в действительности совершенно мнимыми и излишними и включают их просто в общий типовой ход. Оба умерщвляют бесцельностью; только один добивает еще безнадежностью и мраком, а другой отсутствием стимулов и ослеплением лучезарным светом. Пессимист твердит о неизбежности гибели мира, о коренной злой основе мира. Оптимист твердит о том, что в общем мировом ходе гарантировано добро в самой лучшей и совершенной форме. Все наши «хочу», «не хочу», «одобряю», «отклоняю» и т. д. – все это иллюзорно, все это покрывало Майи, только у одного написано на нем «ад», а у другого «рай». Крайний оптимизм и пессимизм неизбежно приобретают характер фатализма, потому что все призывы при неизбежно гарантированном ходе вещей утрачивают всякий смысл; нельзя стремиться к тому, что есть и обеспечено или определенно немыслимо[212]212
П. И. Новгородцев в статье: Об общественном идеале // Вопросы философии и психологии. 1916. № 4. C. 441, оценивая общественный фатализм, справедливо спрашивает: «Что значат призывы к действию в борьбе, если все решается неотвратимыми имманентными законами истории?»
[Закрыть]. Всякое сознательное стремление должно исчезнуть уже в силу психологического закона – в силу того, что ясное сознание бесцельности действия или недостижимости цели совершенно парализует волю личности. Вместе с этим неизбежно угасает жизнь по собственному почину, остается только предоставить все ходу вещей и делать то, что он навязывает, в невозмутимом тупом ожидании неизбежно грядущего миропорядка. Удалось ли крайнему оптимисту и пессимисту прозреть и постичь ход мировой жизни и ее смысл, это большой вопрос, остающийся навсегда гадательным и подлежащим компетенции веры, но смысл жизни человека, не как части мира, а как личности, погибает при этом безвозвратно, и самые помыслы его о том, что он что-то может, хорошее или дурное, его самосознание, жесточайший обман и зло. Объективный оптимизм и пессимизм обнаруживают здесь свое кровное родство.
Лейбниц сам сознавал, что он близится к тому положению, которое погубит двигательные пружины в жизни личности. Это ясно видно из того, что он неоднократно делал попытку опровергнуть такие опасения и энергично выступил против рассуждения, в древности названного[213]213
Tullii Ciceronis. De fato. 12, 28.
[Закрыть] «ленивый разум»: если личность будет действовать согласно воле бога, то она сделает то, что и без нее совершилось бы; если же она попытается пойти в противоположном направлении, то из этого все равно ничего не выйдет. Ошибка этого рассуждения заключается только в том, что оно, рассматривая религиозный фатализм, не отдает себе отчета в том, что человек не может по основной посылке остаться в стороне, его деятельность учтена и дана в божественном плане, так что деятельность его неизбежна, и абсолютному квиетизму тут действительно не может быть места, но центр тяжести здесь переносится в другую плоскость, в фаталистическую точку зрения на итоги, на цели, мотивы и пути его деятельности, на то, что он только звено цепи и свершит только то, что предписано; всякие свои надежды на привнесение в мир чего-то своего, на возможность иного бессмысленны; человек совершает только то, что не им установлено, а общим миропорядком. Лейбниц прав, когда он считает несостоятельным упрек в квиетизме в действительной жизни индивида[214]214
G.-W. Leibniz. Theodicee. § 8. S. 53.
[Закрыть], но он бессилен опровергнуть фатализм и квиетизм духовный или иллюзионизм в деятельности и целях личности: Лейбниц признал, что все наши собственные стремления и планы построены на нашей неосведомленности в божественных планах[215]215
Г.-В. Лейбниц. Защита бога. § 59. С. 269.
[Закрыть]; мы только исполнители не нами данного плана, и от нашего признания или непризнания ничто не зависит. Все эти рассуждения применимы и к пессимисту Шопенгауэру; потому что спасающий свет самосознания, освобождающий мир и личность, появляется в его системе вопреки его основным положениям; темная безрассудная воля ни с какой стороны не делает нам понятным и оправданным рождение самосознания, света разума, целенаправленной деятельности, кроме одной цели голого самоутверждения.
Так идут, переливаясь друг в друга, оптимизм и пессимизм. И это вполне понятно, потому что пессимист должен по меньшей мере признать факт познания, что принуждает его к дальнейшим уступкам, а оптимист не может исключить идею восхождения по лестнице благ и совершенств, чем волей-неволей открывает некоторую возможность уделить место несовершенному и неполному. Но основная ошибка обоих течений как описаний действительного положения вещей заключается в том, что здесь отблеск собственного субъективного исповедания и веры в преобладание добра и зла, счастья или несчастия в мире переносят на объективную действительность[216]216
Это отмечают не только Куно Фишер, но и другие критики пессимизма и оптимизма. Ср. Н. Я. Грот. О научном значении оптимизма и пессимизма как мировоззрения. С. 22. По его мнению, эта точка зрения «так же законна, как законны и самые чувства и настроения человека, т. е. весь его индивидуальный душевный строй». Не без основания другой критик пессимизма Д. Селли говорит об инстинктивном пессимизме. Ср. также В. Джемс. Прагматизм. С. 141.
[Закрыть]. Такие аргументы, как указание Шопенгауэра на то, что он уже в отрочестве был пессимистом, вполне подтверждают субъективную природу пессимизма и оптимизма. Оба течения являются продуктом оценки и логически и психологически немыслимы без субъекта, оба они слишком легко забывают, что истоков своих они должны искать прежде всего в душе человека, в субъекте. Оба, и пессимист, и оптимист, как бы не замечают, что они смотрят на мир и факты через разноцветные очки, и что цвет, окраска мира объясняется в сущности цветом, отблеском и большей или меньшей выпуклостью или вогнутостью стекол. При таком положении вопроса в решении проблемы смысла жизни получается коренная несообразность: пессимизм или оптимизм рассматривают действительность и в зависимости от этого решают проблему смысла жизни, между тем как философская правда повелительно требует обратного пути, а именно чтобы отклоненный или признанный смысл решал судьбу вопроса. Не оптимизм – базис смысла, а смысл базис оптимизма; то же самое нужно сказать о взаимоотношении пессимизма и отрицания смысла: оно обратно тому, что утверждал пессимизм до сих пор.
Оценивая пессимизм и оптимизм таким образом, нельзя не согласиться с мыслью, что природа всякого пессимизма и оптимизма эгоистическая и самолюбивая[217]217
Н. А. Бердяев. Смысл творчества. С. 9.
[Закрыть]. В той и другой системе философ подходит к миру и жизни не просто как к материалу, а со своими определенными практически-субъективными ожиданиями. Пессимистический или оптимистический взгляд на вещи зависит в значительной степени от того, с какими ожиданиями и каким критерием мы подходим к вещам: если перед нами бог, добро, рай, идеалы, человек как образ и подобие божие и основанные на этом безгранично гордые и смелые упования, то открывается богатый простор для пессимизма; но если мы подходим к жизни и человеку, видя истоки их развития в естественном зачаточном состоянии и все ценности рассматриваем не как то, что должно быть, но – к чему мы идем, открывается возможность оптимизма. Пессимист как будто всегда помнит, что возможный рай утерян и впадает в отчаяние, оптимисту внушает радость постоянно рисующийся ему на горизонте грядущий рай. В ламентациях пессимиста всегда слышится голос неосуществленных абсолютно оптимистических притязаний, голос обиды за нарушенное право на жизнь, счастье и блага; в восторгах оптимиста звучит радость от сознания осуществляемого и осуществленного права на жизнь и всяческие ценности; положительную жизнь, счастье, блага и т. д. они рассматривают как должное, противоположное – как недолжное. Только при этом условии понятна неудовлетворенность пессимиста временной жизнью, потому что он жаждет и требует вечной; только при требовании полноты счастья и всех ценностей понятно нежелание пессимиста признать и многое ценное, что есть в мире: частью не может удовлетвориться только тот, кто требует всего. На пессимисте оправдываются слова Заратустры[218]218
F. Nietzsche. Also sprach Zarathustra. W. vii. S. 158.
[Закрыть], что мы любим жизнь и любим ее больше всего тогда, когда мы ее ненавидим. Не будь у пессимиста высокого взгляда на человека и высоких ожиданий от него, он не приходил бы в отчаяние при взгляде на действительность. Глядя на животных и их существование, он не находит в этом одном прямого повода к философским ламентациям; тигр ни его, ни нас не возмущает, как никого особенно не восхищает хлеб и вода, хотя первый убивает, вторые питают. Только вид человека в животном или немощном состоянии заставляет его мрачно смотреть на мир. Шопенгауэр хотел бы видеть позади себя в далеком начале всех вещей бога и дальше его направляющую власть, но увидел там дьявола и проклял мир; Лейбниц видел позади себя ничто, а впереди бога, который создал мир из ничего и ведет его к себе, и он поет гимн миру, как и Дж. Бруно, усмотревший в мире самораскрывающегося бога. И тот, и другой понимают добро как факт и бытие и не поняли творческо-субъективной сущности. Именно потому они должны уступить свое место – а во многих своих элементах, может быть, и слиться воедино – иной точке зрения, утверждающей, что мир и человек, как на это указал Кант[219]219
I. Kant. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. S. 3.
[Закрыть], ни добр, ни зол или и то, и другое, но он может стать тем или иным; и вот в зависимости от того, какую роль может и будет играть человек в этом творческом созидании положительной, ценной действительности, и решается вопрос о смысле жизни. Объективные пессимизм и оптимизм оказались не только бессильны решить проблему смысла жизни, но они подорвали в корне главное условие удачного решения – самую сущность личности. Их теории не для жизни и удовлетворить личности не могут.
V. ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ В ФИЛОСОФИИ КРИТИЦИЗМА (КАНТ)[220]220
Данная глава представляет собой переработанный вариант статьи: Проблема смысла жизни в философии Канта // Вопросы философии и психологии. 1916. № 4. С. 252 – 270 (Прим. ред.).
[Закрыть]
Хотя Кант, как это показывают его работы, не посвятил вопросу о смысле жизни отдельного исследования, тем не менее желание установить в общих чертах, как решается этот вопрос на почве его миросозерцания, не является насилием над ним, тем более что эта проблема должна привлекать взоры не только каждого философа, но и каждого человека. Кроме того, мы находим в собственных изречениях Канта мысли, подкрепляющие возможность поставить такой вопрос. Об этом в сущности говорят те четыре вопроса, о которых упоминает Кант в письме к Фр. Штейдлину (4 мая 1793 г) как об основной своей задаче: что я могу знать, что я должен делать, на что я могу надеяться, что представляет собой человек? Если мы вспомним, что «Критика чистого разума» с ее познавательным самоограничением расчистила поле для учения о нравственности и религии, то мы еще больше убедимся в том, что кенигсбергский мудрец не мог оставить без внимания этот вопрос. Кто хочет понять личность, мотивы ее поступков и стремлений и указать ей на идеал, тот, само собой разумеется, приходит в тесное соприкосновение с вопросом о смысле жизни, хотя бы он прямо и не называл его. Как говорит Кант, разуму не безразлично, «что выйдет из наших поступков». И в произведениях Канта действительно нет недостатка в изречениях, характеризующих его взгляд на жизнь и на вопрос о ее смысле.
Как раз в данном вопросе, где естественно ставится вопрос о ценности земной жизни человека, необходимо вспомнить о том учении, в атмосфере которого вырастал Кант, впитывая в себя его дух, и которое заняло резкую позицию в оценке земной жизни. Как известно, он вырастал в атмосфере ярко пиэтического настроения, безраздельно господствовавшего в семье Канта. Как говорит Форлендер[221]221
I. Kant. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Vorwort. S. VI.
[Закрыть], «вся атмосфера жизни семьи этого простого ремесленника дышала строгой чистотой нравов, честностью, терпимостью и подлинной набожностью». Пиэтизм давал своеобразное сочетание очень мрачного взгляда на человеческую природу и земную жизнь с непреклонной верой во всемогущего бога и победу добра. Сам Кант рассказывал своему ученику Яхману об огромном влиянии на него его матери. Тот же пиэтизм царил в гимназии, в которой учился Кант, в которой руководителем был друг и духовник его семьи, проповедник и профессор Шульц. В университете Кант также не остался без влияния пиэтизма; пиэтистом был, например, один из его учителей, Кнутцен[222]222
Ibid. S. VIII.
[Закрыть]. И хотя он отклонил карьеру проповедника и набожность пиэтистов награждает презрительным эпитетом «Frömmelei»[223]223
Ханжество (Прим. ред.).
[Закрыть], тем не менее огромная доля влияния пиэтизма осталась у него на всю жизнь.
Это ярко сказалось у Канта в его отношении к земной жизни человека. Уже основные черты его «Критики…» недвусмысленно говорят, что эта жизнь рисовалась кенигсбергскому мыслителю далеко не в розовом духе. Душа человека представлялась ему отражением глубокого коренного разлада; на нем построена вся его как теоретическая, так в особенности вся практическая философия; разум и чувственность – два вечных антагониста – вошли как составные элементы в человеческую душу и живут в вечной непрерывной борьбе друг с другом, часто затихающей только в праздничные моменты эстетических созерцаний. Чем строже и ригористичнее требование Канта к человеку, тем ярче выступает пиэтическое недоверие к его земной природе. Переход к идеальным требованиям, к мысли о великом конечном назначении человека делается в такой форме, что она не оставляет никаких сомнений в слабости и коренной отягощенности человека как земного существа. Подчеркивая широту и власть чувственных, земных стремлений человека, Кант в «Критике практического разума»[224]224
I. Kant. Kritik der praktischen Vernunft. S. 61.
[Закрыть] произносит знаменательную фразу: «Человек – существо полное потребностей, но все-таки он не совсем уж животное…»
Все эти животно-земные элементы образуют мощный противовес против всех влияний долга. В общем итоге у человека, предоставленного самому себе, много шансов остаться в цепях этой земной власти.
И земная жизнь рисуется Канту в соответствующих красках. О самодовлении ее у него, конечно, не может быть и речи. Не трудно понять, что искать смысла в ней как таковой было бы большим, роковым заблуждением. Положительный ответ – если он возможен – может получиться только на почве установления связи личности с неземными целями и помыслами. Если бы человек оставался просто человеком, не становился бы личностью, т. е. если бы он оказался бесповоротно замкнутым в мире явлений без всякого просвета в иной мир, то жизнь его была бы лишена всякого самостоятельного смысла и ценности. В этом отношении очень интересно то, что писал Кант в «Мыслях по поводу смерти господина фон-Функа»[225]225
/. Kant. Populäre Schriften.
[Закрыть]. Возможно, что некоторое сгущение красок в этом рассуждении объясняется стремлением утешить мать, оплакивающую раннюю кончину своего сына, – рассуждение это и начинается обращением к г-же фон-Функ, но существо его взглядов остается неизменным и дальше. Кант здесь энергично подчеркивает, что у земной жизни нет самодовлеющего характера. Каждый человек, поглощенный видом и интересами земной жизни, говорит он, рисует путь своей жизни, строит планы, но на самом деле истинная судьба человека резко отличается от той, какою он представляет ее себе: наши ожидания оказываются на каждом шагу обманутыми. Взамен разбитых мечтаний мы строим новые, но и их судьба оказывается не лучше первых. И так продолжается эта жалкая игра до тех пор, пока не явится смерть, сбросит покрывало с жизни, обнаружит, что это были только призраки, и навсегда положит предел нашим пустым мечтаниям. Часто богатство и брак, обещавшие великое счастье, рушатся невероятно быстро, в то время как «нищета и горе ткут длинную нить в платье парок, и многие, по-видимому, живут на муку себе и другим»[226]226
Ibid. S. 54 – 55.
[Закрыть].
Конечно, на этом Кант не остановился, но здешняя жизнь оказывается окончательно осужденной самое большее на служебную роль. Смысл ее не в ней и, конечно, не в том, что она дает и может дать. Кант энергично и решительно выступает против гедонизма. Он не стремился, правда, к полному уничтожению «естественных склонностей», а требует только их обуздания[227]227
I. Kant. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. S. 69 (C. 62. Русск. изд.).
[Закрыть]. Для него «пуризм циника и умерщвление плоти анахоретом без благ общественной жизни – это искаженные образы добродетели, не способные привлекать к ней, покинутые грациями, они не могут претендовать на гуманность»[228]228
/. Kant. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. S. 202.
[Закрыть]. Потребность в счастье признается им за необходимую потребность всякого разумного, но конечного существа; эта потребность неизбежно выступает в роли фактора, определяющего его желания и стремления[229]229
I. Kant. Kritik der praktischen Vernunft. S. 25. Прим. II.
[Закрыть], но все это далеко от обоснования смысла жизни. Определив счастье как состояние, получающееся в итоге того, что все в жизни разумного существа совершается соответственно его желанию и воле[230]230
Ibid. S. 124.
[Закрыть], Кант отвергает его как цель, потому что оно направляет нашу деятельность на внешнее, делает нашу волю гетерономной и порабощает человека. Кант везде пользуется случаем подчеркнуть нравственно опасный характер стремления к счастью как самодовлеющей цели. Те, чей «культивированный разум» усматривает цель жизни в наслаждении ею, в счастье, идут, по его мнению, прямым путем к мизологии, т. е. ненависти к разуму; чем больше люди усматривают цель жизни в наслаждении, тем дальше уходят они от возможности истинного удовлетворения. Ценность этой жизни только в том, что мы таким путем открываем возможность иного, более достойного существования. Если бы целью жизни было счастье, то лучше было бы выбрать в руководители природный инстинкт, а не разум. Было бы большой несправедливостью по отношению к Канту объявить его абсолютным пессимистом. Как мы увидим дальше, он спасается от безнадежности своей верой в бога и умопостигаемый характер человека. Но пессимистические нотки никогда не покидают его, раз речь идет о земной жизни. Как указывает Оманн в своем предисловии к письмам Канта[231]231
I. Kant. Briefe. S. XIX.
[Закрыть], последний говорил, что он ни за что не хотел бы прожить свою жизнь еще раз. И нужно признать, что эта фраза в устах Канта, поскольку можно судить по его произведениям, не является случайной или возможным продуктом горькой минуты. Она естественна потому уже, что душа человека носит по его учению в самой себе возможность своей духовной жизни, но вместе и возможность своей моральной смерти, причем поскольку речь идет о собственных силах человека, последний фактор оказывается чрезвычайно сильным. Действительная мощь человека представляется Канту очень ограниченной.
В самом деле. Там, где у Канта берет верх безусловный оптимизм, вера в окончательную победу добра, в идею вечного мира и т. д., там всегда этот оптимизм основывается на постулированной вере в бога или же на объективном ходе развития жизни. Так, в «Мыслях по поводу всеобщей истории»[232]232
I. Kant. Populäre Schriften. S. 211.
[Закрыть], написанных в 1784 г., т. е. вскоре после появления «Критики чистого разума» и «Пролегомен», он говорит о том, что природа принуждает человека стремиться к осуществлению величайшей задачи человеческого рода, к достижению гражданского общества, построенного на всеобщем праве. Впечатление, что объективный ход жизни и природы выявляет с помощью человека что-то свое, особое, высшее, – мысль, которую позже Гегель поставил во всей ее полноте, встречается у Канта, возвеличившего свободу человека, неоднократно. Еще больший аромат будущей гегелевской философии чувствуется в словах Канта несколькими страницами дальше[233]233
Ibid. S. 218.
[Закрыть], где он говорит: «На историю человеческого рода можно смотреть как на свершение в большом масштабе скрытого плана природы»… Пусть даже все это предназначено для полного развития задатков, заложенных в человечестве, но здесь все-таки как бы расчищается почва для утверждения Гегеля, что отдельные индивиды таскают каштаны из огня для объективного духа. Аналогичную мысль он высказал в ясной и определенной форме в «Мыслях по поводу смерти господина фон-Функа» (1760 г.), где он говорит о неведомом нам предопределении или нашем жребии в истинной действительности в отличие от этого земного мира, полного противоречия и, в сущности, являющегося только призраком.
По основному учению Канта вопрос о моральной судьбе человека решается в том, каким человек сделает себя сам. Он требует от него революционного перелома в его настроении и образе мыслей и считает этот факт, может быть, необъяснимым, но все-таки возможным путем свободы. Но он никогда не забывает о чувственности, об этом «радикальном зле», заложенном в натуре человека, потому что это зло портит основу всех максим. Этим объясняется то, что Кант фактически далек от мысли полагать на собственные силы человека чересчур большие надежды. «Из столь кривого дерева, из которого сделан человек, – говорит он[234]234
Ibid. S. 213.
[Закрыть], – нельзя построить ничего вполне прямого. Только приближение к этой идее возложено на нас природой».