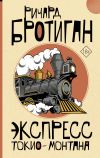Читать книгу "Кран-Монтана"

Автор книги: Моника Саболо
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
4
Мы не любили итальянцев. Они были заносчивы, носили рубашки из египетского хлопка и всюду ходили толпой. Они были невыносимо элегантные, утонченные, как будто случайно. Казалось, они плюют на все – всклокоченные волосы, измятые брюки, – но ничто не могло поколебать их облика. Они носили плетеные браслеты из слоновой кожи, что казалось нам смешным, и тратились, не считая, как будто деньги не имели значения. «Они так вульгарны», – повторял Макс Молланже, презрительно шмыгая носом, но было очевидно, что Макс Молланже, похожий на состарившегося мальчика в своих жаккардовых свитерах и роговых очках, только и мечтает носить кожаный браслет и мятую рубашку. В «Четырехстах ударах», где миланцы были завсегдатаями, он постоянно вертел головой, следя за каждым их движением, наблюдал, как они танцуют, небрежно, нелепо, как курят без меры – они держали свои сигареты в плоских портсигарах, точно девушки, – и выглядел таким растерянным, таким возмущенным, что нам было больно на него смотреть. Мы его никогда особо не жаловали. Но нездоровая тяга этого человека к итальянцам окончательно убедила нас, что он ничтожество.
На самом деле Макс Молланже выражал, только раскованно – непристойно, невыносимо, – то, что чувствовали мы все в глубине души: жестокую зависть, накладывающуюся на дурноту от нашей слабости. В Париже, на вечеринках, в спортивных клубах, в кафе это нам завидовали, на нас смотрели, нас даже порой боялись. Мы ходили по коридорам наших дорогих школ, посмеиваясь, и выбирали себе собеседников, давно пресытившись любым выбором. Учителя, обращаясь к нам, не злоупотребляли своим положением. Прислуга, которая жила в комнатушках над нашими квартирами в триста квадратных метров, называла нас «месье». Нам прислуживали за столом. Мы знали, что обладаем определенной властью, и, даже если ночью, в постели, нам хотелось плакать – мы сами не понимали почему – или бить кулаком в стены, а ярость, смешанная с ощущением падения, жгла желудок, мы все равно были в безопасности. Но с итальянцами мы ступали на зыбкую почву. В их мире нас не существовало. Они даже не делали усилий, чтобы говорить по-французски. Они вообще не делали усилий. Жизнь скользила по их коже, как прохладная вода ручья. Когда мы узнали, что Луиджи Лоренци, высокий блондин, которого часто видели в Клубе, в дымчатых очках и с дерзкой улыбкой, как магнит притягивавшей наших сестер, выбросился из окна ноябрьским вечером, с восьмого этажа их семейного миланского дома, мы были ошеломлены. Говорили, что он принял столько наркотиков, что просто нырнул, опьяненный осенним теплом, сказав что-то о том, как прекрасна ночь. В это трудно было поверить: на Рождество итальянцы были тут как тут, такие же яркие и беззаботные, как всегда, и, если не считать отсутствия Луиджи Лоренци, не было никакого отличия от предыдущих лет. Девушки пытались что-то выведать, робко приближаясь к столику, за которым обычно сидели миланцы, но даже не могли закончить фраз, цепенея от наглых взглядов, вдруг обращенных к ним, от небрежных «Ciao ragazze»[2]2
Привет, девочки (ит.).
[Закрыть], тотчас превращавших их в зардевшихся статисток. Виктория Абар де Мужен, знаменитая тем, что переспала с Эдди Константином, попыталась заговорить у мужского туалета с сумрачным брюнетом из Бергамо, но тот сделал знак, что не слышит, похлопав себя по уху, и скрылся в дымной ночи. Позже она утверждала, что он поцеловал ее однажды вечером на улице у кинотеатра и потом преследовал, названивая каждый день, но в ее присутствии он казался равнодушным: не встречался с ней взглядом или же рассеянно, будто бы рефлекторно, посматривал на ее попку.
Франко Росетти итальянцы считали своим. Они были явно рады его видеть, когда он входил в Клуб в своей старой футболке и джинсах в обтяжку, с запавшими от усталости глазами. Заметив их, он здоровался типичным своим подмигиванием – в точности как с нами, – а они вставали при его появлении, как перед гостем, требующим особого уважения. Они хлопали его по спине, шутили по-итальянски, а Франко смеялся от души, не выказывая ни малейшей нервозности или гордыни. Однажды мы растерялись, поняв, что Франко говорит по-итальянски, не раскатывая «р», как самые большие снобы из миланцев. Даже Роберто Алацраки, единственный итальяшка, которого мы допустили в свою компанию, наверно, потому что он жил в Триполи и страдал лишним весом, этого не умел. Но Франко никогда не садился за их столик. Он садился с нами, и мы испытывали облегчение и ярость одновременно.
Франко поддерживал что-то вроде тайной дружбы с Джованни Маджоре, братом Клаудии. Он об этом не говорил, но и не скрывал намеренно, просто это не казалось ему важнее всего остального. Нам сообщил об этой таинственной связи Даниэль Видаль, он обнаружил ее, читая дневник своей сестры Анук, спрятанный в ящике с колготками. Он тогда объяснил нам, что завел привычку его читать, чтобы попытаться «понять, что у девчонок в голове». «Я не знаю, это моя сестрица двинутая или с приветом, или, может, они все такие, честно, жуть берет». Анук, по его словам, писала стихи, в которых шла речь как о китах и белочках, так и об «асфиксии души» и «любви, высасывающей кровь». Еще она практиковала автоинтервью («Какой твой любимый цвет, Анук? Как ты определила бы свой стиль? По-твоему, мальчики находит тебя красивой?» – на последний вопрос она ответила красной ручкой и большими буквами: «Мой нос – мой крест»). Но больше всего поразили Даниэля целые страницы, посвященные Джованни (иногда даже просто его имя, написанное бесконечное число раз, как заклинание вуду), и подробное описание всех их встреч (как правило, мимолетных: «Он улыбнулся мне у фуникулера, даже Анна это заметила»).
Между страницами была заложена профессиональная фотография («Фотограф Баррас» – напечатано вдоль белой рамки), черно-белый снимок, сделанный на вершине горы, Джованни и Франко (Франко катался на лыжах? Но как? Когда?) обнимают друг друга за плечи, Джованни победоносно поднял вверх лыжную палку, у Франко свитер завязан на талии. Они улыбались, и их темные силуэты, невероятно сексуальные, четко вырисовывались на фоне Маттерхорна, а снег, отражавший свет и залепивший их лыжные ботинки и штанины, почти фосфоресцировал. Казалось, им принадлежит весь мир. Даниэль Видаль ощутил боль в груди, как будто его ударили. Он тогда, сказал он нам, швырнул свои часы о стену, а это кое-что значило, его «Ролекс» был в ту пору самой большой его любовью, он, кстати, носил его всю жизнь, как печальную реликвию того времени, когда ему еще хотелось верить в притягательную силу аксессуаров.
Франко рассмеялся, когда Даниэль потребовал у него отчета однажды вечером в Клубе, нейтральным, как ему самому казалось, голосом, но нам стало не по себе. Даниэля Видаля иной раз заносило. Он любил бросать петарды под ноги парочкам, танцевавшим медляк в «Спортинге» в 5 часов, что выводило нас из себя. Мы прощали Даниэлю эти заносы, они позволяли нам разбить что-то в себе – нашу стыдливость, послушание, трусость? Пьяный, с побагровевшей шеей и блестящими от пота волосами, Даниэль нагнулся к Франко и выпалил с какой-то горечью: «Ты теперь катаешься на лыжах?»
Ни один из нас в тот вечер, а было нас как минимум шестеро или даже семеро за этим столом, прислушивающихся к разговору, который норовил выйти из колеи, не произнес ни словечка. Даниэль Видаль держался очень прямо, глаза блестели, и внезапно он стал похож на наших отцов. Патрик Сенсер осушил стакан виски, а Серж Шубовска встал из-за стола, поправляя галстук-бабочку, и ушел, забыв в гардеробе свой дафлкот.
Франко улыбался деликатно, даже не насмешливо, как будто не понимал. Много лет спустя Даниэль Видаль пересказал нам эту сцену не один раз – он забыл, что мы были там. Он рассказывал, что Франко встал, обнял его одной рукой за талию и прошептал в самое ухо: «Я тебя люблю, Даниэль».
Вот так Джованни Маджоре вошел в нашу жизнь до своей сестры Клаудии, о существовании которой мы тогда не знали, – как можно представить сегодня такой изврат? Кем мы были тогда, если не жалкими слепыми животными?
Франко заявил, что видится с Джованни Маджоре время от времени, мол, «за ним надо присматривать», и это было все, и никто не задавал вопросов, даже Серж Шубовска. Франко закурил сигарету, и мы устыдились, проникшись элегантностью человека, который имеет секреты и умеет их хранить. Так было и с девочками, которые за ним бегали (а их было много, они совали смятые записки в карман его анорака, приходили в лавку, выкладывали на прилавок свои груди, наклонившись вперед и накручивая на пальцы волосы). Но он никогда не хвастался. Зимой 67-го Надин Шомьен, самая шикарная и классная девочка в лицее Жансон-де-Сайи, приехала на каникулы в Кран-Монтану, вызвав осязаемое смятение в рядах парижан, настоящий ажиотаж. Она клеилась к Франко, он рассказал нам об этом много лет спустя, да и то просто обмолвился в разговоре, как будто это не имело никакого значения. Она сделала нечто безумное, дерзкое, невероятное – пригласила его пойти с ней в кино на «Ночь игуаны» (или «Мою прекрасную леди», говорил кто-то из наших сестер, но как бы то ни было, он отказался – тут все свидетели сходились, – извинившись, слишком много работы, высокий сезон).
В ту зиму мы стали наблюдать за Джованни Маджоре (за ним надо присматривать, эта загадочная фраза продолжала звучать, мы не могли от нее отделаться). Пусть даже никто из нас никогда не заговаривал с ним, он стал отныне частью нашей жизни, по крайней мере, воображаемой. Когда он входил в «Спортинг» или в блинную, нас пробирал озноб, и мы понимающе переглядывались, подобравшись, словно хотели скрыть наше присутствие, но Джованни Маджоре не обращал на нас никакого внимания. Такова была жестокая реальность: он даже не то чтобы игнорировал нас или презирал. Он попросту нас не видел.
Он был невероятно красив с его зачесанными набок волосами, миндалевидными глазами, зелеными, как у матери, и пухлым ртом. От него шибало смесью хорошего воспитания и сексуальной развязности. Он часто был окружен девушками, хорошо одетыми миланками, этакими паиньками в кроличьих курточках, они, как поклонницы за звездой, семенили за ним, стараясь попадать в ритм его широких свободных шагов, и смеялись его шуткам, блестя глазами от удовольствия. С виду он радовался жизни почти по-ребячески и, даже когда бывал один в баре «Спортинг», где заказывал мартини с водкой («Как Джеймс Бонд», – заметил Серж Шубовска с долей уважения), казалось, веселился. Даже Андреас, бармен из Цюриха, который никогда ни с кем не разговаривал, жонглируя с сосредоточенным лицом своими шейкерами – «мрак», говорил Роберто Алацраки, – не мог удержаться от улыбки и приостанавливался, когда Джованни подбрасывал вверх оливки изящным, точным движением, чтобы поймать их ртом.
Но мы очень скоро забыли фразу Франко. Да и произносил ли он ее? Нас тоже иной раз заносило не туда, головы были так забиты. Уроки лыж, партии в боулинг, наши матери принимали родню, наши отцы участвовали в турнирах по керлингу (некоторые носили вязаные береты, что поражало нас до глубины души), а эта теплая зима, ослепительное солнце над Альпами, прозрачное озеро, отражавшее свет, как на романтической открытке, окончательно погружали нас в обманчивый зыбкий туман, будто чистота неба отражала покой нашей жизни.
5
В год, когда Маджоре не приехали в Кран (ни на Рождество, ни на Пасху, ни следующим летом), по курорту пошли сплетни, передаваемые в основном нашими матерями. Голубые ставни их маленького шале в Монтане, на поляне, усеянной маргаритками, оставались закрытыми. За лето кусты обрели угрожающий вид, цепляясь когтями за фасад, там и сям взъерошенными гейзерами пробивались сорняки. Кристиан Гранж, чья семья снимала трехкомнатную квартиру в доме прямо над шале, утверждал, что слышал подозрительный шум несколько ночей подряд, как будто «кто-то заперт внутри и скребет дверь ногтями». Но Кристиан Гранж был ненадежным собеседником, лицо его дергалось от тика, а руки были покрыты пятнами экземы, с трещинами между пальцами. Мы подозревали, что он принимает тайком таблетки своей матери, скромной женщины, чей муж умер от разрыва аневризмы. Иногда его мать принималась тараторить без умолку, внезапно обращаясь к нашим отцам, тонким голосом, близко, слишком близко к их губам, – наши матери уже не утруждали себя ответами на ее приглашения.
Говорили, что Альберта Маджоре больна, что у нее туберкулез или даже стыдная болезнь, и наши матери качали головами, поджав губы и нехорошо поблескивая глазами, но иногда оказывалось, что это сын Альберты болен гепатитом, и они печалились («Такой красивый мальчик, такой живой!»). Было странно слышать такие разговоры о здоровье и о телесных недугах, которым наши матери уж точно были не подвержены, красивые цветы в фарфоровых вазах, они никогда не простужались, не потели и были сделаны, казалось, из совершенно гигиенического мрамора. Им случалось иной раз прилечь после обеда, согнув ноги под юбкой, аккуратно поставив лодочки на ковер в изножье кровати, идеально симметрично. Они часто уставали, какая-то нервозность исходила от их силуэтов статуй. И хотя у нас почти у всех были домработницы, гувернантки, кухарки (живые существа, и мы любили их за это, хоть никому и в голову не приходило им это сказать), наши матери ходили за ними по пятам, проверяя отмытость стекол, перекладывая диванную подушку, осматривая свой интерьер так, будто он отражал чистоту их душ.
Мы же, со своей стороны, чувствовали себя одетыми животными под нашими высокими воротниками из полиэстера, особенно когда поднималась эта боль внизу живота, кипела кровь во вздувшихся лыжных штанах, и надо было облегчаться, морщась, в ванных комнатах, где красовались вышитые полотенца. Нам приходилось жить с этой дикостью, с этим стыдом, о котором мы никогда не говорили, даже между собой. Странное дело, именно в Кран-Монтане боль была особенно острой, как будто ветер и снег, наэлектризованный, искрящийся, зимой, трава, насколько хватает глаз, запах мокрой природы, ледяные ручьи летом будили спящего в нас зверя, который рос, рос, топорщил густую шерсть, ласковый, опасный.
Мы так и не узнали, был ли Франко Росетти огорчен отсутствием Маджоре и даже заметил ли он его вообще. Но он рассказал нам, как они вернулись в следующем году – в 1967-м или, может быть, в 1968-м, – в подсобке, голосом, показавшимся нам более хриплым, чем обычно (Патрик Сенсер говорил, что и руки у него дрожали, «как будто он замерз»).
В рождественские каникулы на главной улице, когда он осторожно шел по заснеженному тротуару, неся две тяжелых сумки с продуктами, Франко нос к носу столкнулся с Джованни Маджоре, который держал под руку девушку с длинными светлыми волосами, светлыми до невероятности. Он помнил, что они смеялись и оба были в меховых шубах – он в темно-коричневой, она в светло-серой, – отчего выглядели эксцентричной парочкой, ни дать ни взять кинозвезды, подновившие свой гардероб к северным широтам, например, для рекламного турне по Аляске. Джованни обнял Франко со своей очаровательной непринужденностью, будто и не прошло время, будто не видели лисиц в колючих зарослях перед их шале.
Франко не удавалось сосредоточить свое внимание, слова не доходили до него. Была девушка, ее длинные светлые волосы, скрепленные большой заколкой и рассыпавшиеся из-под нее, точно световая завеса. Ему показалось, что земля уходит из-под ног, будто он пытается удержать равновесие на замерзшем пруду, лед на котором грозит вот-вот треснуть.
«Ты помнишь мою сестру Клаудию?» – спросил Джованни, а она между тем встряхивала волосами – эти волосы! Я никогда в жизни такого не видел! Они будто светятся изнутри! Франко кривил рот, словно заново переживая эту сцену, которая запечатлелась в нем, как фильм с кинопроектора на натянутой простыне. Серж Шубовска тоже мучительно морщился, наверно, потому что он был ближе всех с Франко, и от чувствительности ему становилось не по себе.
Клаудия рассмеялась, поняв, что Франко не узнал ее, и, возможно, почувствовав его смятение. («Она смеялась, боже мой, ей смешно», – говорил он с подчеркнутым швейцарским акцентом.) Она посмотрела на него снизу вверх, воспитанная, кокетливая, и, кроме серых теней под ее подведенными черным глазами, ничто, абсолютно ничто не напоминало о грустном ребенке из его воспоминаний. Это было как в плохом фильме, где заменили главную актрису, маленький призрак канул в нети, гонимый ветром, рассыпался на хлопья, а вместо него явилась эта ошеломительная красавица, наверняка с червоточинкой.
У Франко был потрясенный вид, что выбивало из колеи, его футболка казалась мокрой от пота, как будто тело вдруг стало испускать мощнейшее магнитное поле, а глаза смотрели куда-то поверх нас. Наверно, Патрик Сенсер похлопал Франко по спине, а Даниэль Видаль закурил сигарету, держа ее большим и указательным пальцами, он вроде думал, что так выглядит опасным. Наверно, Серж Шубовска разгладил свою рубашку или распустил галстук, словно ему не хватало воздуха, а Роберто Алацраки шмыгнул носом, новый его нос казался слишком узким, чтобы подавать в легкие достаточно кислорода. Мы были пришиблены и злились. В этом прохладном помещении, таком уютном со всей этой едой, при виде которой казалось, что можно пережить любой катаклизм, мы чувствовали себя преданными.
Что с ней произошло? Что она делала все это время, когда исчезла, время, которого мы не заметили, ведь наши жизни сочились по капле, как вода из подтекающего крана?
Судя по всему, она жила. С ней произошло нечто, нечто невыносимое, что повлекло ошеломительное ускорение ее роста, – ее ноги, груди, бедра, волосы! Казалось, будто мы уснули, нас окутало пагубное оцепенение. И за это время природа взяла свое и выдала миру женственность, мощную, влажную, от лучей которой запотевало все вокруг, как в аквариуме.
И вот так открылась эра трех К.
6
После встречи Франко Росетти с новой Клаудией и ее невероятными волосами, поблескивающими, как неон в ночи, три К стали появляться где угодно и в любое время. На лыжных трассах, на улице, на катке. В блинной, в булочной, в боулинге. В бассейне, в «Спортинге», в Клубе, в «Четырехстах ударах». Всегда втроем, одетые примерно одинаково, как будто их наряды синхронизировались с происходящим, и все это казалось спланированным, неукоснительно и в то же время естественно, что окончательно кружило нам головы.
Они были потрясающие все три. Клаудия с ее светлыми волосами и меланхоличными глазами, всегда подведенными черным, в мини-шортиках. Крис, темноволосая, кудрявая, с прелестным лицом, со вздернутым носиком и взрывами смеха, восторженного, вызывающего, как будто вся жизнь – шутка. Карли с ее флегматичностью, с длинными черными волосами – таких длинных мы никогда не видели, – которые колыхались на ее бедрах, как шелковый занавес, с птичьей грудкой и в мальчиковых брючках.
Они появлялись, и небо становилось стальным, воздух – жгучим, снег отражал слепящий свет. Все было донельзя четким: линия горизонта; заснеженные вершины; светящиеся луга. Стихии поглощали нас и оживали, как рыбы в озерных глубинах.
Мы сидели на подъемнике, и вдруг девушки проносились внизу, маленькие серые и черные фигурки. Лыжами они владели неважно, скатывались по трассам, смеясь, плугом, взметая снег, размахивая палками, и неловкость ничуть не убавляла их шика. Одна непременно носила шапку из шелковистого меха – мы мечтали его погладить, он казался мягким, как живот котенка, – или красные перчатки, или полосатый шарф всех цветов радуги. Они одинаково причесывались: косы, конские хвосты, как сестры или одноклассницы, а то распускали волосы, которые бились по плечам в ритме поворотов – чтобы помучить нас?
Весной мы проходили мимо поля для гольфа, и они были там. Крис запускала мячи куда попало, подпрыгивая, Клаудия и Карли, в клетчатых брючках и теннисках ярких расцветок, шли следом, волоча тележку. Карли глядела мечтательно, с ее посадкой головы и волосами восточной принцессы, а Клаудия курила сигареты у лунки, широкими чувственными жестами. Они и не играли толком, то и дело останавливаясь, как будто им не терпелось рассказать друг другу умопомрачительные вещи, и нам было видно издалека, как мельтешат их руки.
Лето было, наверно, самым мучительным сезоном. Мы встречали девушек в шортах и горных ботинках, с рюкзаками, а Карли с гитарой наперевес, с красными, как яблочки, щеками, на походных тропах. Мы терпеть не могли пикников на высоте – особенно Серж Шубовска, который отказывался вылезать из своих кожаных ботинок на шнурках, – но приходилось рано или поздно следовать за нашими отцами в горы, за отцами, одетыми просто неприлично, в бермудах, в длинных носках, закрывавших безволосые икры. Они походили на отряд старых мальчиков, хоть и пили джин и заканчивали день, как правило, пьяными, обмениваясь сомнительными шутками. Надо было смеяться их шуткам, как будто речь шла о ритуале инициации, призванном сделать из нас мужчин, а у нас на уме была лишь возможность встретить трех К, мы думали об их упругой коже и о своей, до смешного бледной. Пока наши матери отдыхали на горных террасах, лежа в шезлонгах и пряча глаза за огромными солнечными очками, как на палубе лайнера, мы тащились за отцами, пришибленные, тревожно поглядывая вдаль.
Мы видели их, разумеется, в бассейне: и Клаудию, чья молочная кожа розовела, открывая созвездие веснушек, и Карли – всегда в одном и том же купальнике с африканскими мотивами, – чьи руки и ляжки были покрыты волнующим пушком, а Крис – черный цельный купальник с завязками на шее – выстреливала из воды, подтягиваясь на руках. Крис с прилизанными волосами и алыми губками. Наши сестры уверяли, что три К выписывают водостойкую помаду из Калифорнии, – эта информация сообщалась нам со смесью презрения и зависти.
Они садились на влажную траву, расстелив индийские ткани – даже ткани у них были невероятные, никто из нас никогда таких не видел, – пили фанту из бутылки через соломинку, и их тела ослепительно ярко вырисовывались в летней синеве. Карли играла на гитаре, прижав ее к голому телу, – эта гитара, такая широкая на ее торсе, едва прикрытом двумя крошечными треугольниками ткани, казалась нам непристойной, – Крис прохаживалась по газону, выгнув спину, очень медленно, гладила траву пальцами ног, будто вдруг увидев божью коровку или клевер с четырьмя листочками, а Клаудия, разлегшись в шезлонге, играла брелоками на своей длинной золотой цепочке – глаз, череп, медальон с надписью ti amo[3]3
Люблю тебя (ит.).
[Закрыть], – они искрились на солнце и отбрасывали блики, и приходилось жмуриться или отводить глаза и думать о другом, чтобы сохранить достоинство в наших плавках и вынести ожог сетчатки.
Само собой, иногда мы пересекались. Самые смелые из нас – как Патрик Сенсер в своих узеньких плавках, облегающих на диво маленькое хозяйство, но, может быть, это потому, что он без конца дрался, или Даниэль Видаль, которому надо было «поддерживать репутацию» – подходили к квадрату индийской ткани, этому райскому острову, плывшему в растительном море, и, стоя, уперев руки в бока, обращались к трем К, чтобы одолжить у них зажигалку или просто спросить, «все ли хорошо?». Мы наблюдали за сценой издалека, закуривая сигарету как ни в чем не бывало, прячась за рейбэновскими очками, не дышали, стискивали зубы, хрустели пальцами, машинально выдергивали траву под рукой – надо было что-то делать, чтобы вынести медлительность мгновения, этот подход, которому, казалось, не будет конца, когда один из нас готовился перейти на другую сторону, прорвать завесу, отделяющую нас от реальности – или, может быть, от грезы? – во всяком случае, покинуть одно измерение, чтобы попасть в другое.
Они шли – Даниэль проводя рукой по волосам, чтобы отбросить их назад, Патрик, сжав кулаки, как перед боем, – и все три поднимали глаза, вытягивали шеи, жуя соломинку, хлопая ресницами, приставив руку козырьком к глазам от солнца, прелестные, улыбающиеся, полуголые.
Но никогда ничего не происходило. Ровным счетом ничего.
Когда они, подмигивая нам, уверенным шагом возвращались к нашей группе, время на миг зависало, подобно апострофу над затаившей дыхание строкой. Внезапно под этим огромным небом, напоминавшем о жажде или о бездне, мы могли поверить, что наши жизни наконец начнутся. А потом парни садились по-турецки, поднимали на лоб солнечные очки и увязали в путаном отчете, из которого не проистекало никакой значимой информации и еще меньше обещания – казалось, их мозги пришибла августовская жара, они были словно пьяные, потерянные, или злые чары помутили их рассудок. Макс Молланже говорил, что им все пофиг, и трепетал от недоброй радости в своей футболке, которую не снимал, даже когда купался, защищая свою чувствительную кожу, и топтал свои шлепанцы «Гуччи», которые были ему малы, – подарок на пятнадцатилетие, он ими ужасно гордился и выглядел в них женоподобным тренером по плаванию.
В те дни, в бассейне, Крис брала с собой транзистор, Клаудия прибавляла звук, когда передавали итальянские песни, и нам это казалось посланием, тайным зовом, витавшим в воздухе, в то время как их глаза, скрытые за темными очками, возможно, смотрели на нас. Спустя годы, однажды вечером в «Харчевне Королевы» Роберто Алацраки вдруг встал, бросив салфетку на стол, и запел странным тонким голосом, со стаканом арманьяка в руке, Non ho l’età, шлягер той поры в исполнении Джильолы Чинкветти, брюнетки с конским хвостиком, которая выиграла «Евровидение-64» и немного походила на Карли. Девушки выбирали эту песню в музыкальном автомате в «Спортинге» по несколько раз подряд, они качали головами в такт, сидя на банкетке плечом к плечу, и шептали слова.
Non ho l’età, non ho l’età per amarti,
Non ho l’età per uscire sola con te,
se tu vorrai,
Se tu vorrai, aspettarmi.
Quel giorno avrai, tutto il mio amore per te,
Lascia chi о viva un amore romantic,
Nell’attesa che venga quell giorno, ma ora no.[4]4
Я еще не дорос, не дорос, чтобы любить тебя.Я еще не дорос, чтобы выходить с тобой наедине.Если бы ты захотела,Если бы ты захотела подождать меня,Однажды бы наступил день, когда вся моя любовь была бы для тебя.Дай мне жить романтической любовьюВ ожидании, когда наступит тот день, но не сейчас. (ит.)
[Закрыть]
Им не было все пофиг. Они образовали единое целое, гибкое и полное, в которое тщетно было надеяться проникнуть, словно эластичный пузырь. Когда мы встречали их вечером в «Четырехстах ударах» или в Клубе, они снова преображались, щеголяя в необычайных нарядах: Крис в платье с пайетками, Клаудия с глазами чернее обычного, точно белокурая Клеопатра, а Карли в мужской рубашке, волосы убраны в замысловатый шиньон, обвивавшийся вокруг головы, как мурена. Они держались своей компанией, а если иногда кто-то из нас подходил к барной стойке, за которой они сидели, и предлагал их угостить, они улыбались, тараща глаза, и мы, сами не зная, что делаем, заказывали кампари с апельсиновым соком, жестом подзывая бармена – Андреас флегматично смотрел на нас, и его презрение было прямо-таки осязаемым, как подрагивание его верхней губы, – но когда мы поворачивались, их уже не было, они или рассекали толпу, держась за руки, или танцевали на танцполе.
Но иногда бывали знаки. Однажды февральским вечером Патрик Сенсер, выходя из «Спортинга», где проиграл триста швейцарских франков в боулинг – а на улице было темно и кружил снег, – встретил Клаудию под ручку с двумя итальянцами (ему показалось, что он узнал Джованни, но снег застил глаза, видение было мимолетным, и накатила необъяснимая паника, так что утверждать это нам он не брался). Когда Патрик поднимал воротник своего пальто, Клаудия улыбнулась ему: Buona notte[5]5
Добрый вечер (ит.).
[Закрыть].
«И она посмотрела мне прямо в глаза, знаете, такой взгляд. Такой взгляд, как когда девушки хотят вам что-то сказать…» Мы не были уверены, что знаем, и предпочитали думать, что он все сочинил. Мы ревновали, мы воображали сцену как нордическую феерию, клубящийся снег, темнота, как плащ, и Нотт, северная богиня ночи, передавшая ему послание, ему, Патрику Сенсеру, любившему мочиться в банки из-под пива.
В другой раз Эдуард де Монтень подобрал рукавичку, выпавшую из кармана Карли на катке, лиловую рукавичку, связанную крючком, малюсенькую, на детскую ручку, и он бежал за ней, неловкий на своих коньках, по резиновому коврику, который вел в раздевалку, – годы спустя мы помнили тошнотворный запах этого коврика, запах шины или бензоколонки. Она взяла рукавичку, удивилась, взглянула на него так, будто никогда раньше не видела, и, не поднимая глаз, сунула ее в карман анорака с этими немыслимыми словами: «Спасибо, Эдуард». Потом она отвернулась и взяла свои сапожки из шкафчика. Эдуард де Монтень, самый из нас романтичный, во всем видел знамения, вероятно, потому что жил в полном отрыве от материальной жизни и был убежден, что эта перчатка явилась знаком беды или призывом о помощи и что однажды ему снова придется подобрать какой-то аксессуар, другую рукавичку, тюбик увлажняющей помады для губ, вышитый платочек, и на сей раз это он назовет ее по имени, и жизнь его тогда встанет на место, как расположение звезд. Это так и не произошло, но, по крайней мере, Эдуард де Монтень был окрылен надеждой, он ждал.
У них не было дружков. Они казались самодостаточными, веселыми и невинными, как племя Амазонки. Правда, сестра Шарля Демоля говорила, будто видела, как Крис целовалась с седеющим плейбоем на паркинге «Шетзерона» в июльский день, когда она шла с урока тенниса («Его рука была под ее блузкой, он ее лапал», – утверждала она), но мы знали, что сестра Шарля Демоля лжет. Это была хмурая брюнетка с зубами грызуна, чье имя мы регулярно забывали – Каролина? Селина? Сандрина? – и ее единственным реальным удовольствием было портить репутацию девушек с курорта. Были какие-то слухи, ходившие по деревне, и она пересказывала их снова и снова, уверенно или сокрушенно, покусывая свои тонкие губы и добавляя все больше точных деталей. Ева Куцевич тискалась в машинах у кинотеатра. Марина Куби уехала в Лозанну якобы проведать кузину из Америки, на самом же деле в аптеку Кунста – мадам Кунст славилась своим коммерческим чутьем и диафрагмами, которые она поставляла несовершеннолетним парижанкам, упаковывая их в бумажный пакетик с рассеянной улыбкой, словно пастилки от кашля или зубную пасту «Сигнал».
Кароль Кашен тайно встречалась с Моисеем Беллауи (она была католичкой, и семья Беллауи никогда не одобрила бы подобного романа) и исчезла на несколько дней, уехав в женевскую загородную клинику на аборт, – никто никогда не узнал, ни как они финансировали эту операцию, ни даже как удалось сохранить ее в тайне, знали только, что Кароль Кашен вернулась бледная, похудевшая, потеряв разом круглые щечки и невинность, казалось, какая-то обескровленная, словно светившаяся в ней жизнь осталась там, где-то в стерильной палате, в здании, похожем на противоатомное убежище.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!