Текст книги "Сильные мира сего. Крушение столпов. Свидание в аду"
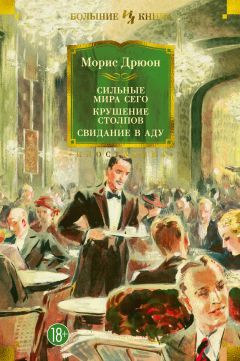
Автор книги: Морис Дрюон
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Маленький человек выдержал пристальный взгляд великана.
– Я вам обязан всем, Ноэль, вам и вашему отцу. Я буду вас поддерживать, пока хватит сил.
И он занял свое место возле балюстрады, обтянутой красным бархатом; биржевые маклеры, одетые в хорошо отутюженные дорогие костюмы, с массивными золотыми цепочками, пущенными по жилету, опирались на эту балюстраду, как на закраину колодца. Альберик Канэ был самым миниатюрным среди своих собратьев; он швырнул наполовину выкуренную сигарету на кучу золотистого песка, высившуюся в центре площадки и ежедневно обновлявшуюся; какой-то биржевой маклер однажды шутя назвал ее «могильным холмом надежд». Затем Канэ посмотрел на стенные часы: большая стрелка уже готова была закрыть маленькую…
Послышался звук гонга.
– Предлагаю Соншельские!.. Предлагаю Соншельские!.. Сколько?
В первые же минуты курс Соншельских акций упал до 1550 франков, а число предлагавшихся к продаже достигло четырех тысяч.
Ноэль Шудлер, стоявший у балюстрады с ее внешней стороны, на целую голову возвышался над биржевыми посредниками и «зайцами», которые шныряли в толпе, размахивая какими-то листками и телеграммами. Время от времени он подзывал через служителя Альберика Канэ, что-то шептал маклеру на ухо или передавал ему записку. Тот испещрял листки блокнота рядами микроскопических цифр, загибал углы печатных карточек, которые сжимал в ладони, рассылал во все стороны своих служащих. Ясно было, что весь персонал его конторы занят выполнением приказов Шудлера.
Самоубийство Франсуа породило смятение, какого не могли бы вызвать одни только враждебные действия Моблана; с улицы Пти-Шан, где помещался банк Шудлеров, поступали зловещие сведения о размерах срочно востребованных вкладов.
Акции банка Шудлеров падали, акции рудников Зоа – тоже. Именно тут развертывалось сейчас генеральное сражение: защищаясь, Ноэль поднимал курс на пятьдесят франков, наблюдал, как он снова падает, и вновь поднимал; он боролся против паники с помощью миллионов. В такой день, как этот, банкир не мог бы, сидя у себя в кабинете, столь гибко руководить борьбой, отдавать каждую минуту нужные распоряжения, маневрировать резервами, использовать все, вплоть до своего импозантного вида.
Между тем курс акций Соншельских сахарных заводов продолжал неумолимо снижаться. То и дело слышались громкие возгласы:
– Предлагаю Соншельские!.. Сколько?.. Восемьсот… Тысячу двести штук… Беру по тысяча четыреста двадцать франков… Беру по тысяча четыреста!.. Сколько?.. Давайте пятьсот штук по тысяча четыреста!.. Соншельские! Сколько? Две тысячи штук… Беру по тысяча триста пятьдесят… Давайте двести штук по тысяча триста пятьдесят!.. Соншельские, предлагаю Соншельские!..
Соншельских акций продавали все больше и больше, а спрос на них неотвратимо сокращался. Цифры на электрическом экране зажигались и гасли. Многие биржевые агенты окончательно сорвали голос и объяснялись лишь жестами.
– Проводи меня к телефонной будке господина Канэ, – обратился Ноэль Шудлер к биржевому «зайцу».
В просторной квадратной комнате, примыкавшей к большому залу, помещалось вдоль стен около сорока одинаковых небольших будок; в них располагались люди разного возраста, и все они, надрываясь, что-то кричали в телефонные трубки; на лбу у них набухали жилы, глаза вылезали из орбит; издали они напоминали насекомых, копошившихся в стеклянных коробочках. Над каждой будкой была прибита медная дощечка с выгравированной фамилией биржевого маклера. Шудлер вошел в будку и в свою очередь превратился в черное насекомое, только значительно большего размера, чем другие, – в насекомое под увеличительным стеклом.
– Гютенбер сорок шесть, запятая, два… Нет, мадемуазель, Гютенбер… Гю-тен-бер… да-да, запятая, два! – кричал банкир.
За стеклянной дверцей будки слышался все тот же оглушительный шум.
– Алло! Это вы, Мюллер? – спросил Шудлер, понижая голос. – Надо тотчас же, немедленно выпустить специальный номер газеты… По какому поводу?.. По какому хотите… Получены свежие телеграммы?.. Беспорядки в Бомбее? Превосходно! А затем не забудьте на первой полосе опубликовать сообщение о смерти моего сына. Мне нечего скрывать. Я хочу оповестить об этом раньше, чем остальные. И первых же разносчиков газет пришлите на биржу. Необходимо, чтобы они были здесь самое большее через час, вы меня слышите: необходимо!
Он взглянул на часы. Окошечки касс на улице Пти-Шан закрылись, как всегда, в половине двенадцатого. Они снова распахнутся в три часа пополудни. Стало быть, через три часа… Мысль Ноэля работала сразу в нескольких направлениях.
Выйдя из будки, он в первую минуту подумал, что теряет сознание: невообразимый шум, царивший в зале, внезапно утих, как-то заглох, почти совсем прекратился. Но нет, это не он, Шудлер, изнемог – изнемогла биржа, и это было куда страшнее.
Почти никто уже не заключал сделок. Ноэлю было знакомо такого рода всеобщее оцепенение, наступающее в дни катастроф, когда биржевики смотрят друг на друга и словно спрашивают себя, что они натворили и каковы будут для каждого из них последствия свершившегося. Биржевой маклер Моблана все еще упрямо твердил:
– Предлагаю Соншельские акции…
Эти акции предлагали все; десятки людей стремились продать их, казалось, они готовы были швырнуть пачки акций за балюстраду, обтянутую бархатом, покрыть ими «могильный холм», усеянный окурками, бросить эти пачки в бездну небытия… Все равно покупателей больше не находилось.
Ноэль Шудлер не ожидал, что дело зайдет так далеко и курс акций упадет столь катастрофически. Его нелегко будет снова поднять, да и удастся ли это вообще? Он вновь приблизился к балюстраде и подал двумя пальцами знак Альберику Канэ, как бы приказывая: «Вперед!» Шудлер понимал, что оставался только один путь к успеху – решительное наступление.
– Покупаю Соншельские по тысяча двести семьдесят!.. Сколько?.. Давайте! Давайте! Давайте!
Это прозвучал резкий голос Альберика Канэ. В несколько мгновений он скупил восемь тысяч акций по курсу 1270 франков.
Старшина биржевых маклеров, человек преклонных лет с розовым лицом и совершенно белыми волнистыми волосами, осторожно взял Альберика Канэ за рукав и отвел его в сторону.
– Вам известно, дорогой друг, что сообщество биржевых маклеров отвечает за каждого из своих членов, – произнес он вполголоса. – Вот почему я позволяю себе просить вас совершенно доверительно сообщить мне, располагаете ли вы достаточным покрытием? В противном случае я буду вынужден…
– Я обратил в наличные деньги все свои ценности, и теперь у меня двадцать пять миллионов франков, – ответил Альберик Канэ так же вполголоса.
– О, в таком случае…
Верность, преданность, жалость – все эти чувства не свойственны биржевикам. Старшина лишь покачал головой; лицо его выразило удивление и восхищение столь беспримерным поступком. «Может быть, это просто ловкая игра?» – подумал он.
Ноэль Шудлер издали наблюдал за беседой и догадался о ее содержании.
«А что, если Альберик предаст меня? – подумал он. И, вспомнив Франсуа, обратился мысленно к сыну, как если бы тот был еще жив: – Мой мальчик, мой мальчик, помоги мне!»
Альберик Канэ вновь подошел к обтянутой бархатом балюстраде; он был бледен как полотно.
Около половины второго у подножия парадной лестницы биржи появились разносчики «Эко дю матен»; воротники рубашек были у них расстегнуты, фуражки со сломанными козырьками лихо надвинуты на лоб, руки вымазаны свежей типографской краской.
– Специальный выпуск! Беспорядки в Бомбее! Двести убитых! Специальный выпуск!
На первой полосе газеты внизу в траурной рамке была помещена фотография Франсуа Шудлера и набранная курсивом статья. «Трагический случай, происшедший вчера вечером, стоил жизни…»
Официальная версия, засвидетельствованная профессором Лартуа, «членом Французской академии, который был немедленно вызван родными», гласила: молодой человек чистил револьвер и смертельно ранил себя. Все усилия спасти его оказались тщетными. Затем следовало длинное перечисление заслуг Франсуа: отмечался героизм, проявленный им во время войны, его способности делового человека, ценные качества, обнаруженные им при управлении Соншельскими сахарными заводами. Статья заканчивалась выражением скорби и соболезнования со стороны редакции газеты.
Битва вокруг Соншельских акций возобновилась.
– Беру по тысяча двести восемьдесят франков!.. Беру по тысяча двести девяносто! Беру по тысяча триста двадцать!
Ноэль Шудлер с облегчением вздохнул – Альберик Канэ сдержал слово.
Заключались все новые и новые сделки. Биржевики вопросительно поглядывали друг на друга. Неужели Шудлер устоял? А если да, стало быть…
Биржевой маклер Моблана сделал еще одну – на этот раз тщетную – попытку добиться нового падения курса акций. Спрос на них продолжал расти, и те, кто продавал, просили теперь дороже. Многие биржевики, еще какой-нибудь час назад сбывавшие акции, теперь начали их приобретать. А Канэ все покупал и покупал… 1400… 1430… Цифры одна за другой возникали на светящемся экране. В лагере противников Шудлера нарастало ощущение разгрома.
Специальный выпуск «Эко дю матен» переходил из рук в руки.
Теперь, когда не только было официально объявлено о смерти Франсуа Шудлера, но и были приведены достаточно благовидные ее причины, биржевикам волей-неволей приходилось выражать Ноэлю Шудлеру соболезнования по поводу кончины сына.
– Мы ничего не знали, – говорили они, подходя к банкиру. – Мы только что прочли… Это ужасно! Ваше самообладание при подобных обстоятельствах достойно восхищения…
– Да-да, это ужасно, поистине ужасно! – повторял великан.
И дельцы отходили в полном недоумении, обмениваясь догадками. В конце концов, ведь сын Шудлера мог застрелиться из-за какой-нибудь женщины! А разговоры о том, будто Леруа отказали ему в поддержке, – кто может поручиться, что все это не выдумки? А что, если эта старая акула Шудлер решил использовать в качестве козыря даже смерть собственного сына?
– Полноте, не мог же он ради наживы вызвать подобную катастрофу! Нет, тут что-то другое.
– Каков сейчас курс Соншельских акций?
– Тысяча пятьсот.
– Что я вам говорил! Шудлера свалить не просто! Это человек другого поколения, другой закалки. В наши дни нет людей с такой хваткой.
В четверть третьего курс Соншельских акций достиг 1550 франков и не снижался до закрытия биржи. Через руки маклеров прошло около двадцати тысяч акций, и агент Люлю Моблана уже мысленно подсчитывал, сколько миллионов потерял в тот день его клиент.
Лишь спускаясь по парадной лестнице биржи, Шудлер и Канэ ощутили, до какой степени они устали: отяжелевшие головы гудели, все тело ныло, ноги, казалось, были налиты свинцом. Биржевой маклер сорвал голос, в ушах у него еще стояли вопли и выкрики. Но он был горд собой и полной грудью вдыхал нагретый солнцем воздух; ему казалось, что он не на мощенной плитами площади, а где-то за городом, на поляне. Шудлер вытирал шею платком. Окружающие смотрели на них с почтением, как на людей сильных и грозных.
Банкир и маклер подвели итоги. Они вышли с честью из трудного испытания и извлекли немалую выгоду; дня через два-три, когда курс акций снова поднимется до своего нормального уровня – приблизительно до двух тысяч франков, – их барыши удвоятся. Операция, задуманная Ноэлем Шудлером, вопреки всем предсказаниям увенчалась успехом.
– Своей победой я прежде всего обязан вам, Альберик. Я это хорошо понимаю, – сказал банкир.
– Да, мы были на краю бездны, – коротко ответил биржевой маклер.
Метельщики собирали бумагу со ступеней. Выпуски «Эко дю матен», смятые, затоптанные, валялись на каменных плитах, с фотографий смотрело лицо Франсуа в траурной рамке.
– Да, на краю бездны… – повторил Шудлер, опустив голову. – Но к чему мне все это сейчас, милый Альберик? Для кого мне отныне работать?
И он прикрыл глаза тяжелой ладонью.
– Как – для кого? А ваши внучата, жена, все ваши близкие? – воскликнул Альберик Канэ. – Вы забываете также о тех, кто зависит от вас, – о служащих. Вспомните, наконец, о своих предприятиях… о себе самом. Вы же не допустите, чтобы вас свалили?.. Да, конечно, я хорошо понимаю… теперь многое изменилось!
– Да-да… многое изменилось, – повторил Ноэль, покорно следуя за маклером, который вел его к автомобилю.
16
Похороны Франсуа происходили два дня спустя. Перед тем Ноэля Шудлера посетил старший викарий приходской церкви. Этот священник с худой длинной спиной и тонкими пальцами был явно смущен предстоящим разговором. Дело в том, что утверждают… ходят слухи, он-то, конечно, понимает – все это просто плоды людского недоброжелательства… В конце каждой фразы викарий облизывал губы кончиком языка и с легким присвистом втягивал воздух сквозь редкие зубы.
Ноэль Шудлер холодно осведомился у викария, считает ли он недостаточным заключение профессора Лартуа, установившего, что смерть Франсуа Шудлера произошла в результате несчастного случая? Или, быть может, кто-либо позволит себе усомниться в свидетельстве прославленного академика?
Банкир не преминул сообщить своему собеседнику, что в панихиде, без сомнения, примет участие отец де Гранвилаж, близкий родственник Ла Моннери, неизменно совершающий требы, когда речь идет о членах этой семьи или о людях, связанных с ними брачными узами.
Услышав имя настоятеля монастыря доминиканцев, викарий заерзал в кресле.
– Ах!.. Ну, в таком случае, в таком случае… – пробормотал он.
И принялся восхвалять достоинства ордена, «пользующегося столь широким влиянием». При этом викарий искоса поглядывал на банкира.
– И это богатый, весьма богатый орден, – добавил он. – Осмелюсь заметить, господин барон, что парижская аристократия и имущие классы осыпают своими благодеяниями исключительно иезуитов и доминиканцев. Святые отцы, конечно, вполне достойны, о да, вполне достойны этих добровольных даяний. Однако получается так, что белое духовенство, которому подчас приходится нести весьма нелегкие обязанности и с честью выходить из очень трудных положений, встречает поддержку лишь у средних классов и у неимущих. Я бесконечно далек от того, чтобы с пренебрежением относиться к их дарам! Разве не сказал Господь, что лепта вдовицы…
В конце концов Ноэлю Шудлеру пришлось пообещать, что для увековечения памяти Франсуа он предоставит церкви своего прихода средства на приобретение статуи святой Терезы.
– Известно ли вам, что наш приход чуть ли не единственный в Париже, где до сих пор еще нет статуи святой Терезы? – заметил викарий. – На днях декан капитула даже сделал мне замечание. И я знаю, многие наши прихожанки глубоко сокрушаются по этому поводу. Я уверен, что сия творящая чудеса святая, исполненная любви к юным существам, будет молить Господа Бога о даровании покоя вашему незабвенному сыну.
И, слегка присвистывая сквозь зубы, викарий удалился, весьма довольный результатом беседы.
На погребальной церемонии присутствовало много народу. То были, пожалуй, самые многолюдные похороны за весь год. Здесь можно было встретить три поколения парижан. Большинство собравшихся составляли молодые люди, хотя, как правило, они редко присутствуют на похоронах. Поль де Варнасэ и все его светские приятели, которые, без сомнения, отказались бы ссудить Франсуа пятьдесят тысяч франков, если бы он разорился, хранили торжественный и задумчивый вид, их лица выражали неподдельное огорчение. Роковая несправедливость судьбы словно задевала их лично и представлялась им нелепой, необъяснимой. Смерть всегда кажется необъяснимой, когда она сражает людей сравнительно молодых. А на этот раз смерть слепо нанесла удар поколению людей, едва достигших тридцати лет.
– Я встретил его за час до смерти, – все время повторял Варнасэ. – Он выглядел как обычно.
Каждый пытался отыскать какую-нибудь вескую причину этого самоубийства, какой-то особый, личный мотив и таким путем успокоиться.
– Франсуа, несомненно, страдал от последней раны, полученной на войне, – утверждал один.
– Я припоминаю случай, происшедший еще задолго до этого ранения, – вмешался какой-то молодой человек, произведенный в офицеры одновременно с Франсуа. – Это было во время скачек на ипподроме Вери, когда мы заканчивали стажировку в Сомюре. Его лошадь сломала себе хребет, беря препятствие. В тот вечер Франсуа был так огорчен, что просто места себе не находил! У него вообще были слабые нервы.
Они походили на инспекторов, которые, склонясь над обгоревшими обломками самолета, стараются установить причины катастрофы.
Возвышение, на котором лежал Франсуа, было для них чем-то вроде черного верстового столба, отмечающего расстояние между рождением и смертью. Он знаменовал новый этап в их жизни. Многие друзья покойного, находившиеся в церкви, невольно думали о первых серебряных нитях, появившихся у них на висках, о первой любовной неудаче, о житейских трудностях, теперь все чаще возникавших перед ними; и каждый говорил себе, что если до этого дня он еще умудрялся ощущать себя молодым, хотя сверстники его уже давно не казались ему такими, то отныне это ощущение будет безвозвратно потеряно.
Их жены, для которых Франсуа Шудлер в последние десять лет был сначала лучшим кавалером в танцах, затем завидным женихом, героем и, наконец, возможным любовником, против обыкновения не улыбались, не сверкали жемчугом зубов: они поглядывали на мужчин и пытались, мысленно ставя себя на место Жаклины, постичь ее горе.
Между тем никто из них даже отдаленно не мог себе представить всей глубины отчаяния Жаклины. Она не присутствовала на похоронах. Находясь под неусыпным наблюдением сиделки, она лежала в своей комнате на авеню Мессины; бедняжка отказывалась от пищи, никого не желала видеть, ни с кем не разговаривала. Глядя прямо перед собой лихорадочно блестевшими сухими глазами, Жаклина исступленно мечтала о смерти.
Порою она начинала биться в нервном припадке, истошно выть, как полураздавленная собака, громко стонать, как роженица. Она и в самом деле испытывала нечто похожее, ведь сначала на нее обрушилась и раздавила ее черная глыба мрака; затем она, не переставая, изо всех сил старалась вызвать собственную смерть, которую все эти дни вынашивала в недрах своего существа, призывала всем сердцем.
Время для Жаклины остановилось. Она не знала, что в эту минуту отец де Гранвилаж, облаченный в белоснежную ризу с траурной каймой, служил заупокойную мессу: настоятель молился у гроба Франсуа, и церковный причт выказывал ему почтение – не меньше, чем епископу; старший викарий кружил вокруг, как муха над куском сахара. Не сознавала Жаклина и того, что она уже трое суток не смыкает глаз.
Теперь мысль ее рождалась в самых сокровенных глубинах подсознания. Одна из немногих произнесенных ею фраз поразила окружающих: «Может ли человек не умереть, если он так этого жаждет!»
Когда сердце ее начинало биться едва слышно и сознание погружалось во мрак, Жаклине казалось, что ее тщетная и страстная надежда близка к осуществлению. Но затем нервный припадок возвращал несчастную к жизни, и она снова жалобно стонала: «Франсуа! Франсуа!» Проходили долгие минуты, а она в бессильном отчаянии все протягивала руки к какому-то призраку, видимому лишь ей одной.
* * *
Семье усопшего не часто приходится выслушивать столько искренних сожалений и похвал по адресу покойного, сколько выслушали их в то утро в церкви родные Франсуа Шудлера. Старый Зигфрид, облаченный в парадный сюртук, сшитый еще тридцать лет назад, никого не узнавал и лишь привычно склонял голову; при этом его длинные бакенбарды чуть вздрагивали. Камердинер Жереми не отходил от старца, готовый прийти на помощь своему хозяину, если тому станет дурно, но высохшие мускулы и склеротические сосуды Зигфрида с честью выдержали испытания этого дня: ежедневная раздача милостыни нищим выработала в нем физическую выносливость.
Гибель внука лишь смутно доходила до его сознания, и даже сама обстановка похорон не вызывала в нем заметного волнения.
Этот почти столетний старик с багровыми веками, неподвижно стоявший неподалеку от гроба молодого человека, ушедшего из жизни в расцвете сил, казался олицетворением какой-то таинственной закономерности, тревожащей душу, словно библейский стих.
Рядом с Жан-Ноэлем и Мари-Анж находился неусыпный страж в лице мисс Мэйбл, которой было поручено не спускать глаз с детей и повсюду сопровождать их. На Мари-Анж было надето платье, сшитое ко дню похорон ее деда Жана де Ла Моннери, пришлось только немного удлинить его.
Дети были скорее напуганы, чем опечалены. Глядя на гроб, они думали: «Там лежит наш папа».
Внезапно Ноэль Шудлер разглядел в толпе лысую голову Люсьена Моблана. Импотент явился на похороны, чтобы насладиться своей победой. Она ему дорого обошлась: за два дня он потерял на бирже около десяти миллионов; вот почему он не мог отказать себе хотя бы в этом удовлетворении.
«Ага! Им худо, им очень худо, этим бандитам Шудлерам. Пусть знают – я приношу несчастье всякому, кто пытается вредить мне», – говорил он себе, медленно двигаясь с толпой.
«Не могу же я тут устроить скандал, – думал в это время Шудлер, чувствуя, как им овладевает ярость. – Но осмелиться… осмелиться явиться сюда…»
– Прими мои самые искренние соболезнования, дружище, – проговорил Люлю Моблан.
И два старика, чьи финансовые махинации погубили здорового, полного смелых замыслов и надежд человека, пожали друг другу руки, затаив ненависть в душе.
«Знай, я сдеру с тебя шкуру, я уничтожу тебя… Можешь не сомневаться!» – мысленно клялся Ноэль Шудлер, пристально глядя в бесцветные глаза Моблана.
17
С кладбища на авеню Мессины двигались в молчании. Опустив вуаль, баронесса Шудлер не переставала плакать, время от времени судорожно всхлипывая. Старый Зигфрид дремал. Ноэль был погружен в свои мысли, он ни с кем не говорил и лишь изредка вытирал платком шею. Все еще испуганные, дети совершенно растерялись в этой непривычной тишине, нарушаемой лишь рыданиями; очутившись среди упорно молчавших людей в накрахмаленных манишках и траурных платьях, они даже не решались поднять глаза друг на друга.
Всем – и взрослым и детям – показалось, что особняк стал каким-то иным, даже воздух здесь был не тот и голоса звучали не так, как прежде. Размеры комнат и те словно изменились; впервые бросилось в глаза, что ковры местами изъедены молью.
– Постойте! Когда переставили этот столик? – спросил Ноэль.
– Но его никто не трогал с места, – ответила баронесса, поднимая на мужа заплаканные глаза.
Она вдруг почувствовала себя одинокой и старой женщиной, у которой уже не будет ничего радостного в жизни… Скорбь ее не смягчится вовек.
– А я говорю, он стоял у другой стены, – настаивал Ноэль.
– О, это было так давно! Когда мы только поженились.
Баронесса громко вздохнула, потом воскликнула:
– Но как все это могло случиться, Ноэль? Может быть, у него было какое-нибудь тайное горе, о котором он молчал? Может быть, мы не пришли ему вовремя на помощь?
Самоубийство больше, чем любая другая внезапная смерть, вселяет в близких чувство вины перед покойным. Все обитатели особняка – и хозяева, и слуги – ходили с виноватыми лицами. Даже дети спрашивали себя, не разгневался ли на них Боженька за то, что они затеяли игру в похороны… Ноэль ничего не ответил жене и отвернулся. Он прошел в кабинет, обитый зеленой кожей, и заперся там.
Раздевая Зигфрида, Жереми увидел какое-то пятно на его старчески-бесформенной ноге, покрытой густой сетью вен и напоминавшей засохший корень.
– Боюсь, господин барон, что у вас растет мозоль, – сказал он.
– Приятная новость, – отозвался старик, – только этого еще не хватало!
Вечером приехал Лартуа. Из комнаты Жаклины он вышел с озабоченным видом.
– Неужели правда, что человек может умереть от горя? – спросил у него Ноэль.
– Конечно, дорогой друг, это бывает, и даже нередко, – ответил врач. – Такие случаи наблюдаются не только у людей. Возьмите, к примеру, птиц: когда умирает самка снегиря, самец перестает петь, оперение его тускнеет, он отказывается от пищи, и в одно печальное утро его находят на дне клетки лежащим лапками кверху. Бедная Жаклина напоминает мне осиротевшую птицу. Все же, надеюсь, мы ее выходим, надо проделать курс уколов. Нам предстоит нелегкая борьба. Труднее всего бороться за человека, который не хочет жить: тогда врачу, так сказать, не за что ухватиться, тут можно ожидать чего угодно – скажем, кровоизлияния в мозг… Но посмотрим, что будет утром. А как вы, любезный друг, перенесли этот удар? Сердце не дает о себе знать?
Только теперь Ноэль Шудлер осмыслил, что все эти ужасные дни сердце его не беспокоило.
– Признаться, у меня даже не было времени подумать о себе, – сказал он, – но я сам поражаюсь собственной выносливости.
– Я ведь всегда говорил: у вас железное здоровье, – заметил Лартуа.
В ту ночь у великана была бессонница. Она не причиняла ему особых мучений, просто он продолжал бодрствовать, сохранял ясность ума и вовсе не думал о сне. Мозг его работал, работал без устали. «Теперь, естественно, мне придется стать опекуном внучат, – говорил он себе. – Я должен продержаться до тех пор, пока Жан-Ноэль не достигнет совершеннолетия и не примет участия в делах фирмы, а Мари-Анж не выйдет замуж. Сколько мне тогда будет?.. Восемьдесят три или восемьдесят четыре. Нелегко дожить до таких лет! А я-то думал, что Франсуа, когда наберется ума, сможет меня заменить! И вот теперь я сам вынужден оставаться во главе фирмы еще чуть ли не двадцать лет».
Он поднялся с кресла и, как был в халате, зашагал по длинному коридору особняка. Часы пробили один раз. Он отворил дверь в комнату Франсуа, повернул выключатель. Из того угла, где стояла кровать, донесся пронзительный вопль. Жаклина распростерлась на полу, на том самом месте, где три дня назад лежал мертвый Франсуа. Она дотащилась сюда почти в бессознательном состоянии.
В двери, соединявшей комнаты супругов, показалась растерянная сиделка.
– Не могу понять, как это произошло, – пробормотала она. – Я была… я так устала… ничего не слышала…
– Так вот, впредь будьте повнимательнее, – жестко сказал Ноэль. – Если вас клонит ко сну, сварите себе кофе. Хорошо еще, что я не сплю!
Он поднял Жаклину на руки и подивился тому, как она легка. «Осиротевшая птица», – сказал о ней Лартуа. Влажные от испарины, спутанные волосы падали ей на глаза. Тело сотрясали конвульсии, она выкрикивала одно и то же: «Франсуа! Франсуа! Оставьте меня с Франсуа!» – и, вцепившись в мощные плечи своего свекра, судорожно трясла их. В руках Ноэля отчаянно билось прикрытое одной только легкой ночной сорочкой худенькое тело Жаклины, тело жены его умершего сына, и он испытывал тягостную неловкость, будто прикоснулся к запретной святыне и против воли совершил кощунство.
Уложив Жаклину в постель, банкир возвратился в комнату сына, чтобы взять то, зачем сюда приходил. Достав из секретера заветные папки, Ноэль двинулся по коридору в обратный путь, сопровождаемый своей огромной тенью; по пути он бормотал сквозь зубы: «Это все Моблан, мерзавец Моблан!.. Но если бы я заблаговременно предупредил Франсуа… Откуда ж мне было знать, что у него такие слабые нервы! Он весь пошел в материнскую породу».
Возвратившись к себе, Шудлер разложил папки на письменном столе и несколько мгновений прислушивался к тишине, царившей в особняке. За стеной, на половине баронессы, все давно погрузилось в молчание. «Бедняжка Адель уже спит, – подумал он. – Тем лучше, она так в этом нуждается. Верно, и Жаклина забылась. Сиделка собиралась дать ей снотворное. И отец мой уснул. И внуки спят. А я, я один буду бодрствовать в этом громадном доме, который теперь целиком лег на мои плечи. Так и должно быть. Нужно разобрать бумаги Франсуа, решить, что оставить, что выбросить…»
Ноэль долго просматривал папки из синей бристольской бумаги. Натыкаясь на неразборчивое слово, он хмурил брови, время от времени делал пометки. «Заводы… Соншельские». «Заказы на оборудование»… «Спортивные площадки»… Надо будет все это довести до конца… Он подпер лоб рукой, потом отложил в сторону папку с надписью «Сахарные заводы». «Этим я займусь позже… А вот папка „Эко дю матен“… Интересно, что он думал по поводу газеты!»
Шудлер начал читать страницу, исписанную вкривь и вкось: «Информация должна быть ясной, точной и самой свежей. Читателю надо дать почувствовать, что все происходящее в мире… Перевести литературную редакцию на третий этаж… Последнюю полосу целиком заполнять фотографиями».
«Да, необыкновенно был способный малый! – подумал Ноэль. – Среди людей своего поколения ему предстояло играть такую же роль, какую в свое время играл я. Все это следует непременно осуществить. Я вдохну новую жизнь в газету, давно пора».
Он проникался мыслями Франсуа. Через два дня им предстояло стать его собственными мыслями.
Часто приходится наблюдать, как человек, наследующий своему отцу, внезапно сам начинает походить на старика. С Ноэлем произошло нечто прямо противоположное: его охватил юношеский пыл, им овладела страсть к преобразованиям.
Он уже обдумывал будущие реформы, собирался привлечь в газету новые, молодые силы.
Он принялся ходить взад и вперед по комнате, заложив руки за спину. «В следующий понедельник надо будет собрать редакционную коллегию. Да, решено! Там царит застой, всем им нужна хорошая встряска. Надо по-новому верстать газету. Не скупиться на рекламу и обеспечить успех. Мы должны отнять двадцать пять тысяч читателей у газеты «Пти паризьен» и столько же у газеты «Журналь». У нас будет самый высокий тираж. Если папаша Мюллер вздумает возмущаться, ну что ж, пусть себе возмущается! Я его быстро поставлю на место, и это послужит на пользу всем остальным».
Ноэль снова углубился в расчеты, комбинации, он обдумывал различные маневры. Могло показаться, что у него вся жизнь впереди и что на службе у него весь Париж – интеллигенция, деловой мир, парламент.
«Эх, не так я прожил свою жизнь! В сущности, мне следовало быть премьер-министром! Впрочем, нет. Министры приходят и уходят. Я куда сильнее, чем они».
Рыдания, донесшиеся из спальни баронессы, прервали полет его честолюбивых мыслей.
– Что случилось? Что там еще такое? – нетерпеливо закричал Ноэль, и его громкий голос разом нарушил тишину замершего дома.
Тут же, спохватившись, он добавил:
– Ах да! Прости меня, Адель. Но ведь я работаю для всех вас.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































