Текст книги "Примитивы. Стихи-94"
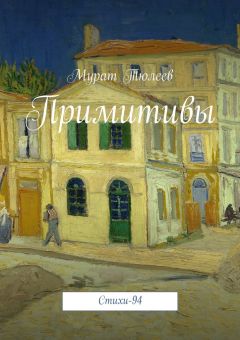
Автор книги: Мурат Тюлеев
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Примитивы
Стихи-94
Мурат Тюлеев
© Мурат Тюлеев, 2016
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
«Вот мой протест: поверившим в меня…»
Вот мой протест: поверившим в меня
готов свинью я подложить с коварством.
Читайте старый стих во славу дня,
ушедшего в таинственное царство.
Теперь ты не услышишь, милый друг,
привычных уху умных изречений.
Теперь дождем отчаянья твой слух
пронзит гирлянда злых стихотворений.
Привет тебе, гнилой примитивист!
Я в зеркало гляжу. Я улыбаюсь.
Был стих мой слабым.
Каюсь, каюсь, каюсь…
Но вот передо мною чистый лист.
«Сиял фонарь. И неба лунный глаз…»
Сиял фонарь. И неба лунный глаз
косил на местность. А в дорожной луже
сидел цыган, одев противогаз.
Подсумок лёгкий был ему не нужен.
Его жена ушла. Сказать нельзя,
что это было драмой. Безвозвратно
катилась жизни легкая стезя,
и не была ни гадка, ни приятна.
Летел кошмар. Болела голова.
Хотелось войн, разрухи и скандала.
Так в нашем сердце теплится всегда
предчувствие вселенского финала.
Когда тебе так тошно, что невмочь,
стихийных бедствий страхи были бы кстати.
Так ярость дня слепую душит ночь,
так дети плачут, прячась под кроватью.
Цыган, уймись. Твоя утихнет боль.
Жена вернётся, и войны не будет.
Но счетчик воздуха уже упал на ноль.
Ты задохнулся. Ты во мраке судеб.
«Я вас не просто обожаю…»
Я вас не просто обожаю,
я обожгу вас и поджарю,
поджарый ангел-лицемер!
Я вас не просто славословлю,
я с вами славой не обмолвлюсь,
словлю и съем другим в пример.
Сказать точнее – в назиданье.
Стихов качнувшееся зданье
в кабину лифта вас вспугнёт.
И обнимая идиота,
«Такая у меня работа», —
ваш рот жеманно вдруг шепнёт.
Я вас не просто понимаю,
я вас как пони запрягаю
в хомут под колесницу лет.
Я вас не просто обретаю,
в оброк боярский забратаю
и в дядин высыплю кисет.
Живите там – до ста и больше!
До ста и горше – вдоволь боли!
Достали вы меня, мадам.
Я вас не просто прогоняю,
я прыгну в вас и обоняю
весь запах ваших прошлых драм!
«В Пишпеке жил шпик – человечишко-пшик…»
В Пишпеке жил шпик – человечишко-пшик.
Он лезвием «шик» с шиком брил шкуру щёк.
Носил свое прозвище, словно значок,
филёр, шаромыжка, седой старичок.
Пишпек шпилем башен пришпиливал век.
По шпалам шпики щеголяли, шипя,
по запаху «шипра» могли угадать,
по матери кто трогал цареву мать.
И каждый боялся сказать лишку фраз.
В стукачестве шпики входили в экстаз
«Осмелюсь тук-тук доложить тук-тук-тук…»
В охранке делами забит был сундук.
«Ну, что тебе такого сделать…»
Ну, что тебе такого сделать
за то, что ты меня нашла?
Как Эдгар кошку, в стену вделать
иль в гладь французского стола?
Плеснуть в лицо томатный соус,
с ушами утопить в вине?
Желудочным ужалить соком,
послать погибнуть на войне?
Ну что тебе плохого сделать?
Чем отомстить за нежный знак
тебе, хорошенькая стерва,
причина ссор моих и драк!
Ага, придумал наказанье,
уж одолеет жуткий страх!
Теперь, иным всем в назиданье —
живи, страдай в моих стихах!
«Мной вялая лень овладела, на тело…»
Мной вялая лень овладела, на тело
одев одеяло, вдовой одолела:
болела, влекла, волокла и волокна
валила снопами, бросая на окна.
Во мне страх и стыд как студёные будни,
бедой обладая, белели как студни,
стадами со студий стекли и столпились,
струей обожжённой в стекле утопились.
Мне женщины-жницы жениться желали,
жгли медленно жизнь и жгутами сжимали,
жалели как будто, будили желанье
сжижали, сжигали, вживляли страданье.
Мной дети довлели и долго долбили
о деланье долга, делами давили,
делили делимое, длили другое,
достать умудрились и деть дорогое.
Лень, страх со стыдом, крали крашенной купол,
ребёнок, что сердце когтями нащупал —
за что вы меня, тварь бессильную, бьёте?
Ведь час не ровён – все со мною умрёте!
«Я неоклассицист. Я реформатор формы…»
Я неоклассицист. Я реформатор формы.
Я нормы все презрел. Я обожаю штормы.
Когда меня штормит – стихом блюю,
при этом норовя попасть в струю.
Я бог стиха. Пусть это и нескромно,
но лучше ли молчать, лукавя томно,
подобно девке, что себя красивой мнит,
да вслух о том не говорит?
И если я поэт, пусть знают все,
что стих мой в демонической красе
похож на огненный цветок,
и пламенем поджечь бы даже море смог!
«Сидел я, ногти подрезал…»
Сидел я, ногти подрезал.
Вдруг ноготь вон из рук пропал.
Я долго беглого искал,
но он и вправду убежал.
Ему лишь ведомым путём
он пересёк проспект и, глуп,
попал одной синьоре в суп.
На мне висит холодный труп.
«Во мне червоточина, масть моя черви, червяк я…»
Во мне червоточина, масть моя черви, червяк я.
Во мне обалдение, я не балда, но балдею.
Во мне обожание жабьего обожествленья,
во мне сострадание острову страстного торса.
В тебе покривение рыла, обрыдлая рыба,
в тебе откровение кровли отравленных кровель,
в тебе созерцание сердца сердитой сардины,
в тебе увядание вяленых валенок воли.
Ты скажешь, что я примитивен, ретив и противен,
ты скажешь, что я безобразный, заразный и разный,
ты скажешь, что я безответный, заветный и ватный,
но это всего лишь эмблема, наклейка, афишка.
Зато я скажу: ты ужасная скважина в саже,
зато я скажу: ты противная, втиснута тифом,
зато я скажу: ты громоздкая задом-комодом,
и это тебе не понравится, и не наверно.
«Я уже не вернусь в осмысленность…»
Я уже не вернусь в осмысленность
из своих золотых бессмыслиц,
это щедрые россыпи роз,
незабудок и звёзд.
Это точки из телеграмм,
это взгляды сквозь таинства рам,
это мир, целый мир без упрёков,
без будильников и солнцепёков.
Я уже не вернусь в надёжность
из своей нищеты безодёжной,
там щедрот постоянные суммы
гарантированы для безумных,
для слепых и убогих,
это значит для многих
Я тебя уведу в бессмыслицу,
даже если ты и двусмысленна,
это мной так давно замыслено.
Нас обоих гнетёт осмысленность!
Я тебя унесу в безбедность
в Государство сплошных обедов,
где на первое будут книжки —
дадаисты, обэриуты,
на второе там слёзы мира
из «Досок Судьбы» Велимира.
Там поют безумные волки,
там врезаются в память осколки
незапятнанных кровью двадцатых
и запятнанных красным тридцатых.
Ты пройдешь по проспекту алому
в Небывалое
и познаешь со мной, счастливая,
Неизбывное.
Только дай мне большое слово,
бесконечно нежное слово,
что уже не вернешься в осмысленность
из моих золотых бессмыслиц.
«Рыжая девочка, что ты наделала…»
Рыжая девочка, что ты наделала,
чёрту кишки завязав в узелки?
Ах, ты, Лилит, ты проказница смелая,
выкати-ка золотые зрачки!
Зелень сукна обожги глазным яблоком,
плесни мне вина и отпей, не виня.
Губы твои пахнут ядом и ягодой,
дай откусить и дыхни на меня.
Чудо проказ и проказа чудесная,
в лузах я вижу влюблённых глаза,
кровь твоя пряная, прелая, пресная,
словно с израненной щёчки слеза.
Кожу морозом дубит моя девочка,
ей ни к чему, ни к чему пояса.
Всё, что ты делаешь, всё, что ни делаешь,
вкусно как с чёрной икрой колбаса!
Все твои полночи – это печёночки,
все твои утра – утраченный ад.
Крошке рогатому выстель пелёночки,
сморщился фиником розовый зад.
Рыжая девочка, дай наслаждения,
муж твой в дежурстве пока у котла
смотрит с улыбкой на чьи-то мучения,
стойкий как кремень и злой как зола.
Шубки твоей мех искристый, оранжевый,
грация узкой ноги хороша.
Жалко, что деньги давно уж просажены,
я б насладился тобою, душа.
Рыжая бестия с рыжею мышкою
тихо играет и зыркает вслед.
Игрище это с чертовскими фишками —
только болезнь моя, только мой бред!
«Забвения хочу, варения хочу…»
Забвения хочу, варения хочу,
вареников хочу… И голод мой, и холод,
вы мной повелеваете – я вами не верчу.
Неумолим мой холод, мой голод также долог.
Любви хочу сырой волокнами в зубах,
звезды хочу как сна, а сна как избавленья
от мнящихся красот, от снящегося «ах»,
забвения хочу, как сладкого варенья!
На кухне упаду, сожму в зубах ребро,
изглоданное мной вчера в приливе страсти,
и импульсом ноги помойное ведро
я опрокину вдруг приметою несчастья.
и в волнах нечистот увидев апельсин,
гнилой как женский рот и красный как отмщенье,
воткну в него клыки, как пламя в стеарин,
и получу мгновенье счастливого забвенья!
«Бабуля всплакнула, припомнив как девкой…»
Бабуля всплакнула, припомнив как девкой
влюбилась в проезжего молодца.
Голубеньким взором неопытной девки
стрельнула с резного крыльца.
А мать из-за прялки грозила ей палкой,
отец показал ремешок.
Ни чести, ни порки ей не было жалко,
тянуло девчонку в грешок.
И вот за околицу как окаянная
несется она во весь дух,
плевала, что юбка не стирана рваная,
как придорожный лопух.
А он, ну, конечно, хороший и добрый,
ни слова в упрек не сказал,
а лишь щекотался небритою мордой
и юбки за спину швырял.
Дорога домой после поздних свиданий
ведет на расправу отцовской руки,
а матушка после взамен назиданий
с капустой несет пирожки.
«Вчерашний день в гостях у друга…»
Вчерашний день в гостях у друга
был в целом весел и полезен.
Такого мастера досуга
я не встречал еще на свете.
Сначала я откушал чаю
из серых хвостиков мышиных,
потом в борще души не чаял
из волосков с бород козлиных.
Набив живот таким манером,
мы принялись смотреть картинки,
верней, рентгеновские снимки,
достав альбом из шифоньера.
Улыбки сломанных запястий,
кокетство выбитых суставов
запали в душу мне отчасти,
как совершенная приправа.
Альбом отправивши на место,
мы с другом к щелочке припали:
«Знакомься друг, моя невеста!» —
усы его прощебетали.
Сквозь щелочку виднелась ванна,
где баба толстая купалась,
и упоительно и рьяно
вся в змеях-шлангах извивалась.
Покинув это представленье,
мы плавно перешли на кухню,
где ели чудное варенье
из артишоков чуть протухших.
Потом взломали холодильник
и псину хладную достали,
под хвост воткнули кипятильник
и в бок ей челюсти вонзали.
К двум ночи яркое веселье
вдруг плавно перешло в припадок.
Всю ночь меня трясло с постелью,
что было другу только в радость.
Под утро толстая невеста
сопеньем жутким разбудила,
и с благородством неуместным
меня по лестнице спустила…
«Как зла любовь, что заставляет…»
Как зла любовь, что заставляет
любить козла, любить овцу,
что нас прилюдно унижает
и бьёт копытом по лицу.
Я видел ангела с глазами,
которых описать нельзя.
Она горда была рогами
парнокопытного дружка,
а это чудище природы,
что вяжет матами слова,
мне из кунсткамеры урода
напоминало не едва.
Как зла любовь! Как благородна
она, что осознать не даст
свою ошибку принародно
и свою жертву не предаст.
Так ангел видит в козлоногом
дружке свое второе «я»,
а может и свою убогость
в лице любимого козла.
«Всю ночь писать стихи и свято верить…»
Всю ночь писать стихи и свято верить,
что утром не повалишься как сноп.
И собственную одаренность мерить
количеством исписанных листков,
а днём, шатаясь и сбивая стулья,
на четвереньках доползти к кровати,
и те же пальцы, что трудились ночью,
с брезгливостью отдёрнуть от тетради!
«На улице Хармса в Введенске…»
На улице Хармса в Введенске,
в музее имени Хлебникова
учрежден фонд Заболоцкого
и стипендии от Олейникова.
Выдаёт их товарищ Вагинов,
ставит росписи Игорь Бахтерев,
провожает к порогу Левин,
машет ручкою вслед Разумовский.
Стены в том золотом музее
разукрасил товарищ Малевич.
В том музее бывал не раз
ваш покорный слуга…
«Я видел музыку глазами…»
Я видел музыку глазами,
вчера, в аллее Мертвых Роз.
Она искрилась там слезами
и возносилась аж до звёзд.
Там фонтанировали грёзы,
русалки подавали знак,
и рос и цвёл там неизвестный,
неистощимо сочный злак.
Я слышал музыку душою
вчера над городом любви,
в пространство я влетел стрелою,
отправлен мощью тетивы.
Я плыл как некий дирижабль
в оттенках терпких облаков
и прогнозировал в субботу
затменье смыслов и умов.
У храма зыбкого искусства
в довольно сумеречный час
сгорят бессмысленные чувства
переполняющие нас.
И после этого все сразу
услышат музыку душой,
увидят музыку глазами
и ощутят её собой.
«В письменном столе моём…»
В письменном столе моём
из стихов построен дом —
стены кип бумажных,
кровля рифм неважных.
Там живут в соседстве тесном
бредней юношеских тесто
и напыщенность тех фраз,
что томят меня сейчас.
В фантастическом оркестре
из сверкающих безумств
несуразные подпевки
исполняет пошлый ум.
Там ведет и ритм и соло
обезглавленное слово,
там поэту голова,
что подпруга для коровы.
«В гавани гавкал гавайский гобой…»
В гавани гавкал гавайский гобой,
бился о берег пассивный прибой.
Тут же в бистро подавали обед,
тут же проехал плешивый мопед.
Где-то поодаль согрелись костры,
лай раздавался горячей икры.
Зиждился в душах унылых закон,
зиждился солнцем седой небосклон.
Ластилось море к шершавости стоп,
чавкал ботиночком голеностоп.
В гавани грелись в согретой икре,
бился о берег ночной энурез.
Пара матросов влетела в сортир,
ядра изверглись из голых мортир.
Жидкая магма расплавленных солнц,
хитрый Уотсон, заплаканный Холмс.
Чёрная книжка сосёт белый глаз.
Ночи завёрнуты в высохший газ.
«Я забуду, как звали акацию…»
Я забуду, как звали акацию,
её снежную комбинацию,
развевалась что по утрам,
зажигая глаза ветрам.
Что такие стихи читала,
о которых нам не мечталось,
для которых поэта мало,
для которых нужна усталость.
Им такая нужна усталость,
что от игрищ зимы осталась,
что в весеннюю даже слякоть
заставляет акацию плакать.
«Петуха по ухабам манила уха…»
Петуха по ухабам манила уха.
Возле уха охаянный охал нахал.
Рыбья косточка и иже с ней требуха,
отче наше еси, опахало греха.
Хоронили хавронью, и хрустом костей
хроникёр был хронически против гостей.
Кто-то верил, что счастье исправит людей,
я блюю от поветрия этих идей.
Все, кого там тошнит от бессмыслицы фраз,
Все, кого здесь тошнит от бессмысленных глаз,
помолитесь: свят, свят, по ухабам ухват.
Вряд ли кто-нибудь свят, всякий совести сват.
«Зачем я каждый вечер наблюдаю…»
Зачем я каждый вечер наблюдаю
за поворотом вашей головы?
Я резкости ее не принимаю,
но как в тот миг неповторимы вы!
У вас на клюве капельки кефира,
а может это даже аметист,
а может разновидностью сапфира
является сей камушек пречист.
У вас на лапках лаковые кольца,
ваш нрав известен сотню миль округ,
и не найдется в мире добровольца,
чтоб с вами встать в один порочный круг.
Вы бы его испортили наверно,
подпортили как время колбасу,
он вечерами бегал бы в таверну,
от злости ковыряяся в носу.
Он за грудки бы злобно тряс бармена
и пил, и напивался в доску пьян,
ну, а потом бы как батрак на смену
спешил кормить вас, чтоб полнел ваш стан.
Но, не простив крутого разворота
неповторимой вашей головы,
он испытал бы страшную охоту
лишить вас этой дивной красоты.
Он бы хватался за столовый ножик
И, проклиная небеса в сердцах,
пинал собак, баранов или кошек,
а может быть себя в никчемный пах.
Когда-нибудь случится эта драма,
и ваш наряд украсит скотный двор
за то, что в красоте своей упрямы,
вели со злом вы свой безмолвный спор.
И я теперь прекрасно понимаю,
зачем сюда так часто тороплюсь
и сквозь решетку горестно взираю
на вас, мой гордый, мой пузатый гусь!
«В глуши глухих аудиторий…»
В глуши глухих аудиторий,
среди обломков школьных парт,
безумно бродит на просторе
студент бесформенный как пар.
На нем картуз надернут лихо
и свитер задом наперёд,
он марш насвистывает тихо
и мел торжественно несёт.
В его глазах блестит окурок,
во рту застыл вчерашний мат,
он смотрит на парадность курток
и открывает дипломат;
и вот открыты взору книги,
тетради, грязные носки,
откуда вытянуты нити,
как будто длинные шнурки.
Под ними обруч из резины
для тренировки вялых мышц,
и в узелочке из сатина
сверкает бусинками мышь.
Студент обводит взором классы
и опустевший коридор,
крадётся в мнимые террасы,
воображая, что он вор.
Кладёт мышонка в чью-то сумку
и тут же прячется под стол,
и там с ухмылкой недоумка
сидит, как форменный осёл.
Кого он ждёт, нам неизвестно.
Мы удаляемся туда,
где люди, словно тесто, тесно
снуют без дела и труда.
Мы изучаем там ступени
при помощи особых сил
и, продвигая вниз колени,
стираем пыль и грязь с перил,
мы ощущаем мрамор лестниц,
гранит веселого крыльца,
а после погружаем в плесень
овал тяжелого лица.
«И вот примерзшие автобусы…»
И вот примерзшие автобусы
мы наблюдаем с остановок.
Их несуразные колёса
неловки, и шофёр неловок,
снимая куртку, лезет в яму,
манипулируя ключом,
он материт чужую маму
и об асфальт он трёт плечом.
Толпятся рядом пассажиры,
бросают шутки, ноги бьют,
и о взбесившемся от жира
протяжно песенки поют.
В их чистом говоре мы слышим
обрывки утренних газет,
их лица злым сияньем пышут,
хотя температуры нет.
Мы видим черного ребёнка,
что возле колеса молчит,
его вчерашняя пелёнка
подобьем шапочки торчит,
а на ногах из синтепона
подобье маленьких сапог.
Он думает вполне резонно,
что где-то в небе дремлет Бог.
Из-под автобуса с сопеньем
пунцовый лезет человек.
Он дверцу рвет с остервененьем,
пылинку стряхивает с век.
Вот в воздухе запахло гарью,
и показался белый дым,
и вот уже, передвигаясь,
мы над колёсами сидим.
Они вращаются под нами,
как сумасшедшие глаза,
дорога ровными горстями
отбрасывается назад,
и где-то существует место,
в котором, ровно в пять часов,
нас ждет поднявшееся тесто
предновогодних пирогов.
«Над снежною горой восходит день…»
Над снежною горой восходит день,
как призрак неопознанной планеты.
Под ним одеждой сброшенною тень
внесла на торг последние секреты.
Здесь рёбра крыш обглоданы дождем,
последним кровом служат для убогих.
Ещё мгновенье – мы пересечем
грибком изрешечённые пороги.
Пред нашим взором обречённый лик,
под ним подобье высохшего тела,
и солнце раннее вонзает блик
в созданье это, пепельнее мела.
Мы слышим звук и прячем свой испуг,
мы слов не разбираем, но смеёмся,
с брезгливостью берем из тощих рук
и с деланным почтением трясёмся.
Нам не понять убогости лачуг,
хоть мы и не явились из чертога,
в нас ввек не переварится сычуг,
нам никогда не ранить словом Бога.
Зачем же мы стоим средь этих стен,
зачем глядим в глаза портретов мёртвых,
и не хотим оставить этот плен,
пропахший тяжким запахом помёта.
Зачем с тоской взирая на окно,
навеки сросшееся с паутиной,
мы думаем, что вот и жизни дно
проиллюстрировано сей картиной
Нам не понять, что страшно долог век,
и чем ты дольше здесь, тем больше знанье
того, как безобразен человек
в пучине обнищанья.
«Отдаём билет при входе…»
Отдаём билет при входе,
перед нами вестибюль.
Массы пёстрые здесь бродят,
словно в кипятке кастрюль:
дамы как кусочки лука,
господа как вермишель,
важен чей сюртук от стука
перехваченных петель.
Мы как важные слепые,
и болтливый поводырь
нас влечет частичкой пыли,
как озоновый пузырь,
он в картины тычет пальцем,
он губами шевелит,
и становится нам ясно:
он о чём-то говорит.
Мы рисуем на улыбках
знак вниманья и тепла,
а глазами мы на рыбках
за узорами стекла,
мы извилины вплетаем
в их задумчивый узор,
а поводырю киваем
красному как помидор.
Непонятные пейзажи
в золотых корсетах рам
он на лицах наших мажет,
пальцем водит по губам,
он завинчивает в душу
модернистов имена,
и бросает в нас как груши
школы, стили, времена.
Кругозор наш распухает
и уже для нас широк,
на плечах он обвисает
и теснит свободу ног,
и потешные как дети,
прочь уходим хохоча,
словно здесь на нас одели
фрак с отцовского плеча.
«Есть на свете дворцы, где живут только тени…»
Есть на свете дворцы, где живут только тени,
только призраки тех, кто когда-то в них жил,
в паутину сквозь сумрак, как будто в мишени,
здесь стремится попасть золотой мышекрыл.
Есть на свете землянки, где жизнь без предела
бьёт ключом, как струя из стакана с вином,
муза здесь ежедневно рожает младенцев,
чья весёлость съедает нас вместе с дерьмом.
Есть на свете дворцы, для которых не светит
солнце сущее с выси беспечных перин,
там никто тайны тёмных углов не подметит,
чтобы после в них прыгать с трамплина седин.
Есть на свете землянки стремянками в небо,
вспомни тот дирижабль, что отлит из свинца,
там цветёт коноплёй небывалая небыль,
там не спел бы Джим Моррисон всуе «Конца».
Он бы крикнул, что гений и злость запредельны,
как желанье, в которое верил Кобейн,
а потом бы молил у богов срок недельный,
чтобы влезть на Памелу, великий кобель.
Раньше здесь Диоген и Сократ бы схлестнулись,
а Франциск бы замял, а Платон бы развел,
а теперь те, что в мир под шизою явились,
здесь творят над гитарной струной произвол.
«Любовник номер 48…»
Любовник номер 48,
одетый в шик от глаз до пят,
морально босоногий, впрочем,
как ленинский лауреат,
несёт в коричневой обложке
свой свежеиспечённый ум
и алюминиевой ложкой
в его глаза блистает ЦУМ.
В нём уживаются Печорин
и дерзкий негр Азамат,
он коноплёю подбуторен,
набит подушками как зад,
фальшив до честности как доллар
из-под руки Брюллова К.,
он по-акселератски долог
и чтит УК как брат Лука.
И вот он втискивается в оттиск
и вписан в тонкую графу,
на софу прыгает как котик,
а может быть и на софу,
с улыбкой иллюзиониста
он достает бутыль чернил,
и вот и медленно и быстро
его в бокалы он разлил.
Вот та, к которой он явился,
совсем забыли мы о ней,
в ее кадык тушканчик впился,
заносчивый как воробей,
в её ступни забиты гвозди,
а может это каблуки,
и груди как большие гроздья
стремят вперёд свои соски.
И вот их ночь сплетает скоро,
как голубое макраме,
и сетью сладкого позора
их оплетает в тишине.
И утром взору непонятно,
где он, где собственно она,
лишь серой массою невнятной
лежит сырая простыня.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































