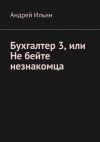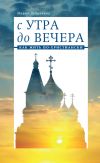Текст книги "Серный ключ"

Автор книги: Надежда Дурова
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
В один день молодые люди пробыли у ключа долее обыкновенного; солнце давно уже закатилось; месяц еще не выходил; стадо Дукмора спокойно ело росистую траву, сам он сидел против Зеилы, и оба молчали, слушая соловья, который над самыми их головами щелкал, стонал, свистал и очаровывал всю природу своим ни с чем не сравнимым пением… Вдруг дикий хохот раздался в чаще бора… Зеила с глухим стоном упала на траву. Дукмор в ужасе поднялся с места: «Горе нам! Это Керемет! Погибли мы!..» Зеила ломала руки, Дукмор стоял неподвижно. «Беги, Зеила! – вскричал он, наконец. – Беги скорее! Я постою здесь, пока ты добежишь до своей избы. Беги, не бойся ничего: я не уйду с места, пока ты не будешь дома». – «Ах, прости, Дукмор! Мы более не увидимся. Это ужасный Керемет. Мы погибли!» – «Беги же, Зеила, ради бога! Завтра я приду сюда на рассвете, но теперь беги, как можно скорее, беги отсюда! Я подожду, пока ты добежишь». Зеила как легкий зефир перелетела пространство, отделяющее деревню от ключа, и молодой человек вздохнул свободно, увидя свою любезную под кровом и вне опасности. Он оборотился с гордым и мужественным видом к стороне леса, посмотрел с презрением в черную глубь его и пошел твердым и спокойным шагом собирать стадо свое, чтобы гнать его в деревню. Прикликав к себе верных товарищей пастушеской своей жизни, двух огромных и сильных собак, Зиглора и Зуррая, с беспокойством заметил он, что они, ворча и ощетиня шерсть, жались к нему с каким-то страхом. Стадо его, пыхтя и озираясь, теснилось все вместе и начинало бежать к деревне. Пока он торопливо старался разглядеть, какой предмет мог так испугать их, стадо его пустилось во весь дух к деревне, испуская жалобный рев. Собаки, рыча, жались к встревоженному Дукмору; в лесу раздался треск, как будто что-нибудь с силою ломало сучья. Для юноши черемиса это была очень понятная примета: лесом шел медведь и, слыша близость стада, верно, искал добычи. Сердце молодого человека закипело мужеством.
Известно, что полудикие народы, всегдашние обитатели непроходимых лесов, нисколько не боятся единоборства с медведем; разумеется, что на такой опасный подвиг пускаются только молодцы, а то у них есть много и других способов ловить и убивать медведей.
– Да, слыхал и я о различных хитростях их, но что значит единоборство?
– Единоборство с медведем верх ужаса для меня. Вот что мне рассказывали об этом: когда узнают, что в лесу появился медведь и если его величина, сила и лютость обратят на себя внимание всей окрестности на сорок или более верст кругом, тогда из всех окружных молодых людей один кто-нибудь, род богатыря у них, решается, не говоря о том никому, вступить в единоборство с ужасным зверем. В случае успеха смелый ратоборец покрывается неувядаемою славою и сверх того продает кожу побежденною зверя, что бывает иногда довольно ценно. В случае ж неудачи он платит своею жизнию, и о предприятии его узнают только по остаткам белого шабура и нескольким костям.
– Ужасно! Неужели Дукмор решился на такой уединенный бой, среди леса, с лютым и сильным медведем?
– Да. Но я еще не рассказала вам о способе сражаться один на один с свирепым жителем лесов. Герой, или безумец, не знаю как назвать того, кто против кожи медведя ставит свою жизнь, иногда столь богатую радостями, забрав себе в голову отыскать медведя, убить его, снять кожу, продать, разбогатеть и сверх того всю жизнь уже слыть отличным молодцом, идет, услаждаясь такими мечтами, в лес, отыскивает обычную тропу медведя и становится на ней, не имея другого оружия, кроме большого широкого ножа, с обеих сторон острого, как бритва; наконец он слышит треск сучьев, предвестие приближения противника, и вот они видят друг друга лицом к лицу; медведь ревет, становится на задние лапы и идет к человеку, человек к нему, и в то самое мгновение, когда медведь обхватывает его лапами, чтобы смять под себя, смелый и мужественный черемис, как молния, распарывает его ножом, от ног до груди, и в ту ж секунду зверь падает бездыханен, с вывалившеюся внутренностью, прямо на своего победителя. Подвиг геройский, но требующий неимоверного проворства и присутствия духа.
Дукмор не сомневался, что причиною испуга стад его было появление медведя, но желал также узнать, будет ли он стоить того, чтобы пуститься с ним на смертный бой. Итак, он решился ждать, как огласит его молва. На заре пошел он к ключу, как обещал Зеиле, но ее не было. От испуга и горестных предчувствий Зеила занемогла. Дукмор жалобно играл на флажолете, ходил за стадом с поникшей головой и беспрестанно взглядывал к деревне Курцем, не выйдет ли Зеила… Настал вечер: ее нет. У Дукмора навернулись слезы на глазах. «Что с тобой, моя Зеила?» – думал он и нога за ногою гнал стадо свое домой.
Весть о появлении в лесу медведя, как быстрый поток, разлилась по всем окружным селениям. Все встревожилось, но рабочая пора не дозволила принимать никаких мер, кроме того, чтобы запирать стада на ночь в оградах и спускать всех собак.
«А что, Дукмор? – говорили молодые люди селения Бугры, сойдясь вечером с юным черемисским аполлоном. – Не хочешь ли попробовать счастия против незваного гостя в лесах наших? Кстати, у тебя на зиму нет тулупа, а его шуба, и красива, и тепла. Право, брат, решись: мы помогли бы тебе, да видишь, нам некогда; к тому ж ты силач, каких у нас в деревне никто и не запомнит; нож не свернется в руке твоей. А знаешь ли, каков медведь? Стоит чести быть убитым твоей рукой! Чудовище ужаснейшее, какое когда-либо появлялось в священных лесах наших. Столетние старики говорят, что и от дедов своих не слыхали, чтоб когда-нибудь заходил в нашу сторону подобный медведь.»
Дукмор молчал. Широкий нож его был так уже вострен, что перерубал волос на воздухе, и он почти решился идти в бор отыскивать ужасного врага и сразиться с ним, но ему хотелось прежде увидеть Зеилу; он сам не знал, для чего хотел того, но… Кровь его леденела при мысли идти на столь опасный подвиг, не взглянув еще хоть раз на Зеилу… Злой рок был неумолим. Зеила не показывалась у ключа; она лежала замертво на нарах и была окружена старухами, которые шептали над нею всякий вздор, перебирали всех идолов по именам, не забывая и Керемета, и всякий раз Зеила, услыша его имя, вздрагивала и металась по постели. Наконец молодость и природа взяли свое: через неделю Зеила могла вставать и даже выходить. Первое, что она услышала, была весть о появлении страшного медведя, наводившего ужас на всю окрестность и делавшего опустошения в стадах… Сердце ее замерло. Нетвердыми шагами пошла она, как могла скорее, к ключу. Стада паслись, рассыпавшись по лугам… Дукмора не было! Сердце Зеилы облилось кровью. Она угадала все!.. Ломая руки, бросилась она в отчаянии на траву.
Дукмор, тщетно приходя каждое утро к ключу, чтобы увидеть Зеилу, решился наконец именно в тот день, когда Зеила в первый раз оставила свою хижину, идти на гибельный подвиг; он просил одного из стариков посмотреть в тот день за его стадом, отдал ему Зиглора и Зуррая, рассказал, где лучше трава и к какому месту ручья пригонять пить. Обеспеча таким образом довольство вверенного ему стада и дождавшись, когда старик зашел с ним за рощу, Дукмор приблизился к ручью, остановился на берегу его и долго смотрел на деревню. Наконец простирая руки к хижине, под кровом которой цвел прелестный цветок его, пленительная Зеила, он воскликнул: «Зеила! Может, ты придешь сюда завтра, может, еще сегодня, но я уже не встречу тебя… И увы! Кто знает, встречу ль я тебя когда-нибудь?.. Прости, Зеила, прости! – повторял он, ударяя себя руками в грудь. – Ужасный Керемет даром не смеется! Оба слышали мы страшный хохот его, а он… он всегда окупается кровью!..»
Дукмор пошел тропинкой, пролегавшей вдоль ручья и ведущей в самую глубь леса; он шел все по одному направлению, пока наконец дошел до такого места, где и ключ и тропинка исчезали в болотах и непроходимой чаще. Тут он остановился, осматривая внимательно все окружающие его предметы; между валежником, заросшим кустами малины, тянулась едва приметная, узкая тропа; в ней опытный глаз смелого черемиса не мог обмануться. Это была тропа медведя. Мужественный молодой человек отдалил мысль свою от Зеилы, забыл зловещий хохот Керемета и, взяв твердою рукою нож свой, стал бодро на тропе, которою необходимо надобно было идти свирепому животному. Ожидание его длилось не более часа. Гул, пыхтенье и треск сучьев, раздающиеся по всему лесу, дали знать Дукмору, что настало время. Медведь необъятной величины показался на тропе и в ту ж минуту стал на задние лапы; то был знак, что он увидел человека. Зверь с ревом шел на Дукмора. Дукмор шел к нему. Уже лапы чудовища были на стройных плечах черемиса; нож Дукмора был во внутренности медведя… Но увы! Несчастная Зеила! Нож свернулся!.. Мгновения довольно было лютому зверю. Дукмор пал без образа и жизни. Чудовище, смертельно раненное, упало близ него, каталось по земле и, истекая кровью, ревело неистово. Дикий рев издыхающего зверя раздавался по всему лесу, оглашал окрестность и заставлял все живущее с трепетом укрываться в самые неприступные места. Стадо, дико озираясь, неслось, как вихрь, к селению, вбегало в него, жалось, теснилось к домам. Собаки с визгом подлезали под мостовины, под печь, под лавки и, трясясь всем телом, жалобно выли. А люди?.. Все, что только было в поле, кинулось в деревню. Женщины с воплем бежали к оставленным детям; мужчины, вооружась чем попало, палкою, дубиною, жердью, вилами, косою, жались, однако ж, в тесную толпу и так подвигались к своим селениям. Наконец дикий рев вдруг замолк… Все черемисы остановились и с изумлением смотрели друг на друга. «Кто ж жизнью своею выкупил нашу безопасность? – спрашивали они один другого. – Медведь издох – нет сомнения, но он изломал своего противника, и в этом также нет сомнения: медведю некогда реветь, когда нож пойдет удачно; он умирает безгласно и в одну секунду, а то, видно, нож свернулся. Но кто ж бы это?» – «Наши все здесь», – говорили они, пробегая взорами по всем лицам. «А Дукмор?» – сказал кто-то в толпе. «Дукмор!» – повторило несколько голосов, и в первый раз еще имя злосчастного юноши произносилось с участием. «Дукмор, наш силач, красавец, молодец, о каких у нас до сего времени и не слыхали. Ах, как жаль!..» – «Вот беда! – шептали между собою молодые люди Дукморовых лет. – Вот беда, если в самом деле он! Говорят, набор будет непременно зимой. От нашей деревни следовал один только рекрут: уж сказали бы спасибо за такого красавца, а теперь – беда!..» – «Ну кто ж виноват? Ведь сами подстрекали, иди да иди, шуба тепла и красива!.. – сказал один из пожилых черемисов, вслушавшись в слова их. – Ну, вот теперь надень эту шубу, да и ступай в солдаты!» – «Ну, что ж – и пойдет, кому очередь!» – перервал староста.
«Полноте! Ступайте в поле: нечего уже теперь толковать – все кончено; пошлите приволочь труп медведя и похоронить того, кто был его победителем». Все возвратились в поле, исключая трех молодых ребят, которых жители деревни Бугры послали в лес за медведем и Дукмором.
Но Зеила? Что с нею? Где она была в то время?.. Бедная Зеила лежала на берегу ручья и плакала, как вдруг раздался ужасный рев медведя, рев, в котором слышалась ей смерть ее любезного.
Она вскочила в ужасе; с минуту стояла неподвижно, трепеща всем телом; в глазах ее изобразилось помешательство; вдруг она пошла быстро по течению ручья, прямо в лес, не бежала, но шла чрезвычайно скоро, расплетая торопливо свою шелковистую, светло-русую косу, достающую за колена; расплетя и распустя волосы по ветру, она пустилась бежать с быстротою гонимой лани. Я никак не могла доспроситься у жителей: чему они приписывают это странное действие ее? Был ли то род каких-нибудь чар или просто признак начинающегося сумасшествия? Зеила бежала по той самой тропинке, по которой за несколько часов перед тем прошел злополучный Дукмор. Солнце было уже близко к закату, но, не страшась более мрачных теней, не страшась уже ничего в мире, Зеила продолжала бежать лесом и наконец, закричав пронзительно, упала на землю… В пяти шагах от нее лежало раздавленное и исковерканное тело Дукмора. Оно все было в крови, выбрызнувшей, выжатой из всех пор, из всех мест растерзанной кожи его!. Несчастная Зеила влеклась к нему по земле, испуская глухие стоны. Приползши, она обняла тело, судорожно сжала его и беспрестанно обтирала кровь с лица и головы Дукмора своими волосами. Так застигла ее ночь. Несчастная уже ничего не понимала: для нее не было ужасов!.. Кроткая, робкая и суеверная черемиска сидела одна, в дремучем лесу, в глубокую полночь, близ мертвого тела и в десяти шагах от издохшего медведя чудовищной величины!
Приметно было, что ужас, сосредоточившийся в душе ее, превышал все ужасы в мире. Она продолжала стонать глухо, дико и то отирала кровь волосами, то прижимала их к глубоким язвам мертвого Дукмора.
Трое молодых черемисов, отправленных из деревни Бугры, застали ее в таком положении; они чуть не убежали, сочтя несчастную обаянием Керемета. Но тяжкий стон Зеилы и чарующая красота ее одержали верх над суеверным страхом. Проникнутые глубочайшим сожалением, они подошли к ней, убеждая оставить плачевные останки юноши и идти с ними домой. Несчастная не понимала их, даже не смотрела на них. Наконец, видя бесполезность убеждений своих и не имея духа разлучить ее силою с бездыханным предметом любви ее, они отошли от нее и, зацепя труп медведя веревками, потащили в деревню. Приволокли свою добычу, один из них пошел в Курцем сказать, что видел Зеилу в лесу, сидящую над телом Дукмора. Все женщины в сопровождении своих мужей, братьев, сыновей пошли толпою в лес, нашли бедную Зеилу, все в одном положении, стенящую и обтирающую волосами кровь с лица и головы своего Дукмора. Горько плача, взяли они ее на руки и понесли домой; она не делала никакого сопротивления и только стонала. Мужчины подняли тело Дукмора, донесли до рощи и там похоронили, недалеко от ключа.
На другой день Зеила пришла в совершенное расслабление; она не стонала более, лежала без движения и без всякого признака жизни, исключая чуть приметное дыхание. После трех недель шептанья, колдованья и невнятного бормотанья всех деревенских шаманов и шаманок, с утра до вечера дежуривших у нар Зеилы, юная черемиска возвратилась к жизни, но рассудок ее навсегда расстроился; она осталась сумасшедшею, и с того времени вот ее род жизни: зиму всю она прилежно работает, но не говорит ни с кем ни слова; когда же настанет весна, сойдет снег, покажутся трава и цветы, Зеила берет ведра и идет на ключ; наполнив водою, ставит их на землю и стоит несколько времени неподвижно на одном месте, устремя глаза в глубь рощи; после начинает прислушиваться; ужас рисуется в глазах ее, и наконец, вскрикнув пронзительно, бежит с быстротою ветра по известной тропинке, прямо в лес, достигает места, где лежало тело Дукмора, бросается на землю, стонет, мечется, наконец садится на берегу ручья, опускает в него свои волосы и моет их тщательно, припевая слова, которые я, сколько ни старалась, не могла переложить в стихи, так, чтобы сохранить смысл и чувство, какие в них находятся. Вот что поет Зеила, смывая мнимую кровь с кудрей своих:
Бежит, гремит, кипит, клокочет
Волшебный ключ моей страны!
Злой Керемет в лесу хохочет
В часы полночной тишины!
Бежит, гремит, по камням скачет
Волшебный ключ моей страны!
На берегу девица плачет
В часы полночной тишины!
Бежит, гремит, волной сверкает
Волшебный ключ моей страны!
С кудрей девица кровь смывает
В часы полночной тишины!
После двух или трех часов беспрерывного полосканья своих волос Зеила идет к могиле Дукмора, обнимает ее, прижимается к ней лицом, покрывает волосами и остается так, безмолвно и неподвижно, до тех пор, пока которая-нибудь из ее названых матерей придет взять ее и отвесть домой. Без малейшего сопротивления она повинуется и идет послушно за тою, которая придет сказать ей: «Полно, Зеила, пойдем в деревню – тебя ждут».
Зима прекращает все. Зеила остается в избе, не ходит на ключ, не моет волос и никогда не поет своей песни. Тиха, покорна, трудолюбива, она с утра до вечера занимается делом и даже самыми тяжелыми работами; по наружности казалось бы, что она спокойна, но ужасная сухощавость, смертная бледность, всегда потупленный взор и беспрестанное молчание показывают невыразимую тяжесть сердечных мук и близкий конец жизни. Тщетно все женщины, на руках которых она выросла и которые любили ее почти более своих собственных детей, тщетно старались не допускать ее к тяжелым работам: не было на это средства, и они наконец, несмотря на свою простоту, поняли, что терзания души ее превзойдут меру, если она останется хоть на один день в праздности, поняли, что беспрерывное занятие для нее необходимо, и дали ей волю поступать, как она хочет. В первые дни после ее грустного выздоровления они хотели было утешить ее, разговорить, заставить сказать хотя одно слово. «Да успокойся, Зеила, дитя наше! – говорили они, плача и обнимая ее. – Бесценное дитя наше! Скажи нам что-нибудь! Скажи нам, что у тебя болит? Что тебе надобно? Скажи нам хоть слово, дай нам, ради бога, услышать голос твой! Послушайся же нас, Зеила, не мучь так бедных матерей своих!..» Все было бесполезно. На их ласки, слова и плач Зеила отвечала молчанием, томным взором и тем, что прилегала на грудь той из них, которая сидела к ней ближе; последнее делала она машинально, по какому-то темному воспоминанию детской привязанности, которую имела ко всем женщинам деревни, ее воспитавшим, но приметно было, что теперь она не узнавала ни одной из них. Ужасное состояние! Приближение весны делало в ней ощутительную перемену. Глаза и все черты лица оживлялись, наружное спокойствие исчезало; она была в беспрерывном волнении и каком-то нетерпеливом ожидании. На лице ее изображалось иногда чувство радости, кроткого веселья, уверенности в счастии (увы! навсегда минувшем!). Но вдруг вся физиономия ее изменялась; испуг и страдание рисовались в глазах ее и во всех чертах лица – страдание, столь жестокое, что женщины, сидевшие с нею, ломая руки, убегали прочь…
– Боже мой! Вы растерзали мое сердце вашею повестью, но продолжайте, продолжайте, прошу вас, будьте так милостивы и немилостивы вместе!
– Повесть моя приходит к концу. В помешательстве Зеилы было еще одно замечательное обстоятельство. Хотя она зимою никогда не пела своей песни, но всегда болезненно вздрагивала, если слышала кого-нибудь поющего.
– Неужели имел кто-нибудь бесчеловечье петь при ней те слова, которыми она оплакивала свое несчастье?
– Как можно! Нет, да суровые черемисы к тому и неспособны. Но как они поют все одинаково жалобно, вроде какого-то завывания, то немудрено, что который-нибудь из звуков напоминал Зеиле ее песню, а с ней и страшную картину полночи в лесу, смерти, ран, крови, картину ее ужаснейшего злополучия.
– Мне, однако ж, странно, что Зеила сочинила песню, видно, так, как делают лунатики, что для меня всегда было и будет непонятно.
– Для такой песни, какую сочинила Зеила, не нужно уменья, а просто природная способность к поэзии, которою в высшей степени одарены все черемисы.
– Черемисы – поэты, и еще в высшей степени! Бог вам судья! Вы хотите заставить меня смеяться, когда у меня слезы на глазах.
– Вольно вам и плакать, и смеяться невпопад: вы не верили, что у нас есть Серный Ключ, не верили, что я ездила на воды! Но вот теперь вы убедились в двух истинах; так же будет и с поэзией черемисов. Слушайте со вниманием и вникните в то, что буду вам рассказывать… Что вы улыбаетесь? Я не шучу: поверьте, что этот народ – поэты, да еще какие! Импровизаторы!
– От часу не легче!
Взгляд Лязовецкой заставил ротмистра кинуться целовать ее руку.
– Виноват. Право, мы, квартируя по деревням, привыкаем бог знает к каким выражениям. Не гневайтесь: я готов верить, дивиться и благоговеть пред черемисами – поэтами, импровизаторами, но докажите мне хоть малейшую возможность такого чуда, не употребляя, однако ж, для убеждения меня власти вашего пола, требующей безусловного доверия!
– Неисправимый человек! Итак, слушайте: образ жизни черемисов, их нравы, обычаи, язык, тайная привязанность к идолопоклонству, выбор места для жилищ всегда среди лесов отделяют их совершенно от других племен и осуждают на всегдашнее одиночество. Черемис природно грустен; его не развлекает ни одно из тех упражнений, которыми занимаются его соседи татары, как-то: торговля, мена, переезд из одного города в другой; он не выращивает, не холит коня, не шьет халата, не выделывает ергака;[8]8
Ергак – тулуп из козьего, жеребячьего или какого-нибудь другого меха с низким ворсом.
[Закрыть] он только пашет землю и зимою ловит белок, чтобы, продав их кожу, купить себе соли. Вот весь круг его деятельности. Разум его, не занятый житейскими заботами, имеет весь досуг погружаться в таинственность нелепых обрядов давней веры, что делает его мрачным, скрытным, недоверчивым; он молчалив даже в своей семье и дышит свободно тогда только, когда остается один. Он уходит в лес, свое отечество, свою стихию, углубляется в чащу его и там без помехи предается вполне природной меланхолии. Там он чувствует себя как нельзя ближе к доброй матери своей, природе, и с восторгом поет красоты ее. Он воспевает, хвалит все предметы, на какие только устремляется взор его. Смотря на красивую березу, могучий дуб, высокую сосну, он поет, что дерево приятно для глаз, что зелены и густы его листья, как снег, бела его кора, прохладна тень и гибки ветви, по которым скачет проворная белка. В дубе хвалит он другие преимущества, его крепость и даже назначение.
– Желал бы я слышать: какими словами он приветствует дуб?
– Он говорит: «О дуб, дуб крепкий, долговечный! Судьбой ты назначен для дальних путей. Ты видишь смерть, несешь богатствами с ветром буйным ты в вечной борьбе!» О сосне поет, что она высока, пряма, вечно зелена, что неизменяемость ее зелени похожа на постоянство его любви.
– Как? Он и любовь тут вмешивает?
– Разумеется. Странен вопрос ваш, Л…
– Почему странен? Можно быть поэтом без любви, можно и любить и не иметь никакого понятия о поэзии.
– На первое еще могу я согласиться, но последнее невозможно. Нет! Невозможно, было бы даже что-то уродливо. Но возвратимся к моим черемисам. Убедились ли вы теперь, что они имеют дар петь и сочинять в одно время? И не права ли я, утверждая, что черемисы – поэты и импровизаторы вместе?
– Ах, в чем вы не будете правы! Но как я уже всему теперь поверил, не будете ли иметь снисхождения досказать о Зеиле?
– Злая ирония! Повесть Зеилы уже досказана. Зеила покоится теперь подле своего Дукмора. Одна зеленая насыпь покрывает их обоих.
– Так она умерла?
– Да, один из наших чиновников был в тех местах и, возвратясь, рассказывал, что при нем принесли Зеилу мертвую с Дукморовой могилы. В тот день была она бледнее обыкновенного, но так же, как и всегда, пришла к ключу, набрала воды, поставила ведра на землю и стала прислушиваться; так же, как и всегда, вскрикнула, полетела, будто стрела, в лес, но, прибежав на место, где нашла некогда мертвое тело Дукмора, не стонала, не металась по земле, а села спокойно, тихо оставалась с полчаса погруженною в мысли; потом наклонилась к земле и с нежностью целовала ее несколько раз; наконец встала и, не подходя уже к ключу, пошла медленно в обратный путь. У могилы Дукмора она затрепетала, упала на нее, с восторгом обняла и так сильно прижалась к ней лицом, что когда подняли уже ее с могилы, мертвую, то увидели, что сухие растения прокололи ей лицо и вонзились до костей.
– Бедная!
– Последнее время женщины, замечая по необычайной бледности и худобе Зеилы, что конец ее уже недалек, не выпускали ее из вида. Всегда одна из них ходила за нею следом; они очередовались в своей печальной должности, и моя бывшая хозяйка, более всех ее любившая, имела горестное преимущество ходить за нею в последний день ее жизни, поднять ее мертвую с могилы и на руках своих принести к себе домой…
Лязовецкая замолчала. Ротмистр также молчал; Печаль закралась в его душу. В воображении его рисовались то прелестная бедная Зеила, с черными глазами и длинными светло-русыми волосами, то стройный, высокий Дукмор, гордый, стоящий на тропе, с блестящим ножом, то слышалось мелодическое пение Зеилы, то плеск ручья, то рев медведя, то хохот злого духа черемисского. Одним словом, он погрузился в глубочайшую задумчивость.
– Не хотела бы я рассказывать еще раз в жизни своей этой истории, – сказала наконец Лязовецкая, вставая с дивана и свертывая свою работу.
– Бедственная участь двух молодых сирот!..
– Маменька! Да что вы не ложитесь спать? – сказал с плачем один из мальчиков. – Посмотрите, ведь уже день!
Ротмистр и прекрасная хозяйка оба взглянули в окно. Восток начинал уже алеть.
– Ах, как я виноват! – вскричал ротмистр, торопливо схватывая свою фуражку. – Я употребил во зло ваше снисхождение! Можете ли вы простить меня?
– Мне не в чем прощать вас, – сказала простодушно Лязовецкая. – Я сама находила удовольствие рассказывать, увлекаясь интересностью происшествия.
Л… хотя торопливо, но нежно и пламенно поцеловал белую ручку милой хозяйки и ушел. Когда дверь затворилась за молодым уланом, Лязовецкая подошла тихонько к двери кабинета, легонько отворила ее и, видя, что супруг её спит глубоким сном на своей походной постели, опять притворила. Подошед к кроватке меньшого из сыновей, не перестававшего звать ее, она прилегла к нему. Успокоенное дитя обняло лебединую грудь матери, и оба в ту ж минуту заснули.