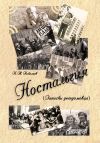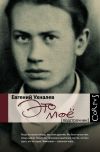Текст книги "Все так умирают?"
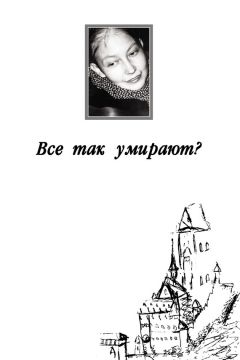
Автор книги: Наталия Кантонистова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Добрый, почти безмятежный день дорог чьим-то вниманием, запечатлевшим нашу совместность, отчего-то и это важно.
* * *
За эти годы, за долгие пребывания и короткие наезды, я был здесь, по-моему, счастлив и несчастлив примерно в равной мере. Счастье и горе просто навещали, хотя иногда оставались и после меня, словно прислуга. Я давно пришел к выводу, что не превращать свою эмоциональную жизнь в пищу – это добродетель.
Иосиф Бродский. Набережная неисцелимых
Женечка: «Я – дроздик, я – дроздик. Мама, скажи что делать-то, что делать?» – обычно после сна, ребячливо, убегая из сегодняшнего дня в безмятежность детства. То были светлые месяцы: март, апрель, май, июнь, июль. То были горькие месяцы.
Вот что сама Женечка пишет в это время своим друзьям.
Из письма доктору Шкловскому:
…Удивительно, что так долго пишу Вам письмо. На какую тему? Медицинскую? Философскую? Стесняюсь обеих. Чувствую себя хорошо, жаловаться не на что, хвастаться боюсь из соображений предрассудковых.
Весь прошедший год посвящен размышлениям о том, как надо жить и как жить дальше. Подозреваю, что хотя бы извилин в мозгу несколько прибавилось, так как количество седых волос увеличилось лишь на два; незнакомые люди на работе дают пятнадцать с половиной, принимая за дочь подруги, а кассир при входе в бассейн недавно спросила, есть ли уже шестнадцать, решив продать билет подешевле. Судя по записи в паспорте, мне двадцать шесть. Поэтому на внешнем виде год усиленной мыслительной деятельности отразился скорее как регресс.
В последнее время крепко полюбилась книга под названием «Иосиф и его братья», пленительная, конечно, не только своим сюжетом, но сюжетом в особенности. Ее герой на рубеже первого и второго томов пересматривает свои ценности, ставя их с головы на ноги (аналогично, надеюсь), правда, на все про все у него уходит всего трое суток, но и те времена – он жил задолго до РХ – думается, были не столь переполнены искушениями. Откровенно, это одна из очень немногих книг, осиленных за последнее время. Интересный и грустный феномен: количеством воли, ушедшим на то, чтобы поправиться, похоже исчерпались все имевшиеся запасы. Это подтверждается не только чтением, точнее нечтением, но и тотальной неграмотностью, с которой Вы обязательно здесь столкнетесь. Пребывание в реанимации вымыло из меня и русскую, и английскую грамматику, делаю смехотворные ошибки, которые вылавливаются spell checkom по-английски, но не по-русски. А воли на то, чтобы перечитать правила, как раз и нет. Несмотря намой продолжительный и мучительный мыслительный процесс, главный вопрос остался непонятым: по-большому счету, свобода есть?? Больше импонирует полный фатализм, но сомнения возникают все регулярней…
Из письма Оле Митрениной:
…вся жизнь беспощадно раскололась минимум на три куска – 25 лет до болезни, почти год самой болезни (эдакие романтизм и просвещение) и наступивший недавно модернизм. Попытки их склеить пока не кажутся удачными. Если это когда-нибудь произойдет, тот период можно будет назвать современностью. На сегодняшний день все желания сводятся к одному – протянуть как можно дольше – тот редкий случай, когда количество, я верю, переходит в качество; амбиции отсутствуют полностью; шум ливня, перекликающийся с пением дрозда, буйно зеленеющий в окне грецкий орех с множеством плодов и холмы в виноградниках приводят в состояние трепетного восторга. Наверное, это банальность, видеть в природе целителя, но для меня это открытие, а не штамп. Кругом все интересно, в первую очередь цветоводство, астрономия и орнитология. Но предваряются они обязательными оздоровительными процедурами, такими как плотное вегетарианское питание и двухкилометровые пробежки, являющиеся, на мой взгляд, залогом столь желанного долголетия. В таком духе жизнеутверждающей философии я могу продолжать долго.
Еще один фрагмент из письма Наташе Бражниковой:
Неужели для того, чтобы полюбить город, надо из него уехать, чтобы начать дорожить жизнью, надо ее почти потерять, чтобы зауважать работу – получить на несколько месяцев отпуск, чтобы оценить природу – годами жить в городе, проводя выходные в библиотеке или на диване, а отпуск не брать вообще…
Из письма дедушке:
Здравствуй, дедушка, жаль что предыдущее письмо не дошло, попробую еще раз. Кто не рискует, тот…
Заканчивается мой продолжительный отпуск-бюллетень. За отчетное время я приобрела следующие специальности. Парикмахер. Папа пострижен три раза. Каждый раз стрижка была все радикальнее (короче), что не значит кривее. Можно сказать, что наши прически стремятся постепенно сравняться, как две машины из учебника математики, которые выходят навстречу друг другу из пунктов А и В. Мама пострижена один раз, мама в отношении волос очень покладиста – когда отрастают, носит хвост. Кулинар. Первым опытом был пасхальный кулич. Все делалось строго по книге о вкусной и здоровой пище. Но тесто не поднялось. Последовавшая тщательная разборка показала, что была использована какая-то чрезвычайно нестандартная мука, вдобавок черного цвета. Мораль: семь раз отмерь, один раз купи. За куличем последовали бананово-финиковые булочки и пирог с ревенем. Надеюсь, это только начало.
Все сделала, как ты велел вчера по телефону; погладила «костюмчик», чтобы выглядеть как «настоящая западная дама», так это у тебя называется? Теперь важно не расплакаться в самый ответственный момент от переизбытка чувств.
Как Переделкино? Сколько собак живет на главном крыльце? С кем сидишь за столом?
Будь здоров, привет от родителей.
* * *
Сталь существует для того, чтобы выдерживать давление.
Торнтон Уайлдер
Шестого августа на очередной консультации доктор Мульвазель сказал Женечке: «Через полтора года Вы будете считаться здоровой». Эти, казалось бы, обнадеживающие слова, надорвали Женечкин душевный подъем. Они прервали движение к выздоровлению и опустошили.
С сентября 1998 года Женечка выходит на работу на полный рабочий день. Пытается справиться с ощущением аутсайдера, изгоя. Женечка изменилась, а жизнь оставалась той же, не воздавала за перенесенные страдания, а словно еще пуще наказывала за них человеческой жестокостью.
Женечкина самодостаточность изглодана болезнью, муками. Женечка восстановится, воспрянет, только ей надо помочь, хоть немного помочь. Голой души можно касаться только с лаской, нежностью, любовью. Возможно ли это? Взоры и касания чаще пытливы или равнодушны. Помнится, Женечка говорила, что одна улыбка, обращенная к ней, способна осветить весь день.
Но улыбки случаются не часто. И начинается новая пытка, пытка жесточайшим одиночеством, не добровольным, ищущим глубины, а вынужденным, подпольным. Женечка возвращается с работы с измученным и ожесточенным лицом, часто рыдает, упав на кровать. Когда я звонила из Дурбаха и спрашивала Женечку как она провела вчерашний вечер, обычно слышала: «Ничего не делала. Спать легла в половине девятого».
Нет, Женечка не склонна сдаваться, она воссоздает московский образ жизни: работа, библиотека. Вот что она пишет об этом в письме доктору Шкловскому:
Стихотворение прочту и отправлю с удовольствием, как только найду, найду, когда дойду до библиотеки, дойду до библиотеки, когда пройдет насморк. Поход, надо сказать, будет плановый. Недавно я вернулась к своему излюбленному занятию – походам в библиотеку. Вам знакомо такое времяпрепровождение? У меня оно было основным восемъ(!) лет: пять – учебы, ежевечерне, обычно вторые половины семестров, три – вечерами после работы, приурочивалось преимущественно к аттестациям в аспирантуре.
Географически, Иностранка расположена удобнее: возвращения домой по бульварам (до сих пор восхищаюсь тем фактом, что мы соседи, мы живем в доме семь на Чистых прудах), но у Ленинки фонд много больше…
Как-то приносит домой книгу Фолкнера «Как я умирала» – не знаю, прочла ли ее Женечка. Начинает посещать языковые курсы, берет уроки в автошколе.
Женечка нашла другую квартиру: с прежней хотелось бежать, столько она вобрала в себя беды. Предстоял переезд. Для обустройства и покупки необходимых шкафов Женечка берет в банке кредит, а мне объясняет: «Если не погасив долга, я умру, то, чтобы вы знали, за меня будет выплачена страховка». Я взвиваюсь, но не нахожу, что ответить.
Новая квартира Женечку радовала. Сомнений не было, квартира хороша, просторна, удобна, и так чудесно расположена – совсем рядом с парком Оранжери, рядом с работой. Вокруг дома сад: фруктовые деревья, чудесная, необыкновенно густая ель, кусты роз. Из окон видны синие горы – это наш Шварцвальд, исполинские деревья парка, красные черепичные крыши, на трубах которых часто греются аисты, доверчиво открывая нам свою жизнь и при этом оставаясь добрыми волшебными существами.
В Женечке рождается новое понимание своих стремлений и ценностей.
Вот что она пишет Паше:
…Иосиф прерван в самом начале второго тома, но надолго откладывать не хочу, слишком символична была предыдущая пауза. Напоминаю сюжет. Иосиф родился одиннадцатым сыном, но получил первородство, поскольку пользовался особенной любовью своего отца. Однако не видел в этом ничего чрезвычайного, так как упивался чувством собственного превосходства, которым без излишнего стеснения делился с братьями, до тех пор, пока братья в очередном приступе ревности не ушли из дома на расстояние нескольких дней пути пасти стада Иакова. Когда Иаков надумал вернуть сыновей, он снарядил в путь Иосифа. Последний, добравшись до братьев, был жестоко ими избит и сброшен погибать в некий высохший колодец, где пролежал три дня и три ночи, прощаясь с жизнью и страдая от физических недомоганий, а в промежутках «пересматривая ценности», до тех пор, пока случайно проходивший мимо караван его не спас. В частности, в колодце ему открылось, что он глубоко заблуждался, считая, что окружающие его безусловно любят, и небрежно относясь к братьям. Настолько глубоким показалось ему это заблуждение, что по спасении он не решился возвращаться к отцу, а восприняв спасение как новое рождение, проследовал мимо Иакова дома в чужую Египетскую землю.
Как данный пересказ библейской истории, изложенной Манном?
Женечка говаривала, что она ничего больше не будет очень сильно хотеть, не будет стремиться ни к каким конкурсам и рекордам, у нее нет больше никаких амбиций, и не влекут ее никакие ристалища. Она хочет любить близких и ищет тишины. Как если бы, оглядываясь назад, Женечка видела, что ее желания вступали в неравную борьбу с судьбой, борьбу, заведомо обреченную на поражение. А может быть, Женечка обнаружила, осознала в себе вместе с яростной жаждой жизни и платоновское ощущение мироздания: «Ничто из человеческих дел не заслуживает особых страданий, и мудрость заключается в самоотрицании и самоотказе». Недаром Женечка оспаривала слова подруги, утверждавшей, что смысл жизни состоит в том, чтобы оставить след на земле. Женечке ближе цветаевское отношение к жизни:
А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем —
Пройти, чтоб не оставить следа,
Пройти, чтоб не оставить тени
На стенах…
Может быть – отказом
Взять? Вычеркнуться из зеркал?
Так: Лермонтовым по Кавказу
Прокрасться, не встревожив скал.
А может – лучшая потеха
Перстом Себастьяна Баха
Органного не тронуть эха?
Распасться. Не оставив праха
На урну…
Может быть – обманом
Взять? Выписаться из широт?
Так: Временем как океаном
Прокрасться, не встревожив вод…
* * *
…И никого не защитила
Вдали обещанная встреча,
И никого не защитила
Рука, зовущая вдали.
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них.
И каждый раз на век прощайтесь!
И каждый раз на век прощайтесь!
И каждый раз на век прощайтесь!
Когда уходите на миг!
А. Кочетов
В это время Женечка живет в Страсбурге большей частью одна. Мы с отцом лишь завозим продукты, и я что-нибудь готовлю впрок. Присутствие родителей в эту пору тяготит Женечку, как если бы оно означало ее зависимость, неумение обходиться без них. Оно мешает утвердиться в самостоятельности, обрести волю, располагать собой безгранично. Живя той осенью в Дурбахе, спускаюсь с холма к телефонной будке услышать Женечкин голос, распознать ее настроение, приласкать, утешить, ободрить, ободриться самой.
Случается, кто-то осторожно и вопросительно окликает Женечку. И Женечка как будто готова откликнуться. Женечка учится быть терпеливой, она понимает: приближаться к ней страшновато, надо, чтобы отпал ярлык болезни, надо прятать надрыв, не брать слишком высоких нот, не делать «резких движений».
Нечаянно Женечку настигает радость – поездка в Париж со старым приятелем Жекой, жившим когда-то в Ленинграде, а теперь переехавшим в Америку «Как жить хорошо, я такая добрая!» – отзывается Женечка.
– Представляешь, мама, как здорово, ведь можно будет говорить, говорить, – не нарадуется Женечка.
Женечка тщательно подбирает костюм к поездке, немного хмурится, стесняясь этого, а потом, не умея и не считая нужным ничего скрывать, объясняет:
– Ведь Жека будет фотографировать и фотографии пошлет в Ленинград Паше. Неизвестно, как долго будут храниться эти фотографии у Паши; может, всегда.
О Женечке и Паше говорить невозможно, начинаю плакать и колотиться еще пуще. С Пашиного разрешения привожу фрагменты Женечкиных писем.
Пашенка, я была бы рада написать тебе достойное письмо в ответ, но сейчас окажется, что это невозможно, и известно почему: признаюсь тебе, что мне надо мучиться зверски, чтобы получилось что-нибудь толковое. Хотя я люблю, и не меньше, а больше, когда происходят чудеса, безо всяких стараний, а только молитвами и обязательно неожиданно, так что можно только радоваться взахлеб. Как, например, наша история, вернее ее продолжение после перерыва, и даже не оно, а каждое твое появление. Двух лет хватило, чтобы я почти перестала надеяться, и тем сильнее была радость, когда ты приехал, и она не слабеет, по мере того, как звонит телефон, поскольку привыкнуть к твоей благосклонности теперь, увы, я не в силах. А в промежутках твое любимое «я так один» или «нет одиночества больше, чем память о чуде» – что то же самое.
Я помню прекрасно все подробности нашей тогдашней встречи, – конечно, я переживала настоящее событие. И как ты первый раз открыл рот, усадив нас пить чай у себя дома, и как мы шли в тот же вечер втроем по Каналу уже к себе, и ты рассуждал о цветовых эффектах неба над собственным городом (я не могла вспомнить тогда ничего о московском небе, это был полный идиотизм: все помнят все цвета неба над своим городом), и все взгляды, и то самое знаменитое ощущение сквозняка под ребрами, и прощание. Я много думала о тебе все это время. Такие встречи случаются редко, и я бережно храню о них память. Еще не знаю, зачем ты приехал на этот раз, но догадываюсь, что произошло новое чудо, и приятно, что вместе с ним появилась возможность во всем признаться.
Я начала письмо до Нового года (несколько строчек); тогда у меня не было елки, теперь она есть – маленькая ароматная красавица, похожая на птицу, с привязанными к ней сосновыми шишками, нелепо, но если не быть ботаническим педантом, то смириться можно. Она – единственное, что напоминает о празднике (любимом празднике), потому что настоящего новогоднего настроения нет. Наверно, у вас в Ленинграде по-другому.
Ты, кажется, не хотел больше писать мне. Поэтому я не жду ответа.
Паша, я не знаю, как ты отличаешь декабрь от января и различаешь ли их вообще (ну, конечно, конечно различаешь), для меня не существует двух более контрастных соседних месяцев. В декабре праздник; это не означает, что в декабре веселье – праздник может быть грустным, но благодаря ему все события торжественны и каждое знаменательно, и им не только раздается смысл, – самые безобразные облагораживаются, самые трагичные возвеличиваются, их в декабре проще пережить. Декабрь – универсальный, январь – пустой. По цвету декабрь – черный с желтыми огнями, январь – белый. Все хоть сколько-нибудь замечательное, относящееся к январю, темнее этой белизны, поэтому с январем быть бы поосторожнее, чтобы не перепачкать, не дай бог.
По-моему, идея критиковать трогательные и беззащитные, абсолютно искренние девичьи письма отвратительна. Во-первых, злой критик по-другому называется палачом. Кроме того, это крайне неэстетично. Проглоти, Паша, все мои недостатки, закуси губу и подумай о несовершенстве мира, но недолго, Пашечка, и не делись ни с кем своими мрачными мыслями, они всем знакомы и без твоей подсказки. <…> Вот видишь, я не успела дописать, а кротость моя уже вернулась. Тем лучше – я успела по ней соскучиться.
Паша, я обещала написать тебе про стихи. Например, что хорошие или что понравились. Слава Богу, ни то, ни другое. Ты скажешь, что это проявление материнских чувств, потому что и они и все, что я с ними связываю, делают меня гордой. Эта гордость в первую очередь именно интуитивная, так как скорость, с которой я через них продираюсь, и их понимание весьма скромны, будучи естественным образом ограничены моими умственными способностями. Я надеюсь, что она станет более осознанной по мере того, как я буду бороться со своим невежеством. А пока мое трепетное к ним отношение помогает мне полюбить их крепко, что уже произошло с некоторыми и, все к этому идет, произойдет с остальными.
Майский воскресный вечер; она, всеми покинутая, отправляется одна-одинешенька бродить по городу и забредает на выставку; там ее видит он, начинает неотступно преследовать; она уже обратила на него внимание, но он ей ни капельки не нравится, напротив, даже раздражает; она сердита на весь мир, ходит, шаркая, сутулая, хмурая, кусая губу; наконец, он решается подойти… Все как в плохом кино. Но несколько месяцев подряд я была им увлечена, хотя довольно вяло. Эдакий бразильский дипломат, который после учебы был послан на 3 года с «миссией» в NY, но после страны категории «А» в страну категории «А» не попадешь, поэтому мы и встретились в Москве. Обаятельный красавец, обаятельный несмотря на то, что улыбался одними глазами, полноценная улыбка была недопустимой роскошью, признав меня в первый вечер, он уже со второй встречи стал смотреть на меня с бесконечным удивлением. Я дурачилась неустанно, а как еще я могла себя вести с этим экзотическим экземпляром, стопроцентной флегмой, которая не в пример другим флегмам, могла говорить часами, причем профессионально, и которая оживилась только раз, случайно услышав родной латиноамериканский напев. Все кончилось тем, что он так и не перестал мне удивляться, а мне надоело преодолевать его замкнутость. Точнее, ничем не кончилось, так как и не началось ничто, как будто встретились случайно взглядами, а потом ходили друг за другом по улицам, заходя в одни и те же магазины и кафе, отдыхая на одних и тех же скамейках, но руководило нами не что-то необыкновенное, не любовь, а, наоборот, самое тривиальное, сугубо психологическое, – возможно, какое-то чувство причастности, не знаю к чему, наверно, ко всему. Потом пришло время возвращаться домой. А на следующий день мы обходили все те же места, но уже безотносительно друг друга. А спустя еще немного, я как раз и прочитала у классика про него: «…в своих пиджаках, и галстуках, и белых рубашках, оттеняющих их напряженные шоколадные мордочки. Не люди, а какая-то помесь обезьяны и попугая». И поскольку некоторая досада на несбыточность некоторых желаний все же присутствовала, то она и развеялась, тем более, что подобным классикам я давно приучилась верить.
Пора отправлять тебе письмо и, наконец, читать твое. Только все же, что странного ты нашел в моем металлическом голосе? Все так понятно! Из-за невозможности видеть тебя, когда хочется, нарушать твое пространство, отвлекать твое внимание от всего, кроме себя самой, очень хочется отстраниться от всего, что с нами было, и заполучить все завершенным, целеньким, время от времени раскладывать все на ладони и рассматривать со всех сторон, а потом прятать в сундучок. Нормальное желание невротички – закончить эту историю, растянутую во времени и не насыщенную в пространстве.
Вдобавок ко всему новая напасть. Если раньше новое время суток и новое время года, когда они появлялись неожиданно и могли быть узнаны по соответствующим запахам, звукам или освещению, и вызывали определенные воспоминания или ассоциации, хотя и были волнительны, они были весьма ограничены, с годами их накопилась целая бездна, и теперь, пронаблюдав в феврале два летних запаха, под их тяжестью я совершенно отчетливо ощутила, как у меня сильнее искривился позвоночник, я уже не сутулая, а почти горбатая, хотя ноги до сих пор переставляю довольно шустро.
По остальным поводам я пожалуюсь тебе при встрече, а пока ужасно любопытно прочитать, что произошло с тех пор, как она, навестив его в Укбаре, вернулась в свой Тлен к идеализму и чистым поступкам, в мир, лишенный существительных.
Во дворе льет дождь, как, наверно, тогда лил, когда ты сидел в моем вонючем подъезде летом. Но там нет ни башни, ни облака-озера, – один платан (платаны совсем не такие), висящий на фонаре. Мне виднее, слишком скромный у меня двор, чтобы вмещать такие роскошества. В нем есть место только детям, играющим в кошки-мышки. Я до сих пор маюсь в центре круга эдакой взъерошенной мышью в растрепанных чувствах, кот давно про меня забыл, у спасителей-хранителей руки устали, но они из упрямства не уходят: один, раскрыв рот, поит нас с Симой чаем, другой стоит перед моей квартирой вместе в корешами и Жекой в их числе, бледный, как смерть, ест в Стрельне мороженые яблоки, спит, уткнувшись в мой затылок, редактирует моего Гоффмана. <…>
Скорее, следовательно, у меня есть мои башня, озеро, облако в виде Исаакия, дыма от Союза-Аполлона и, например, Невы. Так что жду, когда ты меня отпустишь. Вспомнила еще, что проводила тебя летом домой, сходила на Матисса, а потом ждала начала фильма «Коровы» в Новороссийске, пыталась тщетно – изобразить твою физиономию на куске оберточной бумаги, видишь есть у меня твои портреты, хотя нет фотографии.
* * *
Теперь представим себе абсолютную пустоту.
Место без времени. Собственно воздух. В ту,
в другую и третью сторону. Просто Мекка
воздуха. Кислород, водород. И в нем
мелко подергивается день за днем
одинокое веко.
Иосиф Бродский
Женечкины костюмы, застигнутые врасплох. Вот они в шкафу, как лоскутья ободранной кожи. Смотрю на них, перебираю, зарываюсь в них лицом, вдыхаю родной запах, ничего не понимаю. Я помню, в какой день, по какому поводу, с каким настроением они надевались, как соответствовали Женечкиному облику или меняли его. В карманчиках, обычно левых, лежат проездные билеты, иногда деловые записки. Говорят, одежду надо раздать – легче будет.
Зачем мне легкость? Мне счастье, мне мука: кружить по квартире, перебирать, касаться, трогать… Записные книжки, иногда в них натыкаешься на выписанные Женечкой строки… Тетради с конспектами по теме Женечкиной будущей диссертации… Книги, привезенные из Москвы и полученные позже в подарок, иногда с закладками на каком-то важном для Женечки месте, иногда в них открытка с видом какого-то города, билетик на метро или на поезд. Тогда можно сообразить, когда Женечка эту книгу читала. Книги, раскрытые на той или иной странице, книги, которые Женечка прочитала и поделилась с кем-то особенно важным, книги не прочитанные, ждущие своего часа… Энциклопедии, справочники, словари, путеводители, рабочие дневники… Письма, посланные Женечкой друзьям и подаренные мне в копиях, фотографии, Женечкины и важных в ее жизни и любимых ею людей…
Красная тумбочка, облюбованная и приобретенная Женечкой будто в награду себе за муку в период между второй и третьей «химией»… Любимое кресло у окна, откуда видны черепичные крыши и аисты… Кровать, нежившая Женечкин сон, на которой она умирала… Картины, будоражащие потоками излучаемого света, – на них возлагались ожидания помощи и поддержки… Медицинские папки с результатами анализов, выписками из больницы, перепиской с врачами… Ящик, полный лекарств… Уютные пледы, синего и терракотового цвета, диванные подушки, рыжая бархатная и рыжевато-зеленая с орнаментом в турецкий огурец, таких же цветовых сочетаний покрывала на кровати и кресле… Кухонная утварь (последняя Женечкина покупка, принесенная с рынка, – ложечка для заварки чая), посуда: две главные кружки для ежедневного морковносвекольного сока: одна – синяя, из Дурбаха, другая – зеленая, страсбургская… Зубная щетка, баночки с кремом, шампуни, духи, заколки, шкатулка с украшениями. Гибкие домашние тапочки, живой негой облегающие ножку. Почему они всегда так пугали хрупкостью, обреченностью, неопровержимостью гибели. Их неподвижность, застылость в сброшенной с ноги позе, только что бывшая движением. Все казалось, они остановились навсегда в своем последнем движении… И та заповедная шкатулка, а на вид обычная, с пуговицами, иголками, нитками. После долгого-долгого перерыва я отправилась в нее за нитками и иголками. В шкатулке был порядок, Женечкин порядок, а на дне лежала малюсенькая глиняная фигурка. Я не сразу поняла, что это, и вдруг осенило, вспомнила. Мы по какому-то поводу ели пирог с сюрпризом, постарались, чтобы сюрприз достался Женечке – то была крошечная фигурка старушки. Я тогда выкрикнула эдак запросто: «Быть тебе, Женечка, бабушкой», – порадовавшись своей находчивости. Сейчас нестерпимо больно.
Больно вдвойне от того, что поспешила своими словами обозначить такое естественное, а для нас мало достижимое и невероятно желанное – быть бабушкой, и от того, что вовсе не суеверная Женечка эту фигурку, увидев в ней талисман, оберег, сохранила, бережно уложив на дно шкатулки. Кружишь по этому Женечкиному земному пространству, обнимаешь все целиком, проводишь руками по корешкам книг, берешь в руки, обнимаешь какую-нибудь маленькую «штучку», застываешь, вспоротая воспоминанием – вспоминаешь, вспоминаешь, вспоминаешь.
«Ни печали, ни страха не надо, если в Вас нет ничего общего с другими людьми, будьте ближе к вещам, и они вас не покинут… – говорит Рильке. – Все ближнее удалилось от Вас – значит Ваша даль уже под самыми звездами и очень обширна, радуйтесь росту Ваших владений, куда Вы никого не возьмете. И будьте уверены и спокойны в общении с ними и не мучайте их Вашими сомнениями, и не пугайте их Вашей верой или радостью, которую они не могут понять». Как тихи, как покойны эти слова, на миг и сам затихаешь, прислушиваясь, не умея войти в их заповедник.
Мне счастье, мне горе – написать слово «мама». Еще пронзительнее услышать: «Мама», – зовет Женечка, такое случается – и на кромке сна, и наяву, порой прямо на улице. Мне счастье, мне горе – произнести твое имя – Женя, услышать из уст любящего тебя – Женя. Один премудрый человек, священник Георгий Чистяков, сказал мне: «Может, мы нашим детям, тем, которые ушли, еще нужнее». И еще сказал, всем сказал: «Пройдя через невыносимую боль, человек начинает верить в жизнь вечную». Хожу по миру, побираюсь крохами чужой мудрости, жду прозрения, и брезжит где-то вера легкими такими, убегающими от взора, облаками.
А сейчас самое нужное и важное для меня в словах отца Георгия – признание того, что можно и так: быть мамой, быть нужной ушедшему своему ребенку, мамой-сиротой и все-таки мамой. Как Женечка тогда сказала: «Мамочка, ты всегда будешь моей мамочкой?» Женечка, верно, тоже как раз об этом говорила. А я опять о своем. Есть же такие прижизненные и пожизненные звания: вдова, вдовец – людей и во внешней, земной их жизни не разъединяющие, а соединяющие. Маленький человек, твоя мама, Женечка, никак без внешнего обойтись не может. Разве мало мне нашей внутренней неразрывности? Разве мало мне твоего вопроса, а по сути, упреждающего мой вопрос ответа? Потому что знала ты грядущий мой вопрос, и знала всю мою слабость, и хотела облегчить мою участь ответом – признанием того, что всегда, всегда я буду твоей мамой, Женечка моя. И потому я буду всегда твоей мамой, моя маленькая, потому что ты, Женечка, пребудешь всегда.
Женечка моя, я тщусь добраться до заоблачных высот, до глубины схороненного внутри колодца, «хорохорюсь» (твое слово, Женечка), а мне все мало… Мне необходима ты здесь, сейчас и всегда, я не доросла до твоей великой вечности. Знаю, что дорасту только в смерти. И еще мне надо понять слова Толстого: «Жить надо всегда так, как будто рядом в комнате умирает любимый ребенок. Он и умирает всегда. Всегда умираю и я».
Женечка, послушай меня, я прочту тебе строки Бродского:
Мать говорит Христу:
Ты мой сын или мой Бог?
Ты прибит к кресту.
Как я пойду домой?
Как ступлю на порог,
не поняв, не решив:
ты мой сын или Бог?
То есть мертв или жив?
Он говорит в ответ:
Мертвый или живой,
разницы, жено, нет.
Сын или Бог, я твой.
Эти слова, Женечка, – мое заклинание, моя сегодняшняя молитва, забегающие вперед непонимания моего, я им просто отдаюсь, этим словам, и они меня куда-то ведут, туда, где светло, туда, где ты, моя маленькая.
* * *
Я не хочу плохо думать о людях, но любовь, как известно, серьезней политики, так что не мешает все предусмотреть и поостеречься.
Булат Окуджава
Женечка едет с приятелем в Париж. Женечке с ним легко, свободно, уютно. Они обходят весь город. Женечка, уже бывавшая здесь, показывает Жеке свои излюбленные уголки, любимый Люксембургский сад, потом приятель скажет, что Париж для него – это Женечкин Париж.
В следующий раз Женечка едет в Париж одна, на выставку фаюмского портрета в Лувре, обходит и художественную ярмарку в квартале Маре.
Перекусывает в кафе, рядом нарядная старушка обращается к Женечке:
«Отчего вы так грустны? Вот Далида трижды пыталась покончить с собой, на третий раз успешно».
Женечка привозит из Парижа альбомы, картину: два суровых лица – мужское и женское, в них твердость, бесстрашие, отдельность и неразрывность; две прелестные картинки, влекущие безымянными тайнами цвета и света; подарки и маленькую бархатную шляпку, в которой отправится в свою последнюю больницу.
Вручая мне подарки: замечательной красоты крест и легкий, радостной расцветки шарфик, Женечка строго говорит: «На следующую художественную ярмарку, что состоится в апреле, поедешь ты». Одарить сразу всем: чудесами, надеждой, будущим – это твое, Женечка. И в последний раз Женечка в Париже в обществе коллеги Томаса и подруги Оли, которая и затеяла эту поездку и пыталась, как могла, снять напряжение, возникающее от новизны такой компании и невнятности взаимных ожиданий. Оле это отчасти удается. И перед Женечкой предстает цветущая земная реальность: прогулки, Париж под дождем (когда идет дождь, Женечка вместо зонтика надевает свою бархатную шляпку), комплименты и песенки Томаса, рисующего Женечкин портрет, доверительные разговоры, кафе, Гранд-опера, дискотека.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?