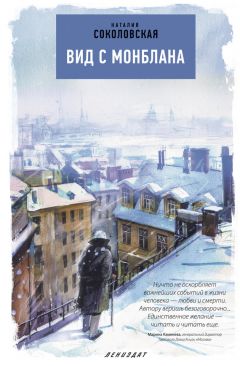
Автор книги: Наталия Соколовская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Нетушки, – сказал сын.
Оказывается, на уроке истории им рассказывали про средневековые крепости, где внутри толстенных стен были проделаны тайные ходы. Они опоясывали всю крепость сверху донизу, как серпантин, и спускались в подземелья. И даже если враг занимал крепость, жители могли внутри этих стен продержаться до лучших времен.
Может быть, что-то подобное им и рассказывали. А может, у него по наследству просто «расходилось воображение». В любом случае, метафора показалась мне обнадеживающей. У меня было время подумать об этом за время длинной дороги – сначала в трамвае, потом в метро.
Августин дом никогда не был конечным пунктом моего путешествия. За те почти тридцать с лишним лет, что я приезжала к Августе, он стал казаться мне перевалочным пунктом. Соседи умирали или съезжали, появлялись новые, начинали узнавать меня, здороваться при встрече. Дети, которые вчера еще ходили в детский сад, сегодня вдруг заканчивали школу. Ощущение временной ловушки преследовало меня здесь…
Как-то, уже незадолго до смерти, Августа попросила повозить ее по городу, сказала: «Хочу кое-что проверить».
Я «арендовала» подругу с машиной, и мы поехали кататься. Сначала в Гавань, «подышать заливом», потом через Большой проспект Васильевского острова («Мои Елисейские поля», – выражение Августы) в центр города, оттуда уже – на Обводный канал, к «тому дому».
Стоящий в глубине двора, наш старый трехэтажный дом показался мне маленьким, почти игрушечным. Балкон, с которого мой прадед пел куплеты Мефистофеля, был застеклен, и упражняться в вокале теперь можно было сколько угодно, без всякой надежды или боязни быть услышанным.
Возвращались мы по набережным. Когда ехали мимо Сенатской площади, Августа махнула рукой в сторону Медного всадника:
– Видели что-нибудь подобное?
– Что? – мы с подругой одновременно повернули головы, не понимая, какой подвох может таить городская достопримечательность.
– Змея. Вот что. Конь попирает ее копытом и одновременно опирается на нее. Зло, без которого все рухнет. «Давить нельзя оставить». Именно так. Запятая по усмотрению. Редкой наглядности монумент.
И за весь обратный путь Августа не проронила больше ни слова.
– Славненько покатались, – заметила подруга, когда мы отвезли Августу домой. – Дай ей волю, она откачала бы весь окружающий воздух и заменила новым.
Вскоре Августа легла в больницу, но пробыла там не долго. Безнадежных у нас лечить не принято. Вернувшись домой, она позвала меня, «чтобы обсудить один важный вопрос».
Она сидела в кресле и курила. По ее голым опухшим ногам стекала вода. Полотенце, подложенное под ступни, было влажным.
Я знала, что к Августе приходит медсестра и втыкает ей в ноги иголки, потому что никакого другого способа выгнать жидкость из организма не было. И теперь жидкость, через проделанные точечные отверстия, уже без всяких иголок, продолжала стекать с Августиных ног. Зрелище было жутким.
– Вот, – сказала Августа, – вот мой «возраст дожития», так ведь это у вас теперь называется, и подходит к концу.
И тут я произнесла самую пошлую фразу из всех возможных.
– Все будет хорошо, тетя Августа.
Августа смотрела на меня сквозь клубы дыма с досадой:
– Будет врать-то. Я врач как никак.
Она докурила сигарету, взяла чистое полотенце и промокнула влажные голени.
– Вот он… – Августа стала рассматривать полотенце на свет. – Вот он какой. Без цвета и запаха. Невидимый. Неощутимый.
– Тетя Августа…
– Что, «тетя Августа»… Страх мой, говорю, из меня выходит. Да все не выйдет никак. А ты… «Все будет хорошо…» Прямо как бабушка моя, а твоя прабабка…
Я решила, что Августа заговаривается.
– Думаешь, я умом поехала? Еще чего. Подай-ка мне бинт со стола. – Августа ловко вскрыла бумажную упаковку и начала профессиональными движениями перебинтовывать себе ноги. – В ноябре сорок первого мы с бабушкой из булочной возвращались. Ничего нам не досталось, кстати. Очередь отстояли на морозе, а хлеб перед нами кончился. Идем назад, и тут налет. Мы в бомбоубежище не успели, встали в ближайшую подворотню. И вдруг как ахнуло. Земля ходуном заходила. Я думала, может, в наш дом попало. Но нет. В соседний. На месте которого потом детский сад выстроили. Пока вы не переехали, ты в него ходила… Так вот… Мы из подворотни вышли, а мимо уже машина с дружиной ПВО едет. Мы за угол свернули, смотрим, а от того дома, в который бомба попала, одна стена и осталась. Пыль оседать начала, и я вижу – на самом верху, на узеньком выступе, стоят, держась за руки, женщина и девочка. Только они из всего дома и уцелели. – Августа закончила бинтовать свои ноги, и теперь сидела, кутаясь в плед. – Как я обрадовалась: «Живые! – кричу. – Живые!» Люди из соседних домов начали выходить, дружинницы стоят, все молча вверх смотрят, на женщину и девочку… И ни одной лестницы нет, чтобы снять их оттуда… Бабушка вздохнула и прочь меня повела. Вот с этими самыми словами: «Все будет хорошо. Все будет хорошо».
Это был один из самых длинных монологов, который Августа произнесла за все время, что я знала ее. Но он оказался неоконченным. Августа снова закурила и продолжила:
– Я позвала тебя о квартире поговорить. Хочу отписать ее Муське. Что скажешь?
Что я могла сказать? Та женщина с девочкой, стоящие на выступе, на последнем этаже, они все еще были у меня перед глазами. И я быстро, чтобы только освободиться, ответила:
– Конечно. Делайте, как считаете нужным.
Видимо, Августа надеялась, что этим последним жестом она окончательно выталкивает меня из того магического круга, в котором находилась сама.
…Через месяц Августа умерла. Я приехала по звонку Муськи.
Августа лежала в постели. Простыня была мокрой. Я достала из шкафа широкое полотенце и обвернула им Августины ноги. Потом оглядела спальную. Того, что я искала, нигде не было.
Муська перехватила мой взгляд.
– Да-да, золотишко у вашей тетушки имелось. Муж ей дарил на дни рождения, она рассказывала. Но все в начале девяностых распродать пришлось, на пенсию-то не прожить было.
«Надо же, – подумала я, – со мной Августа никогда не входила в такие житейские подробности».
Полагаю, расставаться с «золотишком» ей было не сложно. Меня оно тоже не интересовало. Мне нужны были Августины серебряные браслеты. Они оказались у нее под подушкой.
Пришла врач из поликлиники, заполнила положенные бумаги, вызвала по телефону спецтранспорт.
Через час приехала старая «газель», чтобы везти Августу в морг. Шофер, коротко просигналив, так и не вышел из машины, чтобы помочь нам. И мы с Муськой, взявшись с двух концов за простыню, стали выносить Августу.
Я думала, что она будет легкой. Но она оказалась очень тяжелой, и я все боялась, как бы не лопнула простыня, пока мы спускаемся с пятого этажа.
На улице я заметила, что полотенце, в которое были завернуты Августины ноги, уже промокло.
…Мы похоронили Августу через три дня. Участвовать в поминках, которые устраивала Муська («Нет-нет, что вы, никаких денег, это мой святой долг»), я не стала.
А вчера исполнился год Августиной смерти. Позвонила Муська, спросила, поеду ли я на кладбище. Начало дня было душным, тяжелым. Собиралась гроза. Я сказала, что нет.
Я была дома, слонялась по квартире, а Моямарусечка ходила за мной по пятам. Она всегда чувствовала приближение грозы.
Я думала об Августе, о том ее решении с квартирой. Я давно поняла, что ничего из ее замысла не получилось, и что те две комнаты в коммуналке на Обводном канале, где родились и выросли она и моя мама, превратились потом вот в эту нашу малометражку. И это означало, что истинной правонаследницей Августы, хотелось ей того или нет, – была я.
К вечеру громыхало уже совсем близко, и долгожданная прохлада стала проникать через открытую балконную дверь вместе с порывами ветра.
Я подумала, что хорошо, если б сын успел вернуться из института до того, как начнется ливень, и в это время он позвонил.
Я бросилась в прихожую, и услышала, как за моей спиной сквозняком захлопнуло дверь в комнату. И одновременно услышала крик. И обернулась.
На полу лежала Моямарусечка. Она была похожа на подломившийся под собственной тяжестью цветок пиона с Августиной клумбы.
Мы с сыном опустились рядом с ней на колени и стали уговаривать ее не умирать. Моямарусечка открыла глаза и тихонько посвистела нам, точно подбадривая.
Потом мы везли ее на такси в частную лечебницу, такую, где был рентгеновский аппарат.
Когда я увидела на мониторе компьютера грудную клетку Моеймарусечки, то удивилась, до чего она похожа на мою собственную, с того, школьной поры снимка.
Врач объяснил нам характер повреждений и поднес к голове Моеймарусечки маленькую кислородную маску.
Моямарусечка встрепенулась, стала цепляться лапой за мои пальцы и что-то быстро-быстро говорить на своем птичьем языке. Через несколько минут она умерла.
Мы решили подхоронить Моюмарусечку к Августе. Мы положили ее в коробку из-под Августиных туфлей, которые я с удовольствием донашиваю, они пришлись мне впору, и вот – едем.
Сначала на трамвае. Потом в метро.
Мы сидим, притулившись друг к другу. Сын держит на коленях коробку.
Дорога впереди длинная.
Моцарт в три пополудни
Она всегда была такой. Нескладной, с большим туловищем, большими ладонями и ступнями, карими, широко поставленными на широком лице глазами и полуулыбкой на толстых губах. Она никогда не была на море, но ей в голову не приходило жалеть об этом. Иногда ей снилось, что она плывет, и не в замкнутом самодельном водоеме неподалеку от их садового участка под Александровкой, а в чем-то подвижном, и тело ее делалось ловким и легким. Но сны эти прекратились еще в детстве, плавать Тамара так и не научилась, а воду любила проточную, из крана.
У нее никогда не было выходных туфель, кроме тех, что купила ей бабка на окончание ПТУ, кремово-нежных, с модной металлической пряжечкой. Радость подарка портил обидный плоский каблук. «Чтоб не навернулась, дурища такая», – пояснила бабка, пряча в шкаф мятую картонную коробку. Стоимость этих первых и последних выходных туфель Тамара запомнила навсегда: девять рублей пятьдесят копеек на старые деньги. Жали туфли самым немилосердным образом, хотя ширина была выбрана большая. Жали так, что ныло сердце. Похожее она испытала в шестом классе, когда мальчишки хотели запереть ее одну в кабинете биологии, где стоял обглоданный человеческий скелет. От страха остаться в закрытом помещении неловкая Тамара успела подставить ногу в щель, а тайная ее симпатия отличник Ладушкин все тянул и тянул на себя дверную ручку, хотя прекрасно видел и зажатую ногу, и сверху вниз обращенный на него страдающий Тамарин взгляд, и ее толстые, лодочкой-полуулыбкой сложенные губы, в которых так удобно было скапливаться слезам.
Туфли Тамара надела еще раз на собственную свадьбу, когда пряжки опять вошли в моду. Теперь туфли жали еще сильнее, а сердце продолжало ныть и после того, как Тамара, вернувшись с Виталиком из загса, стянула их с опухших ступней и сунула в помойное ведро, будто знала: ничто подобное ей больше не пригодится.
А последние годы Тамаре стало сниться, что она беременная. Это был трудный сон, хорошо, что повторялся не часто. В этом сне Тамара клала руку на живот и прислушивалась, шевелится ли ребенок. Различив толчки, она успокаивалась. Но чаще под ее ладонью ничего не происходило. Какое-то время Тамара лежала в своем сне тихо и надеялась на чудо. Потом сердце тоскливо запрокидывалось, горло сводила судорога, она всхлипывала и просыпалась.
* * *
Было пять утра. Батареи шпарили, гоняя по комнате душные волны. Тамара несколько раз глубоко вздохнула, стараясь унять сердцебиение. «Вот окаянные… Газ сжигают. Еще до середины мая терпеть. Оттого и сны такие снятся. Отчего же еще…»
Она спустила на пол тяжелые, венозной сеткой оплетенные ноги, вслед подтянула большое туловище и так, в два приема, встала. Разношенными босыми ступнями прошлепала в ванную. Не включая света, отвернула до упора холодный кран, долго стояла, подставив под струю руки, потом обтерла шею, лицо, грудь. Ворот ночной рубашки намок, но это было приятно. Она снова подставила руки под кран. Проточная вода ее успокаивала.
В кухне она допила чай, оставшийся с вечера. Огибая мебель большим телом, дошла до окна, раскрыла форточку настежь и зажмурилась от удовольствия: воздух был прохладный, с запахом народившейся тополиной листвы. Окна дома напротив блистали отраженным светом зари. «Точно в церкви». Тамара вспомнила, как ходила святить вербу и горячо светящиеся оклады иконостаса. Пока она любовалась окнами, с востока натянуло тучи, солнце спряталось, а к запаху листвы примешался запах близкого дождя.
В Женечкиной комнате работал компьютер.
– Ты что же, и не ложилась совсем?
Женечка повела плечом:
– Да ладно, мам. Еще немножко. Спи.
– На занятия же…
– Сегодня к третьей паре. Закрой дверь, если мешает.
– А что мне должно мешать? – удивилась Тамара.
Звук, идущий от компьютера, был приятным, похожим на шелест листвы за окном. Она разглядывала прямую спину дочери, ее слегка запрокинутую голову. Поза эта что-то напоминала Тамаре, что-то виденное по телевизору, значительное и таинственное.
Дверь в комнату дочери она закрывать не стала. Ей казалось, что это отделит их друг от друга. Сначала таким отделением было, когда она перестала кормить. Тамара вспомнила недолгие ночные кормленья, тельце ребенка возле груди, приглушенный свет ночника, вспомнила, как засыпала и потом просыпалась оттого, что девочка сама находила грудь и опять начинала сосать.
Бабка злилась, когда Тамара ночью брала девочку в постель. «Коровища, заспишь ведь ребенка!» – она трясла Тамару за плечо, и от руки ее привычно било электричеством. Тамара вставала, перекладывала Женечку в детскую кроватку возле изголовья своей тахты, протискивала руку между деревянными прутьями и дальше спала так.
Когда Женечка подросла, место детской кроватки заняло раскладное кресло. После смерти бабки Женечка вместе с креслом перекочевала в освободившуюся комнату, а железную кровать, на которой померла бабка, Тамара снесла на помойку.
Теперь, откинув край одеяла и белоснежной крахмальной простынки, Тамара сидела рядом с дочкой, ждала, пока та заснет, и только потом с сожалением уходила.
В открытую дверь Тамара слышала все Женечкины шевеленья, сопенья и, не дай бог, покашливанья. Она спускала на пол тяжелые ноги и шла к девочке либо подоткнуть сползшее одеяло, либо сменить влажную, сладким детским потом пропитанную рубашечку. Дочь выросла, но по молчаливому уговору дверь между их комнатами не закрывалась.
До будильника оставалось полтора часа. Тамара вздохнула и принялась разглядывать свои руки. Лежащие на груди поверх одеяла, они воспринимались как посторонние, отдельные от нее предметы. Она вдруг подумала, как руки эти будут в гробу. Остальное свое тело она не знала и не любила его. И лицо свое почти не знала, выхватывая то щеку, то нос, то подбородок, пока чистила зубы в ванной напротив узкой зеркальной полочки. А вот руки всегда были у нее перед глазами, и ей стало жалко их. Тамара пошевелила толстыми пальцами со сморщенными от постоянного пребывания в воде подушечками. «Так и остались. На всю жизнь мою. Интересно, когда помру, разгладятся?»
Мысль о смерти оказалась настолько страшной, что захотелось кричать. Тамара беззвучно крикнула раз, еще раз. Крики внутри нее напоминали крики чаек, прилетавших на окрестные помойки. В голове у Тамары все в этот ранний час путалось, перескакивало с одного на другое. Были это не мысли, а сполохи памяти. Так ночью выхватывали угол ее комнаты фары въезжавшей во двор машины.
Подумав про чаек, Тамара тут же вспомнила смерть Дуськи. Последний год кошка начала болеть. В ветлечебнице сказали, что онкология, лучше не трогать, и предложили усыпление. Но усыплять, к тайному Тамариному облегчению, не позволила Женечка.
Тамара ухаживала за кошкой, вливала ей в глотку подсолнечное масло, когда та отказывалась от пищи, всыпала истолченные таблетки «на корень языка» и с некоторым даже уважением посматривала на Дуську, у которой оказалась не просто человеческая, а «женская» болезнь. Кошка исхудала, шерсть ее стала неопрятно-мятой, и ходила она, покачиваясь на плохо гнущихся лапах.
Месяц назад Дуська, привыкшая спать под Тамариным боком, забраться на тахту не смогла, а Тамара помогать не стала, потому что Дуська страдала недержанием и Тамара замучилась отстирывать простыни и пододеяльники с бледными разводами кошачьей мочи. Ночью Дуська несколько раз начинала скрестись, цеплять когтями обивку, пока, сжалившись, Тамара не положила ее рядом с собой.
А под утро Тамаре приснился крик чаек. Это был резкий крик возле самого уха. От страха Тамару подкинуло. Кричала по-птичьи тоскливо Дуська. Вытянувшись на одеяле и задрав сведенную судорогой шею, она через равные промежутки времени издавала сиплые возгласы, похожие на крики чаек, и при этом перебирала лапами, точно плыла.
– Сделай что-нибудь, мама!
Женечка стояла в дверях, прижав к щекам ладони.
– Так что ж, доча, что ж теперь сделать…
Тамара сунулась в аптечку за анальгином, чтобы хоть как-то облегчить Дуськины страдания, но Дуська опять сипло закричала, и было ясно, что никакое лекарство в это сжатое смертью горло уже не протолкнуть. Тогда Тамара стала растирать Дуськину шею, чуть ниже побелевших ушных раковин. Наверное, это помогло, потому что кошка обмякла и задышала спокойнее. Но еще через минуту по Дуськиному телу прошла мелкая брезгливая судорога, точно кошка хотела отряхнуться от тела, причинившего ей столько мук. Дуська дернулась еще раз и, напрудив на одеяло теплую, без цвета и запаха лужицу, умерла.
Тамаре захотелось перекреститься, но она представила вдруг, что сказала бы по этому поводу бабка, и креститься не стала, а только закрыла кошке глаза и, пока та не остыла, сложила в клубочек ее тело, чтобы хоронить было удобнее.
…Тамара слизнула скопившиеся в уголках губ слезы, повернулась на бок.
Она лежала, вытянув ноги, туловищем чуть подавшись вперед. И это была в точности та поза посудомойки, в которой она последние двадцать лет своей жизни стояла над двойной раковиной в дошкольных и школьных учреждениях, куда ходила Женечка. Исполнительную бесконфликтную Тамару взяли бы и нянечкой, а то и завхозом, но она осталась посудомойкой. И теперь, когда Женечка заканчивала третий курс университета, Тамара опять мыла тарелки в школе, в той, которая ближе к дому.
* * *
Мать свою Тамара знала по нескольким уцелевшим фотографиям, где та была или пупсом с локонами, или школьницей с упрямо задранным подбородком и дерзким взглядом. Остальное было покрошено бабкой в капусту портновскими ножницами на глазах рыдающей от ужаса пятилетней Тамары. Причем в памяти Тамариной явственно сохранились искры, летевшие от бабкиных рук.
Все письма матери «оттуда», пока они оттуда еще приходили, уничтожались бабкой нечитаными. Это был полный обрыв связи в прямом и переносном смыслах. Сохранилась, правда, завалившаяся за ящик комода фотография белокурой светлоглазой красавицы лет двадцати трех. Но ее Тамара нашла уже после бабкиной смерти. Тамара вглядывалась в веселое лицо матери, с тоской рассматривала крупноголовую некрасивую девочку на ее коленях и думала, что правильно мать сделала, когда неожиданно для родителей зарегистрировалась с кубинским врачом-стажером и в чем была (за вещами бабка ее не пустила) отчалила на остров Свободы.
Все, что в матери было красиво, – широко поставленные, с шальным блеском глаза, высокие скулы, полные, с натянутой блестящей кожицей губы, легкая кудрявость – все это в Тамаре становилось уродством. За большой рост и мелко вьющиеся волосы в школе Тамару дразнили непонятной «верстой коломенской» и неприятной «Анжелой Дэвис».
И по сей день Тамара была уверена: мать сбежала в другую жизнь, чтобы не видеть ее, страхолюдину. Жива мать или нет, Тамара не знала и давно уже не пыталась узнать, а когда подавала в церкви заупокойные и заздравные записочки, на всякий случай включала ее в оба списка.
В церковь Тамара ходила в годовщины смерти деда и бабки, а еще накануне Вербного воскресенья святить наломанную в кустарнике позади садового участка и связанную в тонкие пучки вербу, которую продавала потом на пятачке возле метро. На том же пятачке Тамара продавала в Троицу березовые нежные венички, утром первого сентября георгины из своего сада, а потом весь сентябрь по субботам – яблоки. А еще она подрабатывала женщиной.
Торговала у подземного перехода возле метро Тамара чаще всего не одна, а с бывшей учительницей музыки из первого подъезда, пенсионеркой Маргаритой Петровной. Раньше старенькая Маргарита, аккомпанируя на аккордеоне, пела в подземном переходе вместе со своей приятельницей, бывшей хоровичкой, песни Великой Отечественной войны, на них народ реагировал мелкой и средней монетой лучше, чем на остальной советский репертуар. Но хоровичка съехалась с дочерью и стала жить на другом конце города, и Маргарита, стеснявшаяся выходить одна, прибилась к Тамаре, теперь уже без всякого аккордеона, а с собственного исполнения кружевными воротничками и салфеточками, распяленными на сильных пальцах бывшей пианистки.
Вот и на Вербное они торговали вместе. Из соседнего стеклянного ларька с компакт-дисками неслась музыка. Звучала она почти беспрерывно, и выражение глаз Маргариты Петровны было почти беспрерывно страдальческое, за исключением тех минут, когда она, поднимая к Тамаре сморщенное запеченное личико, сообщала:
– Французский шансон. Правда, прелесть, Тамара?
Тамара поглядывала сверху вниз на Маргариту Петровну и улыбалась.
– Молчунья ты, Тамара, – констатировала Маргарита и кивала на большие Тамарины руки, сжимавшие пучки вербы: – Замерзла, наверно? Вон как покраснели.
Тамара улыбалась. Руки ее давно поменяли цвет, и не от холода, а от воды. А что холодно, думала Тамара, так Пасха-то нынче поздняя, оттого и холодно, отчего же еще…
Иногда Маргарита показывала глазами вверх, туда, где, смешиваясь с прогорклыми выхлопами из соседнего Макдоналдса, звучала музыка:
– Удачная аранжировка.
И Тамара улыбалась, но не музыке, а слову, которое было прочным и кружевным, как салфеточка на Маргаритиных крепких пальцах.
– Вот скажи, – Маргарита все еще не теряла надежду на двустороннее общение, – что же ты, Тамара, выше посудомойки не пошла?
Тамара опять пожимала плечами. Она не знала, выше ли по отношению к посудомойке – уборщица, пусть и в «богатом доме», куда она приходила раз в неделю по воскресеньям к «хорошей девочке», племяннице своей школьной директрисы. Об этой статье дохода Тамара никому не рассказывала, потому что стыдилась. Во-первых, несколько раз она слышала, как «хорошая девочка», совершенно не смущаясь ее присутствием, сообщает по телефону приятельнице, что к ней «пришла женщина убираться». Во-вторых, однажды она обнаружила сначала в прихожей, на шкафу, с которого обязана была вытирать пыль, а другой раз в спальне под кроватью нетолстую пачку тысячных купюр. «Проверяют», – сообразила Тамара и больше думать про это не стала. В-третьих, как правило, именно в ее день «хорошая девочка» уезжала на несколько часов «успокоить нервы, по магазинам прошвырнуться», оставляя дома шестилетнего сына. Молчание Тамары бесило скучавшего мальчонку, и он принимался кидать в нее игрушки. Иногда в ход шел пистолет, больно стрелявший мелкими пластмассовыми пульками. Родителям она никогда не жаловалась, знала, что те сына поколотят. А на вопрос периодически инспектирующей пищеблок директрисы: «Как там дела, Тамарочка?» – опускала глаза и благодарно улыбалась – за один день уборки она получала больше, чем за неделю мытья посуды в школьной столовке.
И только раз в году она говорила, что «завтра никак не может», предпочтя неверную выручку от продажи вербы верной – от протирания специальной салфеткой, смоченной специальной жидкостью, непременно каждого в отдельности квадратика специальной керамической плитки в кухне, прихожей и ванной «хорошей девочки».
* * *
В три пополудни на пятачке возле метро случалось, по определению Маргариты, чудо. В пересменок, что ли, из ларька начинало звучать и звучало в течение получаса не то, что обычно, а то, от чего лицо Маргариты светилось всем спектром человеческого счастья. Она дергала Тамарин рукав, привставала на цыпочки и шептала:
– Это Бах, Тамарочка, ля-минорная хоральная прелюдия. – Маргарита обводила слезящимися глазами столпотворение на грязноватом пятачке возле метро и броуновское движение людей у входа в новый торговый центр через дорогу. – Такое даже этому , – она делала неопределенный жест подбородком, – даже этому придает смысл.
Тамара смотрела на маленькую взволнованную Маргариту и тоже начинала волноваться. Она знала, что сейчас в записи настанет короткая пауза, а после будет нежная и светлая, как бы на ощупь идущая мелодия, похожая на то, как ходит сквозь толпу ее Женечка.
Музыка звучала сначала тихо, почти неразличимая сквозь шум транспорта, и вдруг разрасталась, делалась широкой, похожей на поле, через которое Тамара ходила от станции к даче и обратно, а потом делалась больше поля, перекатываясь за пологие холмы и неровную линию дальних лесов, туда, где Тамара никогда в своей жизни не бывала.
Она подхватывалась и без подсказки радостно вспоминала:
– Это же этот, как его… Моцарт.
Маргарита благодарно кивала:
– Двадцать третий концерт. Адажио.
Маргаритины пальцы шевелились в такт мелодии под кружевным воротничком, или что там в этот момент на них оказывалось.
Слушая музыку и разглядывая толпу, Тамара вдруг вспомнила, что хотела рассказать Маргарите про церковь, но тут запись кончилась, а к ним подошла молодая женщина с девочкой на руках и стала прицениваться к воротничку. Тамара, желая помочь Маргарите в торговле, похвалила качество ниток и тонкую работу. В это время девочка потянулась к пушистым вербным почкам, несколько раз громко сказала: «Зайка. Хочу», и женщина вместо Маргаритиного воротничка купила Тамарину вербу. Маргарита поджала губы, и лицо у нее вдруг сделалось похожим на лицо Тамариной бабки, когда та собиралась сказать свое привычное: «Дурища!» Внутри Тамары все сжалось, она даже глаза прикрыла от страха, но Маргарита смолчала, только досадливо дернула подбородком и начала собираться, да, может, и не из-за Тамары, а потому что дождик стал накрапывать.
Женечка, которой Тамара вечером начала было говорить про церковь, слушала рассеянно, и по ее лицу переливалась, как солнечный блик, улыбка. Эта мечтательная, непонятно про что улыбка насторожила Тамару.
– Ты чего, доча?
– Да ничего… Так… – Женечка замотала головой и рассмеялась. – Кружение сердца.
Слова про сердце Тамару совсем испугали.
– Болит, что ли?
– Да нет же, мама. Это из книжки.
Женечка нетерпеливо повела плечом и отвернулась к компьютеру.
«Влюбилась, что ли?» – Тамара беспомощно смотрела в Женечкину прямую спину, не зная, радоваться своей догадке или огорчаться.
Она еще немного потопталась в дверях, чего-то выжидая, но Женечка надела наушники и больше на мать не отвлекалась. Тамара вздохнула и пошла стелиться.
Все, что безуспешно пыталась она рассказать сначала Маргарите Петровне, а потом Женечке, могло уместиться в две-три фразы, потому что подробности моментально улетучивались из Тамариной головы. Но теперь, в пустоте раннего утра, она вспомнила и сырой, под куртку проникающий ветер, и землю, стеклянно хрустевшую под ногами, пока она ломала вербу.
Заходить на дачу, протапливать печь и греться Тамара не стала, чтобы не терять времени, и в обратной холодной электричке промерзла еще сильнее. С этим ощущением всю ее забравшего холода пришла она в церковь.
Служба уже началась. Тамара купила тонкие свечки и осталась стоять у входа, зажав между ступнями клеенчатую сумку с вербой. В церкви было тепло и народу было много. Успокоительно пахло оплывшим воском и ладаном. Радуясь пению невидимого хора, Тамара искала глазами, как бы ловчее пробраться через толпу и поставить свечки, уже начавшие подтаивать в ее толстых пальцах.
Вдруг люди расступились, и Тамарин взгляд упал на стол, где писали заздравные и поминальные записочки. Возле дальней от Тамары стороны сидела, а вернее, недвижно полулежала, опустив голову на руку, женщина. Люди писали свои записочки, опасливо косились на женщину и отходили. Голова женщины была уткнута в сгиб локтя. Но каким-то образом Тамара поняла, что она старая. Наверное, по тяжелым коричневым ботинкам с закругленными носами и явно из прежнего запаса чулкам в резинку. На женщине был приличный, но легкий, не по нынешней погоде, плащик. «С раскладушки», – определила Тамара. Так по старой, середины девяностых, памяти называла она теперешний «секонд-хенд». Это остатков с кухни она никогда домой не носила, брезговала давать Женечке, а во что одеть свое тело, ей было все равно.
Тамара огляделась, не зная, что делать с мертвой старухой, и решила делать, что все – отойти.
Она поставила свечки и начала было продвигаться к алтарю, где батюшка, рассыпая легкие, сверкающие отраженным золотом брызги, уже начал святить вербу, но взгляд против ее воли опять вернулся к столу. Она разглядывала пальцы женщины, карандаш, упиравшийся грифелем в записку, и вдруг заметила подрагивание. «Живая!» – Тамара обрадовалась и обо всем сразу догадалась: вечер был холодным, в церкви было тепло, а поминальный список оказался длинным. Женщина уснула, но и во сне продолжала писать. Тамара заглянула через плечо спящей: «Это сколько ж их там?» Листок был испещрен сверху донизу. Из-под листка «за упокой» выглядывал другой, «за здравие». Но в нем значилось всего-то четыре имени. Примерно столько же было бы и у Тамары, не включай она каждый раз неизвестно живую или мертвую мать и минимум дважды – «хуже не будет» – Женечку. Но вот длинный список…
«Неужели всё родня?» – вдруг позавидовала Тамара. Эти мертвые принадлежали спящей женщине, закрепляли ее в прошлой и в будущей жизни, делали значительной. Тамара же со своими дедом, бабкой и неизвестно живой или мертвой матерью была вроде как сирота. Год назад умершая от саркомы пищевода Катюха, единственная, с первого еще места работы подруга, картины существенно не меняла. Был, конечно, тоже неизвестно живой или мертвый отец. Но имени его Тамара не знала, отчество ей дали дедово. Когда однажды она спросила бабку, как звали отца, та глянула так зло и таким голосом ответила: «Не помню», что любопытство к своей родословной отшибло у Тамары навсегда.
Тамара пристроилась рядом со спящей женщиной, быстро написала заздравную записочку, а над заупокойной стала думать. Наконец вспомнила соседа с пятого этажа, обрадовалась и добавила в список еще одно имя.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































