Текст книги "Жизнь – вечная"
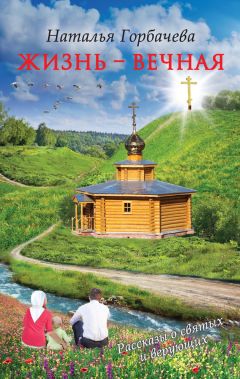
Автор книги: Наталья Горбачева
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Художник вскочил, схватил с полки рисовальный уголь, прикрепил новый лист. Все это время я сидела в заданной позе, хотя щипало глаза – от потекшей туши.
– Вы, дружочек, наверное, думаете, что все остальные люди не злы и не страшатся за свое будущее. Это неправда. Все, все до единого – большие или маленькие злодеи, которые боятся завтрашнего дня. Но только редко, кто в этом себе признается. Вы еще совсем не испорчены. Как вам удалось?
Это был риторический вопрос, на который можно было не отвечать, но меня понесло.
– Я не испорчена? – отняв руку от глаз, чуть не крикнула я. – А в натурщицы пойти – это называется не испорчена?
– О!.. Непорядок! – воскликнул художник, увидев черные потеки на щеках. – Надо срочно в уборную.
Он взял меня за руку и повел по закоулкам в туалет с текущим краном, облупленной зеленой краской и заткнутой за трубу газетой «Правда» вместо туалетной бумаги. Обратную дорогу в мастерскую мне пришлось искать самой. Не сразу – но нашла, по ошибке заглянув сначала в чужую комнату. В ней небритый мужичок, оседлав неустойчивую длинную лестницу, вешал люстру.
– О! – обрадовался он мне. – Девушка, подай кусачки, вон на столе… А то эта амбразурина рухнет.
Я засмеялась и подала, встав на стул.
– Может еще чего надо?
– Погоди, подашь лампочки.
Ни кто я, ни откуда, мужичка не заинтересовало. Он закрепил люстру, вкрутил лампочки, я зажгла свет.
– Ну, Люська, держись! Будешь теперь мне должна… Красота?
– Угу, – сказала я и пошла к двери.
– Требует жертв?
Вопрос мужичка остался без ответа. Я отправилась искать мастерскую.
Художник сосредоточенно дорабатывал рисунок. Кажется, он не заметил, что вернулась натурщица. Я тихо села в кресло.
– К Венечке заходили? Дверь открыта, значит, трезвый.
– Я потерялась. А кто он? А Люську свою он не убьет?
– «О, свобода и равенство! О, братство и иждивенчество! О, сладость неподотчетности! О, блаженнейшее время в жизни моего народа – время от открытия и до закрытия магазинов!» – процитировал художник незнакомый мне тогда труд Ерофеева «Москва – Петушки». – Люська села.
– Куда? – не поняла я.
– В тюрьму. Будет нам пять лет относительного спокойствия.
– За что?
– Выпили. Она Венечку ножом пырнула, еле откачали, – просто, будто о чем-то обыденном, сказал художник.
– Как вы можете здесь работать… в этих условиях?..
– Вот – руками, – показал он. – Иногда головой.
– Я бы с ума сошла.
– Да нет, нервы у вас, дружочек, судя по всему, крепкие… Поиграют и вам на них. Будут и вам испытания, но все в свое время.
– Загадочно вы говорите… Зачем пугаете… Вы скоро закончите?
– Все! – Он оторвал взгляд от портрета и глянул с прищуром на натуру. – Премного вам благодарен. Дело двинулось. Что-то есть в вас загадочное, прав Иван Всеволодович.
– Да нет во мне ничего загадочного, хорошо маскируюсь. Скучно жить – вся загадка, – сказала я и поднялась из кресла. – Все есть – а скучно! Может, я и правда жду какого-то принца, но его же не будет! Откуда взяться принцу в СССР? Скучно, скучно, скучно…
Комок подкатил к горлу, я почти побежала к двери. Художник нагнал меня и вложил в руки трешку.
– Это за сеанс, сударыня. Я не бедный человек. Мы с Лерочкой покупаем квартиру…
– Не надо денег! – отмахнулась я.
– Нет уж. – Он сунул трешку в мой карман. – Запомните: каждая работа должна оплачиваться.
– Да никакая это не работа, – всхлипнула я. – Не программу на Фортране писать.
– Такое милое двадцатилетнее личико… – улыбнулся художник – Но оно не просто так милое. Оно – отражение, я уверен, милой многим души. Знаете, дружок, что у вас есть бессмертная душа?
– Скучно же жить вечно! – почти выкрикнула я. – Такое только в страшном сне может присниться! Нет уж, увольте!
Я выскочила за дверь и понеслась зигзагами «Вороньей слободки». За мною гналось эхо его голоса:
– Я вам позвоню-ю-ю… Ско-о-оро…
Аннушка уже разлила масло
Меткий взгляд художника И. А. Крылова сразу обнаружил поселившиеся в моей голове Алые паруса – мечту, которой трудно было дать точное определение. Я и сама не понимала, чего хочу. Как в сказке: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Хотелось вырваться из плена повседневности в неведомое свободное плавание, найти принца на белом коне и неведомого Бога, зажить как-то по-другому… Заслугу Крылова невозможно переоценить: он очистил мою мечту от розовой шелухи и добрался до самой сути. Он стал главным катализатором глобальных перемен в моей жизни: из математика предстояло переквалифицироваться в литератора. Если бы я знала, через какие испытания придется пройти, от чего отказаться, чем пожертвовать, ни за что не вступила бы на этот путь. Прекрасно, что мы не знаем своего будущего. Но наше будущее – это продолжение нашего прошлого, в котором есть семена того, о чем мы даже не подозреваем. «Аннушка, уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила»… Эту крылатую булгаковскую фразу применительно к моей жизни можно было перефразировать так: «она уже встретилась с Крыловым».
Через неделю после нашей первой встречи я подумала, что Крылов просто надо мной посмеялся: Ассоль, Ассоль, съешь фасоль… Он не звонил. Недели через две позвонила его муза-жена:
– Наташа? – испуганным голосом спросила она.
– Да…
– Наташенька, звоню вам по поручению Ивана Андреевича… художника. Жена его, – сбивчиво говорила она.
– Лера?
– Да… У Иван Андреича инсульт, тяжелый. Как только заговорил, просил вам позвонить. Я так рада, что он вас вспомнил… Думали совсем… – она всхлипнула.
– Какой ужас… Что-то надо? Я принесу. Где он лежит?
– Кефира принесите. Я с ним в палате все время, не могу выйти, – разрыдалась Лера и смогла назвать только номер больницы.
Так я подружилась с ними. Лера была лет на пятнадцать моложе Крылова, работала медсестрой. Близких у них не было, близкой стала я. Друг познается в жене… После развода Крылова с известной в городе профсоюзной дамой друзья взяли ее сторону. Он оставил первой жене с дочкой прекрасную квартиру, поэтому со своей музой ютился в мастерской. Об их преданной друг другу любви можно было бы написать целый роман, но мой рассказ не об этом.
Лера выхаживала своего Крылова тщательнейшим образом, терпела его раздражение, искала лекарства, надоедала знакомым докторам, при этом работала на двух ставках, бегала по квартирам делала больным уколы. Все деньги они потратили на отдельную квартиру. Перевозить туда было особенно нечего, кроме его картин. Я чем-то тоже помогла. Скорее всего тем, что стала почти родной для них. Врачи сказали, что Крылов не сможет больше рисовать, левая сторона оставалась парализованной. До середины лета мы балансировали между страхом и надеждой: известный художник не мог зажать в руке карандаш. Ради нас, «двух любимых девчонок», он стал потихоньку выкарабкиваться.
Наконец, Крылов приноровился держать в руке пастельные мелки. В его творчестве начался последний «жемчужный» период, который навеяла вермееровская «Девушка с жемчужной сережкой». Кроме натюрмортов, Ивану Андреевичу другие жанры были недоступны. Из подручного фарфора, фаянса, глиняных кувшинов, фруктов, овощей, бутылок он, сидя в инвалидной коляске, долго выстраивал на столе композиции и потом своей нетвердой рукой пытался запечатлеть игру света и цвета. Все это выходило в матово-эмалевой жемчужной гамме с яркими пятнами желтых и синих тонов – как у Вермеера… Мне не нравились холодные тона новых крыловских небольших натюрмортов: в молодости хочется ярких красок. Докторам, которые «вытянули с того света», Крылов подарил первые работы. Они отказывались верить, что это были постинсультные картины художника. Два-три старинных приятеля, приходившие к Крылову, говорили, что его живопись становится более созерцательной и изысканной. В этом смысле – это вершина.
Приятели были местными диссидентами: старые, как мне тогда казалось, мужчины, прекрасно образованные, которые жили тихо и замкнуто. Один из них, Феликс, работал интеллигентным водопроводчиком – ни дать, ни взять прообраз слесаря Гоши из еще не снятого фильма «Москва слезам не верит». В свой маленький кружок умные мужчины возраста Крылова – «за пятьдесят» приняли меня «как украшение». Вполне возможно. Но скорее всего им нравилось, что я слушала их разговоры, что называется, разинув уши, впитывала словно губка «неизвестное гуманитарное» парадоксов философии, истории, искусства. До болезни Крылова они не часто собирались вместе. Теперь положение обязывало – нельзя было оставлять художника одного. Лера очень радовалась приходу нашей компании, которой без боязни поручала заботу о муже, сама бегала по городу, зарабатывая на хлеб насущный. В шутку называя крыловские собеседования «моими университетами», в глубине души я сознавала: мне повезло… В свои двадцать два я еще пребывала, по определению И. А. Бунина, в том расцвете молодости, «когда кажется, что это время есть лишь начало чего-то бесконечного, что будет еще множество времен, событий, встреч, и все замечательных. Тогда кажется, что запас твоих душевных сил неисчерпаем. И только немногие не обманываются в таких чувствах, надеждах»… Таинственный мудрый Руководитель заранее сделал мне прививку против возможных будущих разочарований. Для того и устроил встречи нашего маленького философского кружка, продолжавшиеся в течение двух лет. Задушевные беседы взрослых серьезных мужчин сформировали во мне вменяемую – в отличие от советской – систему нравственных ценностей и убеждений, которых не смогли дать семья и школа. Их стержнем было христианское мироощущение. Эти принципы помогли выстоять в бурях житейского моря и в главном не изменились.
Были между мужчинами религиозные споры-разговоры, в которых мне трудно было взять чью-либо сторону. Феликс, как я поняла, был католиком. Его эрудиция поначалу тяжелым молотом вбивала меня в безнадегу. Он обладал невероятным количеством религиозной информации, которую обрушивал не только на меня, но, как я заметила, и на Крылова. Спорить с Феликсом было невозможно. Больной художник начинал злиться, будучи не в состоянии ответить ему. Постепенно я нащупала ту главную мысль, которую Феликс хотел внушить нашему кружку, и более всего – Крылову. Крылов не был крещен, и Феликс доказывал, что католичество – единственно «правильная» религия и именно ее надо исповедовать. Однажды Крылов даже крикнул ему: «Уходи!» Феликс остановился на полуслове, поднялся со стула, оделся у выхода, сказал нам: «прошу прощения» и ушел. Я не смела никого осуждать даже в мыслях. Всепроизошло внезапно, до слез жалко было обоих. Я не понимала, что делать, видела только, как покраснело лицо Крылова. Казалось, вот-вот с ним случится удар. Леры дома не было.
– Иван Андреевич, Иван Андреевич… Успокойтесь… Я вам сейчас таблетку… Водички…
– Наташенька, дружок, не уходите, – произнес он и просидел некоторое время молча. Когда успокоилось дыхание, выдавил из себя. – Не судите Феликса строго. Это нервы. Лагерный синдром.
– Лагерный синдром? – переспросила я.
– Мордовские лагеря. Пятьдесят восьмая статья: антисоветская пропаганда и агитация. Потом психушка…
Сердце ушло в пятки. Это признание мне тогда переварить было нелегко.
– Вы можете тоже больше не приходить сюда… – чуть волнуясь, сказал Крылов. – Возможно, за Феликсом до сих пор слежка. Он и с академиком Сахаровым знаком, знаете, который в Горьком в ссылке.
Я не могла даже представить, что попаду в такую ловушку. Анекдоты про советскую власть, всякие там догадки-разговорчики про удушенную свободу – это было, да. Но про то, что репрессии инакомыслящих в СССР никогда не прекращались, большинство советских людей достоверно не знали.
Внезапно я была поставлена перед настоящим, а не придуманным серьезным выбором, от которого, как оказалась, зависела моя дальнейшая судьба. Внутри бушевал ураган, но я твердо, стараясь быть спокойной, ответила:
– Иван Андреевич, дорогой мой художник… Я без вас пропаду… Что вы такое говорите… Как вы могли подумать, – и заплакала.
– Наташенька, дружок… – растерялся он. – Я должен был вас предупредить… когда-нибудь. Но вы не бойтесь. Просто знайте. Мы вас в обиду не дадим…
Крыловское «не бойтесь, просто знайте» на долгие годы стало моим любимым девизом – до тех пор, пока он не сменился на евангельское «Не бойся, только веруй».[11]11
Лк. 8:50.
[Закрыть]
Выросшая в безбедном семействе в благополучные времена, я даже не задумывалась над тем, насколько хрупка и переменчива жизнь. Юности это не свойственно вообще. А в частности, мое поколение, знавшее свой род лишь до дедов, молчавших о пережитом, было воспитано в уверенности, что синоним СССР – стабильность, которую начали уже поругивать стагнацией. Как сказал бы народный кумир Райкин: это по-научному, вам не понять. Стагнация по-простому, застой. В «застойный» советский период была провозглашена новая историческая общность людей «советский народ», многие представители которого пребывали в уверенности, что бесплатные квартиры, образование, здравоохранение, профсоюзный отдых в Крыму и на Кавказе – государство им должно, а они ему – не должны ничего. Катастрофы, кризисы перепроизводства, наводнения, забастовки, войны, ку-клус-клан, политические убийства, неизлечимые болезни, бедные негры в Гарлеме, лейбористы и консерваторы, которые только и делали, что эксплуатировали народ, капиталистические «акулы пера», загнивание буржуазии и повышение цен – все это было «за кордоном», где-то далеко-далеко. «Наши люди в булочную на такси не ездят», но за их мирную жизнь без катаклизмов всегда в ответе партия, правительство, профсоюз. Само собой это переносилось и на жизнь отдельно взятого человека, которая так же обязана быть стабильно-непоколебимой. Ничего, кроме стабильности, я в жизни не переживала, поэтому удивлялась, зачем сочинили пословицу: от тюрьмы и от сумы не зарекайся. В те годы мне нравился Хэмингуэй, особенно его пронзительный роман «По ком звонит колокол». Привлекала романтика: война, любовь с привкусом смертельной опасности, благородство, преданность идеалам: наши – не наши. Про войну в Испании мы знали: Долорес Ибарури, Герника, Пикассо, Сент-Экзюпери, испанские дети, Михаил Светлов:
Мы ехали шагом,
Мы мчались в боях
И «Яблочко»-песню
Держали в зубах.
Ах, песенку эту
Доныне хранит
Трава молодая —
Степной малахит.
Но песню иную
О дальней земле
Возил мой приятель
С собою в седле,
Он пел, озирая
Родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»
Я пыталась понять смысл эпиграфа: «Не спрашивай никогда, по ком звонит колокол: он звонит по тебе», но не очень понимала его. Думала: это такая литературная метафора, красивость, не имеющая отношения к реальной жизни, в которой все всегда должно быть благополучно.
Бог был милостив ко мне. Перед тем, как вытолкнуть из привычной жизни, указал на мое потребительское мировоззрение и заставил расстаться с утверждением, что кто-то кому-то что-то должен. Внезапная болезнь Крылова и его до последнего дня служение таланту, «нервный» Феликс, отсидевший восемь лет за распространение перепечатанной на папиросной бумаге Библии, красивая молодая Лера, которая на всю жизнь осталась сиделкой больного художника – положение этих людей в корне изменило мое представление о жизни. Они, я видела, отдавали себя другим, не требуя ничего взамен.
Когда заболел Крылов, я заканчивала учебу в универе. После защиты диплома мне стало безразлично, где работать дальше. Чувствовала почему-то, что недолго придется быть инженером, впереди уже готовящееся отправление в отчаянное житейское плавание. Я взяла распределение в проектную контору «кому нести чего куда», выбрав ту, что ближе к дому. Работа была не бей лежачего: непонятно кому нужные проекты. Щелкала я их как семечки. Оставалось много свободного времени, которое как-то надо было заполнять. Каждые два часа происходили чаепития с обсуждением одних и тех же советских новостей. Мое спасение было в том, что я «переваривала» услышанное у Крылова. Но часто глядя через окно на улицу с пешеходами, представляла себя за тюремной решеткой и с тоской думала, что если сидеть на этой работе до конца жизни – это каторга. Какой обман: только что была студенткой ВУЗа – звучало гордо, в голове роилось планов громадье. И каков конец: рабочие задания, которые были под силу выпускнику техникума. В голове ударяло: «по ком звонит колокол», «по ком звонит колокол», «по ком звонит колокол?» Одна радость – заседания нашей маленькой компании. Феликс перепечатал на «Ундервуде» этот хэмингуэевский роман в то время, когда он был запрещен в СССР. Вот такой, оказывается, смысл у эпиграфа: колокол звонит по тебе…
Когда через несколько недель Феликс вернулся к Крылову, я спросила, почему роман запретили?
Рассказывал он много и подробно, ясно, что знал ситуацию досконально. Откуда?..
18 июля 1936 года в эфире одной из испанских радиостанций прозвучала фраза: «Над всей Испанией безоблачное небо» – сигнал к началу военного мятежа. В далекой стране на Иберийском полуострове началась Гражданская война. Хрупкий испанский мир рухнул, началось противостояние между сторонниками Испанской республики и оппозиционной диктатурой военных под предводительством генерала Франко (мятежники). Гражданская война быстро перестала быть внутренним делом одной Испании – будущие главные противники Второй мировой превратили страну в испытательный полигон для своей военной техники и военных доктрин. К тому же недра Испании богаты полезными ископаемыми, рядом пролив Гибралтар – вход в Средиземное море. Солнечная с нищим народом страна в стратегически важной точке Европы… Военный корреспондент Хемингуэй задумал свой роман в осажденном фашистами Мадриде, под бомбами и артиллерийскими обстрелами. Тогда, в 1937 году, ему было непросто разобраться в том, что происходит в Испании. Он видел страшное ожесточение с обеих сторон – не только на поле боя, но и в тылу. Республиканцы знали, что в плен к фалангистам (испанским фашистам) попадать нельзя, многие носили ампулы с ядом, оставляли последний патрон для себя. Но и республиканская госбезопасность действовала предельно жестко. Страна оказалась расколотой надвое. Все левые силы сплотились вокруг Компартии, все правые – вокруг фашистов. Первых поддерживали Франция (в начале войны) и СССР, вторых – фашистская Италия, нацистская Германия и Португалия. История Гражданской войны в Испании сложна, но во многом похожа на нашу… Но наша-то – правильная, советские идеологи должны были трактовать ее в нужном русле. Советские люди знали о Гражданской войне в Испании то, что им позволяли узнать.
– Роман Хэма не укладывался в разрешенную схему: хорошие «красные» – плохие «белые». По идеологическим соображениям роману ввалили восемь лет, как и мне… – усмехнулся Феликс. – Но совсем запретить книгу о героях-республиканцах такого заслуженного и знаменитого автора, было бы просто неприлично. Вы помните, Наташа, рассказ о том, как франкисты истязают в застенках Марию, возлюбленную Роберта? Или как республиканцы в маленьком городке расправляются с фашистами и их сторонниками – забивают цепами для молотьбы, даже молящегося священника. А ведь Бог – есть любовь… Гнев – не праведный советник.
Мне пришлось признаться:
– Не могу читать про такие ужасы, пропускала в романе эти страницы.
– То-то и оно… – ответил Феликс и прикрыл глаза. – История повторяется. Вы должны знать правду… Надо разбираться в идеологиях… Иначе… Пожалуй, пойду…
Он оделся и еще стоял у дверей. Я вдруг спросила:
– А как же «Гренада»? Что хотел сказать Светлов? Почему его герой украинский хлопец? Я ничего не понимаю…
– При чем здесь Светлов? – удивился Феликс.
– Как при чем? Он же про войну в Испании писал? – удивилась и я.
– Бог с вами, Наташа. Это великое стихотворение было написано за десять лет до нее. Светлов сам рассказывал, как он в двадцать шестом году проходил по Тверской мимо кинотеатра «Арс» и в глубине двора увидел вывеску: гостиница «Гренада». Ему так понравилось это слово «Гренада», что он решил: дай-ка напишу какую-нибудь серенаду! Но в трамвае по дороге домой пожалел истратить такое редкое слово на пустяки. Подходя к дому, он начал напевать: «Гренада, Гренада…», а когда открыл дверь квартиры, уже знал, что напевать Гренаду будет родной украинский хлопец. Светлов родился на Украине. Стихотворение оставалось только записать… Он понятия не имел про Гражданскую войну в Испании, но, как настоящий поэт, сумел задеть потаенные струны души… Когда война началась, люди сами связали Гренаду с героями войны против Франко, Гитлера и Муссолини. Разве не помните:
Откуда ж, приятель,
Песня твоя:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»
Он медлит с ответом,
Мечтатель хохол:
– Братишка! Гренаду
Я в книге нашел.
Красивое имя,
Высокая честь —
Гренадская волость
В Испании есть!
Феликс процитировал, раскланялся и ушел, сказав на прощание:
– Желаю и вам, Наташа, такой Гренады…
Про что это он, я не поняла…
– Феликс в некотором смысле прозорливец… – сказал художник, когда мы сели за стол попить чайку.
– Да… Странный он какой-то, – ответила я, внимательно глядя на Крылова, не обидел ли его внезапный уход?
– Феликс советует вам поступать во ВГИК…
– Что? – оторопела я. – Куда-куда?
– Ехать в Москву, в Институт кинематографии. Вы же знаете, я закончил художественный факультет…
– С чего он все это взял? – сказала я и заплакала. Даже не поняла, отчего.
Что-то прорвало. Выходил наружу мой страх за будущее, которое в последнее время рисовалось мне в черных тонах. В моей проектной конторе меня обещали скоро повысить до старшего инженера, но на кой он мне сдался, если от работы тошнит… Крылов подлил масла в огонь:
– Простите меня, дружок, великодушно. Я иногда делился с Феликсом… про ваше непонятное уныние. Все при вас: молодость, красота, работа, дом, живые родители, друзья… Но какой-то червь гложет. Мне кажется, это уныние только усиливается. Так не далеко и до отчаяния… Мы думали-думали и придумали. Вам надо резко поменять жизнь. Вашу контору – на ВГИК. Прекрасно!
– Издеваетесь? – слезы текли и текли из моих глаз. – Какой ВГИК? Какие двадцать копеек? Вы издеваетесь…
– Какие у меня причины издеваться над вами, – сказал Крылов и опрокинул чашку с чаем. Как кажется, специально…
Я понеслась на кухню за тряпкой, по пути зашла в ванную, привела себя в порядок. Все-таки безобразие – нюниться перед больным художником. Когда возвратилась, разговор продолжился.
– Наташенька, я плохой советчик… Но, право, подумайте.
– О чем думать. Надо иметь таланты, – резко оборвала я. – А какие у меня таланты? Нету никаких.
– Дружок, поверьте седым волкам… Я от безысходности поступил во ВГИК. Что-то такое было – руки чесались рисовать. В Репинское в Ленинграде не приняли, поехал в Москву, в Суриковское провалился. А во ВГИК – пожалуйте! Окончил, получил корочки художника кино. Даже три картины сделал…
– У вас хоть руки чесались… – перебила я.
– Не боги горшки обжигают, дружок Наташенька.
На следующий день, глядя через окно на улицу с прохожими, я почувствовала, что мне не так тоскливо. Но, возможно, это было потому, что утром мне сказали, что повысили в должности – до старшего инженера с прибавкой к жалованью в пятнадцать рублей. Мне показалось, что Крылову это будет приятно услышать. По дороге я подумала, а успею ли я поступить во ВГИК в этом году. Был конец марта, снег почти сошел, по улицам бежали веселые ручьи. До свидания, дорогие, больше я вас не увижу… здесь.
Крылов, конечно, обрадовался повышению и, наверно, подумал, что тоска моя прошла. Я не заговаривала о ВГИКе, он тоже. Лера была дома – редкий случай. Мы просто сидели и болтали. Обсуждали новый жемчужный натюрморт художника. Мне он очень нравился.
– Иван Андреич! Это выставочная картина! – воскликнула я. – Правда! Я поняла, какая это красивая палитра цветов – жемчужная.
– Подарю вам, Наташенька, если поступите, – ответил Крылов.
Я осеклась. Заколотилось сердце, будто предстояло прыгнуть в темный глубокий колодец.
– Наташк, если ты уедешь от нас, мне будет очень тебя не хватать, очень-очень, – печально сказала Лера.
Я знала, что они желают мне только добра. Но… лучше синица в руках, чем журавль…
– В небе… – сказала я вслух.
– Над всей Испанией безоблачное небо, – улыбнулся Крылов. – Было, есть и будет.
Моя жажда путешествий была неистребима. Сразу после универа, я закончила курсы экскурсоводов и в выходные иногда возила группы в Москву. Автобусный маршрут пролегал через Владимирскую область. Я выучила типовой текст по Древней Руси: Владимир, Суздаль, Ополье, Юрьев-Польский, владимирцы и новгородцы, икона Знамения Божией Матери, князь Андрей Боголюбский. Никакой религии, исключительно история края…
В конце марта я поехала в Москву. Оставив группу на местного групповода, сама отправилась искать по адресу здание ВГИКа, около ВДНХ. Оказалось, что наша гостиница совсем рядом… С опаской я вошла в парадный подъезд овеянного легендами здания с вывеской: «Всесоюзный государственный институт кинематографии». В субботу внутри кипела жизнь. Студенты отличались от обычных – раскрепощенные, модно одетые. В обрывках разговоров запросто упоминались известные киношные фамилии. Я оробела: это же сколько тут талантов, куда мне… Если бы приемная комиссия была на третьем этаже, от страха я бы до нее не дошла. Но комиссия оказалась на первом, в темном коридоре.
– Хочу к вам поступить, – сказала я, войдя в нужную комнату, в которой сидела единственная женщина.
– На какой факультет? – безразлично спросила она.
– Э… э…
Тут раздался резкий звонок, женщина кивнула на столик со стопками листков и стала разговаривать по телефону. Я взяла по листку из каждой стопки: это были правила приема на разные факультеты. По дороге домой я изучила вопрос: везде, кроме экономического, был предварительный творческий конкурс.
Эти бумажки я разложила перед Крыловым и невесело спросила:
– Ну и куда мне податься?
– Наташенька, давайте думать, – смутившись, ответил он.
Стали мы думать… Не в один раз, но решили: на экономический поступать – глупо, на операторский – тяжелую камеру надо таскать, не женское дело, на киноведческий – вообще непонятно что, сценарный я сразу забраковала – писать не умела, оставался режиссерский – какие туда требовались таланты, был вопрос… Что двигало нами тогда – не понимаю. Может, азарт, будто в игру играли. На творческий конкурс было необходимо представить работы: сценарий телепередачи, очерк и чего-нибудь еще, лучше опубликованное: всего двадцать страниц машинописного текста. У меня не было ни одной.
– Сценарий, считайте, у вас в кармане. Направляйте стопы ваши к Ивану Всеволодовичу, что-нибудь придумаете про художественное училище.
Придумали, и даже прилично получилось. Про то, как студенты видят свое будущее в советском искусстве. Отобрали несколько небанальных историй и сняли в студии двадцатиминутную передачу – тут Иван Всеволодович подсуетился, показали по местному телевидению, я даже письма с откликами зрителей получала. А потом, как специально, по городу узкой полосой пронесся страшный смерчь. Невиданное природное явление: срывало крыши, поднимались в воздух машины – Оклахома какая-то. Об этом смерче написали в центральных газетах – с какими-то идиотскими домыслами, чуть ли не облисполком в случившемся обвинили. Написала я одиннадцать страниц очерка – как в действительности вел себя смерчь и девять – телесценария. Итого – двадцать. Помню, были майские праздники, все гуляли и звали меня, а я в одиночестве, втихаря печатала одним пальцем в найденной Лерой душной комнатенке, куда с предосторожностями принесли «Ундервуд» Феликса. Отправляя в приемную комиссию свои труды, я ни на что не надеялась… Но через месяц пришел вызов. Делать было нечего: я взяла административный на несколько дней. Пришлось еще учить стихотворение и отрывок из художественного произведения, которые надо было читать на творческом конкурсе: режиссер должен, оказывается, обладать и актерским талантом. Об этом мы с Крыловым задумались недели за две до экзаменов. Он предложил «Бородино» и монолог Нины Заречной из «Чайки»: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом…» Я никак не могла запомнить последовательность всех этих странных персонажей и ничего хорошего на творческом туре не ждала.
Провал был полнейший. Как, оказывается, страшно выйти на публику, а экзаменационная комиссия просто парализовала меня, словно удав кролика. К тому же я простудилась в поезде, так что голос почти пропал.
– Милая девушка, – прервала меня в самом начале «Бородина» известная актриса. – Вы ошиблись в своем выборе. Достаточно.
Я была рада провалу – нет, это не для меня!
Когда вернулась домой, все встало на свои места. Работы в проектной конторе прибавилось. Почаще стали посылать меня в Москву с экскурсиями. Я стала привыкать к столице, и мне как чеховским трем сестрам стало чудиться: «В Москву, в Москву!»
Продолжились встречи нашего «философского кружка». Я стеснялась заговаривать о ВГИКе. Феликс с неприятной настойчивостью стал агитировать Крылова креститься католиком. Дошло до того, что узнав о приходе Феликса, я отнекивалась. Крылов, конечно, заметил… Возможно, на этой волне возобновились разговоры о новом поступлении. А может, потому, что наступил новый март и у меня, как у Крылова, вдруг «зачесались руки» писать. Нужно было отправлять работы на предварительный творческий конкурс.
– Дружочек… мне кажется, вам надо поступать на сценарный. Почему бы нет? – осторожно предложил Крылов. – Не стал огорчать вас в прошлый раз, что режиссерский факультет расписан на двадцать лет вперед: у всех именитых подрастают дети…
– Так же и сценарный, – усмехнулась я. – Не сомневаюсь.
– Но на сценарный все же легче… Написал и сразу понятно, есть ли что у человека за душой. А режиссеру целое кино надо снять, прежде чем поймешь, что он за штучка, – улыбнулся он. – Может, удастся проскочить?
– Это из области фантастики…
– Знаете, Наташенька… Послушайте седого волка, какой он приобрел опыт. Когда человек задумал что-то сделать, серьезное… Бывает, у него не получается. Раз не получается, другой, третий… Вот уже и руки опустились. Надо сделать последнее усилие, а кажется – невозможно. И человек отступает, складывает крылышки… Проходит какое-то время, и он понимает, что тогда чуть-чуть не дожал, всего чуть-чуть, поддался панике… И все! Время ушло, – он замолчал, не видя моей реакции. – Ну хорошо, скажу словами философа, если мне не верите. Люблю Сенеку: «Никто не возместит тебе потерянные годы, никто не вернет тебе тебя. Время твоей жизни, однажды начав свой бег, пойдет вперед, не останавливаясь и не возвращаясь вспять».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































