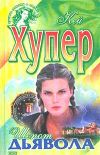Текст книги "Наставники Лавкрафта"

Автор книги: Натаниэль Готорн
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Ребенка отправили вон из школы. Что это значит?
Она коротко взглянула на меня, потом постаралась отвести глаза, как будто демонстрируя равнодушие.
– Но разве они не разъезжаются все?..
– Их отправляют по домам, да. Но только на каникулы. А Майлсу велено не возвращаться.
Видя, что я наблюдаю за нею, она покраснела.
– Они его не хотят брать?
– Категорически отказываются.
Она снова взглянула на меня, и я увидела в ее глазах непролитые слезы.
– Что же он натворил?
Я заколебалась, потом сочла правильным просто отдать ей письмо; однако эффект вышел неожиданный: экономка не взяла конверт и, заложив руки за спину, грустно вздохнула.
– Эти штуки не для меня, мисс.
Моя советчица не умела читать! Я постаралась загладить свою ошибку как смогла и, уже развернув письмо, чтобы прочесть вслух, замялась, снова сложила и спрятала в карман.
– Мальчик действительно плохой?
– А что пишут джентльмены? – Слезы еще блестели на глазах Гроуз.
– Они не вдаются в подробности. Просто выражают сожаление, что принять его не могут. Это может означать только одно, – Гроуз слушала, не проявляя эмоций; она воздержалась от вопроса, что это может означать, но ее присутствие само по себе помогло мне думать, и я, собравшись с силами, сумела найти правильные слова, – что он вредит остальным ученикам.
– Мастер Майлс! – она внезапно, со свойственной простым людям быстротой, вспыхнула. – Он-то вредит?
В ее словах было столько искренней веры, что я, еще не увидев ребенка, желая подавить собственные опасения, охотно поверила в абсурдность такого обвинения. Чтобы поддержать нашу дружбу, я подхватила с иронической интонацией:
– Его бедненьким, маленьким, невинным сотоварищам!
– Это просто ужасно, – вскричала миссис Гроуз, – говорить такие жестокие слова! Подумайте, ему едва исполнилось десять лет!
– Да, да, это невероятно.
Экономка явно была благодарна мне за согласие с нею.
– Вы сперва увидьте его, мисс, а потом попробуйте поверить! – Мне тут же захотелось увидеть мальчика; любопытство возникло и в ближайшие часы усилилось почти до болезненности. Я догадалась, что Гроуз поняла, в какое состояние меня повергла, потому что она добавила утешительно: – Это все равно что поверить в такое про маленькую леди, храни ее бог… да взгляните на нее!
Я обернулась и увидела Флору, которую десятью минутами раньше усадила в классной комнате, выдав ей лист белой бумаги, карандаш и пропись с красивыми «круглыми O»; теперь она стояла у открытой двери. На ее личике выражалось сильное нежелание исполнять скучный урок, но смотрела она на меня таким ясным детским взглядом, словно показывала, что лишь ради любви ко мне готова признать необходимость слушаться моих указаний. Не нужно было лучшего доказательства правоты сравнения миссис Гроуз, и я, обняв свою ученицу, стала целовать ее, скрывая слезы раскаяния.
Тем не менее, до конца того дня я искала способы восстановить близость с экономкой, особенно к вечеру, когда мне стало казаться, что она меня избегает. Помню, что столкнулась с нею на лестнице; мы вместе сошли вниз, и там я удержала ее, положив ей руку на плечо.
– То, что вы сказали мне днем… это было заявление, что мальчик при вас никогда не вел себя плохо. Я правильно понимаю?
Гроуз вскинула голову; видимо, к этому времени она заняла, и очень честно, определенную позицию.
– Ох, никогда при мне… За это не ручаюсь!
Я снова расстроилась.
– Значит, что-то все-таки бывало?
– Да, мисс, слава богу, бывало!
Подумав, я ее поняла.
– Вы имеете в виду, что мальчик, который никогда…
– Для меня – не мальчик!
– Вам нравится, когда они шалят? – я сжала ее плечо сильнее и, не дожидаясь ответа, искренне призналась: – Мне тоже! Но не до такой степени, чтобы дошло до осквернения…
– Осквернения?..
Мое книжное слово озадачило ее, и я пояснила:
– До испорченности.
Она уставилась на меня, осваиваясь с сутью моих слов; потом издала странный смешок.
– Вы боитесь, что он испортит вас?
Это было сказано с таким тонким юмором, что я рассмеялась тоже, хотя это и было, конечно, глупо, но обиду за насмешку я отложила на потом.
Однако на следующий день, незадолго до отъезда, я добилась успеха в другом вопросе.
– Что представляла собою моя предшественница?
– Прежняя гувернантка? Она тоже была молодая и красивая, почти такая же молодая и почти такая же красивая, как вы, мисс.
– Ах, раз так, надеюсь, юность и красота помогли ей! – помнится, вырвалось у меня. – Он, похоже, предпочитает молодых и красивых!
– О да, – согласилась Гроуз, – ему все такие люди нравились! – Она вдруг смутилась и поправилась: – Ну, то есть, такой уж у него вкус, у хозяина.
– Но о ком же вы говорили сначала? – удивилась я.
– Ну, о нем, – она казалась спокойной, но покраснела.
– О хозяине?
– Да о ком же еще?
Было совершенно очевидно, что никого другого она не могла иметь в виду; я сразу же отбросила мимолетное впечатление, что экономка случайно сказала больше, чем хотела, и просто поинтересовалась:
– А она замечала что-либо в поведении мальчика?
– Что-нибудь нехорошее? Она мне ничего не говорила.
Я почувствовала укол совести, но превозмогла его.
– Как она работала? Была ли заботлива, чему уделяла особое внимание?
– Кое-чему – да. – Миссис Гроуз, видимо, старалась судить по совести.
– Но не всему?
– Ну, мисс, ее уж нет, – сказала экономка, снова подумав. – Не хочу языком трепать.
– Вполне понимаю ваши чувства, – поспешила откликнуться я, но решила, что эта уступка не мешает мне продолжить: – Она умерла здесь?
– Нет, она сперва уехала.
Не знаю, почему лаконичный ответ Гроуз показался мне двусмысленным.
– Уехала, чтобы умереть? – Гроуз упорно смотрела в окно, однако я чувствовала, что, вероятно, имею право узнать, каких действий наниматель ожидал от молодых особ, направляемых им в Блай. – Она заболела, вы об этом? И уехала домой?
– Она здесь не болела, во всяком случае, ничего такого не замечали. В конце года собралась домой, сказала – ненадолго, на праздники. Она доказывала, что по контракту это ей положено. У нас тогда работала одна нянька, которая тут оставалась, хорошая девушка и умная; вот она-то и ходила за детьми, пока той не было. Но молодая леди так и не вернулась, и как раз когда я ждала ее приезда, хозяин сообщил, что она умерла.
– Но от чего? – спросила я, подумав.
– Он не объяснил! Ну, простите, мисс, – сказала Гроуз, – мне нужно идти работать.
III
Хотя она и повернулась, таким образом, спиною ко мне, эта грубая отговорка, к счастью, если учесть справедливость моих опасений, не могла помешать усилению нашего взаимного уважения. После того, как я привезла домой маленького Майлса, мы еще ближе сошлись на почве моего изумления, моих взбудораженных эмоций: таким чудовищным казалось мне тогда то, что кто-то мог подвергнуть интердикту дитя, представшее передо мною.
Я немного опоздала на встречу, и мальчик стоял у дверей гостиницы, где его высадили из кареты, тоскливо поглядывая по сторонам; и при первом же взгляде я не только оценила его внешность, – я почувствовала его душу, восприняла сияющий ореол свежести, то же благоухание чистоты, которое ощутила при первом знакомстве с его сестренкой. Он был невероятно красив, и миссис Гроуз оказалась права: в его присутствии исчезали любые чувства, кроме страстной нежности. Что прямо тогда заставило меня принять его в свое сердце, было божественное свойство, коего в такой степени никогда больше я не встречала ни в одном ребенке – не поддающееся описанию выражение существа, не знающего в мире ничего, кроме любви. Его назвали злым, но он весь был – нежность и невинность, и к моменту, когда мы вернулись в Блай, я пришла в состояние замешательства, если не сказать негодования, из-за смысла мерзкого письма, запертого в ящике моего стола. Как только мне удалось улучить минутку, чтобы переговорить с Гроуз наедине, я сообщила ее, что письмо это – нелепица. Она сразу поняла меня.
– Вы имеете в виду, что жестокое обвинение?..
– Лживо насквозь. Моя дорогая, вы только взгляните на него!
Она улыбнулась, видя, что я прониклась обаянием мальчика.
– Поверьте, мисс, я только это и делаю! – И тут же добавила: – Что же вы теперь скажете?
– В ответ на письмо? – Это я уже решила: – Ничего.
– А его дяде?
– Ничего, – я была категорична.
– А самому мальчику?
– Ничего! – я была удивительно тверда.
Экономка крепко растерла свой рот краем передника.
– Ну, ежели так, я вся ваша. Мы это переживем.
– Мы это переживем! – подхватила я с жаром, протянув к ней руку, как бы давая обет. Она сделала то же самое, потом свободной рукой снова потеребила свой передник.
– Вы не рассердитесь, мисс, если я себе позволю…
– Поцеловать меня? Нет!
Я обняла это доброе создание, мы обнялись, как сестры, и укрепились в нашем негодовании.
Так шли наши дела в течение некоторого времени – времени столь насыщенного, что, вспоминая ныне те дни, мне нужно очень постараться, чтобы сделать прошлое немного отчетливее. Больше всего меня изумляет мое тогдашнее отношение к ситуации. Я взялась, с помощью подруги, замять дело; я была, несомненно, во власти какого-то очарования, скрывавшего от меня объем необходимых усилий, а также их отдаленные и сложные последствия. Страстное увлечение и жалость держали меня на высокой волне. Невежество, смятение и, быть может, самообман… Я считала, что мне не будет трудно воспитывать мальчика, чье знакомство с миром только начиналось.
Уже не могу вспомнить сейчас, какой план касательно окончания каникул и возобновления занятий я предложила Майлсу. В теории все мы понимали тем волшебным летом, что уроки ему мне следует давать; но теперь я думаю, что уроки, целыми неделями, получала я сама. Первое, чему я научилась и чего никто не преподавал в моей прежней узкой, душной жизни, было умение развлекать и даже самой развлекаться, не задумываясь о завтрашнем дне. По сути, тогда я впервые познала, что такое простор, и воздух, и свобода; я внимала музыке лета и постигала тайны природы. А еще я размышляла, и размышления мои были сладостными.
О, это была ловушка – никем не подстроенная, но глубокая – для моего воображения, моей утонченности, быть может, и для тщеславия; для тех струн моей души, которые легче всего возбуждались. Проще всего будет сказать, что я утратила бдительность. Дети доставляли мне так мало хлопот – они были чрезвычайно кроткими. Порой я все-таки раздумывала, хоть и весьма туманно, бессвязно, о том, как жесткое будущее (будущее всегда жестко!) возьмет их в оборот и сколько причинит боли. Они были в цвету здоровья и счастья; и все же меня не оставляло ощущение, что я отвечаю за двух юных отпрысков знатного дома, принцев крови, для благополучия которых необходимы замкнутость и защита. В моей фантазии единственным возможным будущим для них представлялся романтический, истинно королевский, расширенный вариант сада и парка. Разумеется, весьма возможно, что, после всего внезапно ворвавшегося в эту идиллию, предшествующее время обрело в памяти облик совершенного покоя – той тишины, под покровом которой что-то зреет или прячется. Перемена была подобна прыжку зверя из засады.
В первые недели дни были длинными; часто, в самую приятную пору, они дарили мне то, что я называла «мой час», – час, когда время чаепития и отхода ко сну для моих воспитанников пришло и миновало, и у меня еще оставался короткий промежуток до ухода в свою спальню, чтобы побыть одной. Как ни приятно мне было общество жителей усадьбы, этот час дня я любила больше всего, особенно когда свет дневной угасал, или, я бы сказала, день медлил уходить, и птицы еще перекликались, укладываясь спать в кронах старых деревьев, и небо розовело; тогда я могла прогуляться, наслаждаясь красотой и достоинством парка, как если бы стала его владелицей, что было и забавно, и лестно. В такие моменты мне нравилось чувствовать, что мой покой заслужен, и иногда думать о том, что моя сдержанность, спокойный здравый смысл и прочие высокие качества доставляют удовольствие – если он вообще обо мне вспоминал! – человеку, на чью настоятельную просьбу я поддалась. Я делала то, на что он серьезно надеялся и напрямую предписывал мне, и в конечном счете мне это удавалось, что приносило бóльшую радость, чем я ожидала. Смею сказать, короче, что я воображала себя выдающейся женщиной и тешилась мыслью, что однажды люди это признают. Да, для того, чтобы противостоять особенным событиям, которые вскоре начались, точно требовалось быть особенной личностью.
Это произошло внезапно, во время моего предвечернего отдыха; детей уложили в постель, и я вышла пройтись. Одна из мыслей, посещавших меня при прогулках – я не стану уклоняться от истины, – была, собственно, мечтой: как было бы чудесно, словно в волшебной истории, неожиданно встретить кое-кого. Кое-кто, наверно, появится вон там, на повороте тропинки, он остановится передо мной, улыбнется и похвалит. Я не просила ничего большего – только чтобы он знал; и не было другого способа удостовериться, что он знает, как увидеть его красивое лицо, почувствовать добрый взгляд. И вот я увидела его… то есть лицо…
В первый раз это случилось под конец долгого июньского дня. Я вышла из рощи и резко остановилась, взглянув на дом. Что же заставило меня застыть на месте, потрясенную сильнее, чем от любого видения? То, что воображаемая картина в мгновение ока стала реальностью! Он стоял передо мною на самом деле – но высоко вверху, над газоном, на крыше башни, куда малютка Флора привела меня в первое утро нашего знакомства. Башня была одной из двух – квадратные, неуклюжие, с зубцами поверху, эти строения мало отличались одно от другого, на мой взгляд, но их по какой-то причине именовали «старой» и «новой». Они примыкали к противоположным торцам дома и, видимо, относились к тому разряду архитектурных нелепиц, существование которых оправдывается в какой-то мере тем, что они все-таки не нарушают ансамбль, на особую высоту не претендуют, а их пряничная древность напоминала о периоде романтического возрождения, уже ставшем почтенной стариной. Мне башни нравились, они входили в мои фантазии, потому что их вид шел нам всем на пользу, особенно когда они проглядывали сквозь сумерки, превращая дом в величественную крепость; и все же фигуре, столь часто видевшейся мне, как-то неуместно было стоять на такой высоте.
Вид этой фигуры в прозрачных сумерках вызвал у меня, помнится, два острых всплеска эмоций: шок от первого удивления, а потом – от второго. Второе было реакцией на болезненное осознание первой ошибки: человек, представший перед моими глазами, не был тем, кого я поспешно вообразила. Обман зрения, потрясший меня, был таков, что спустя столько лет я и не надеюсь дать живое представление о нем. Обнаружить незнакомого мужчину в уединенном месте – допустимый повод для испуга молодой женщины, выросшей в узком кругу; а тот, кто смотрел на меня сверху, как я убедилась через несколько секунд, не имел ничего общего ни с кем-либо из моих прежних знакомых, ни с образом, занимавшим мое воображение. Я не видала его на Харли-стрит и нигде вообще.
Более того, самым странным образом, самим фактом своего появления он мгновенно превратил окрестности дома в безлюдную пустыню. Я утверждаю это сейчас с такой определенностью, как никогда прежде, и ощущения того момента возвращаются. Казалось, пока я осознавала то, что могла осознать, все вокруг было поражено смертью. Я и сейчас слышу ту глухую тишину, в которой утонули все вечерние звуки. Грачи уже не каркали в золотом небе, и милый закатный час на мгновение онемел. Других изменений природа не претерпела, разве что я обрела странную остроту зрения. Небо оставалось золотым, воздух – прозрачным, и человек, смотревший на меня сквозь зубцы башни, был виден отчетливо, как картина в раме. С чрезвычайной быстротой я перебрала в уме все предположения, кем он мог быть и кем не мог. Мы стояли друг напротив друга, разделенные расстоянием, достаточно долго, чтобы я напряженно задумалась над разгадкой и почувствовала, не имея возможности заговорить, удивление, которое вскоре еще усилилось.
Важнейший, или один из важнейших вопросов, как я впоследствии узнала, касательно некоторых явлений, – это вопрос их длительности. Что до моего случая, думайте что хотите об этом, но мне хватило времени перебрать дюжину возможных объяснений, из которых ни одно я не смогла признать лучшим, и допустить, что в доме находится – прежде всего, как долго? – особа, о присутствии коей я не была осведомлена. Явление еще длилось, когда я кое-как сообразила, что мой служебный долг не допускает ни наличия таких особ, ни такой неосведомленности. Оно длилось, и визитер – помнится, в его поведении не было скованности, а отсутствие на нем шляпы намекало на некоторую фамильярность, – казалось, не сходя со своего места, заставлял меня не шевелиться именно тем, что я пыталась найти ответы, вызванные его присутствием, тем, что наблюдала за ним в гаснущем свете дня.
Мы находились слишком далеко друг от друга, чтобы переговариваться, но, подойди я ближе, некий взаимный вызов, нарушающий тишину, стал бы закономерным результатом прямого обмена взглядами. Он стоял на наружном углу башни, не примыкавшем к дому, выпрямившись в рост, как мне показалось, и опираясь руками на выступ стены. Я видела его так же ясно, как буквы, которые вывожу сейчас на этой странице; спустя минуту он медленно, словно усиливая театральность эффекта, переменил позицию – прошел, не спуская с меня жесткого взгляда, к противоположному углу площадки. Да, я очень остро чувствовала, что, перемещаясь, он неотрывно глядел на меня, и я даже сейчас вижу, как его рука в движении касалась одного зубца парапета за другим. На том углу он остановился, но ненадолго, повернулся и ушел, но даже повернувшись, он каким-то образом удерживал меня. Он повернулся и ушел; это было все, что я узнала.
IV
Нельзя сказать, что я осталась подождать продолжения, – я просто приросла к месту от потрясения. Неужели в Блае есть «секрет» – что-то вроде тайн Удольфо[13]13
«Удольфские тайны» – один из известнейших романов Анны Радклиф (Ann Radcliffe, 1764–1823), создательницы «готического» жанра, написанный в 1794 г., главная героиня которого попадает в мрачную атмосферу зловещего Удольфского замка, и борьба с темными силами зла становится смыслом ее жизни. Однако тамошние привидения значительно романтичнее, чем безнравственные лакей и гувернантка.
[Закрыть] или душевнобольной неупоминаемый родственник, которого скрытно держат под замком? Не могу указать, как долго я размышляла над этим вопросом или как долго оставалась, под воздействием любопытства и страха, на месте столкновения; помню лишь, что вернулась домой, когда было уже совсем темно. Видимо, в промежутке возбуждение овладело мною и погнало прочь, так как, двигаясь кругами, я прошла, должно быть, около трех миль; но впереди меня ожидали потрясения куда более сильные, и этот случай, своего рода заря тревоги, по сравнению с ними не превышал уровня обычного человеческого волнения. По сути, самым необычным в тот вечер – при всей необычности последующих событий – оказался момент, когда я, войдя в холл, обнаружила там миссис Гроуз.
Эта картина встает предо мной со всеми подробностями, как будто я только что вошла: просторный белый зал с панелями, ярко освещенный лампами, с портретами на стенах и красным ковром, и добрый, удивленный взгляд моей подруги, восклицающей, что она беспокоилась обо мне. И стоило мне увидеть ее, почувствовать ее простую сердечность, услышать вздох облегчения при моем появлении, как я мгновенно поняла, что она не знает ничего относящегося к инциденту, о котором я собиралась рассказать. Я не предвидела, что утешительное лицо экономки заставит меня передумать, и мерой важности того, что мне довелось увидеть, стало мое нежелание говорить об этом. Пожалуй, ничто во всей этой истории не кажется мне столь странным, как то, что настоящий страх пришел ко мне, так сказать, вместе с инстинктивным стремлением пощадить мою соратницу. Поэтому тут же на месте, посреди уютного холла, под ее взглядом, по причинам, кои тогда не могла бы выразить словами, я приняла решение молчать, придумала объяснение для моей задержки, потом, сославшись на красоту ночи, на обильную росу и промокшие ноги, поспешно удалилась в свою комнату.
Здесь началась иная жизнь; здесь, на протяжении многих дней, жизнь приобретала все более странный оттенок. Изо дня в день случались часы – а то и минуты, даже если я была занята делом, – когда мне требовалось закрыться у себя и подумать. Не то чтобы я нервничала больше, чем могла себе позволить, скорее сильно боялась начать нервничать; ибо истина, с которой мне было необходимо ужиться, простая и ясная, заключалась в том, что я не могла никоим образом понять, кто был тот пришелец, который столь необъяснимо и все же, как мне казалось, лично затронул меня. Не потребовалось много времени, чтобы без открытых расспросов, не привлекая ничьего внимания, убедиться в отсутствии какого-либо домашнего секрета. От перенесенного шока все чувства мои, видимо, обострились; спустя три дня, просто благодаря большей внимательности, я убедилась, что не была объектом ни происков прислуги, ни чьей-либо «игры». Окружающие меня люди не знали ничего особенного. Мне удалось найти лишь одно здравое объяснение: кто-то позволил себе довольно грубую выходку. Именно затем, чтобы снова и снова убеждать себя в этом, я пряталась в своей комнате и запирала дверь. Все мы подверглись вторжению: какой-нибудь бессовестный путешественник, любитель старинных зданий, проник в усадьбу незамеченным, полюбовался видом с самой выгодной точки зрения и тем же путем прокрался обратно. То, что он так упорно глазел на меня, было лишь проявлением его дерзости. В конце концов, хорошо было уже то, что мы его уж точно больше не увидим.
Я признаю, что в этих попытках разобраться в загадке самостоятельно не было ничего хорошего, но для меня куда больше значила моя прекрасная работа. Работой была просто жизнь с Майлсом и Флорой, и она нравилась мне особенно потому, что ею я могла спастись от тревог. Мои скромные обязанности стали источником постоянной радости, и я то и дело вспоминала с удивлением свои пустые страхи, свое предубеждение против предполагаемой серой прозы моей службы. Здесь, как выяснилось, не потребовалась долгая кропотливая подготовка, и серой прозе не было места, так почему бы не наслаждаться работой, ежедневно являвшей мне красоту? Мне открылась вся романтика детской и поэзия классной комнаты.
Конечно, это не значит, что мы изучали только художественные произведения и стихи; просто иначе я никак не могу выразить тот интерес, который вызывали у меня ученики. Трудно это описать, но дело в том, что я не только растила их: я постоянно делала новые открытия – что для гувернантки истинное чудо, призываю коллег засвидетельствовать это! Правда, одна область оставалась недоступной для открытий, – глубокая тьма по-прежнему покрывала вопрос о поведении мальчика в школе.
Я уже упоминала, что мне удалось быстро научиться воспринимать эту тайну без душевной боли. Пожалуй, будет ближе к истине сказать, что ребенок сам прояснил ее, не произнеся ни слова. Он доказал всю абсурдность обвинений. Вывод, к которому я пришла, был окрашен истинным цветом его невинности: такому тонкому и честному существу было не место в узком, мерзком, нечистом школьном мирке, и он поплатился за это. Поразмыслив, я поняла, что подобные различия, разница в качествах, неизбежно вызывают со стороны большинства – включая глупых, убогих учителей – жажду расправы.
Эти дети отличались кротостью (это был их единственный недостаток, и он не портил Майлса), которая делала их… как бы это лучше выразить?…почти безликими и, конечно, совсем ненаказуемыми. Они походили на херувимов из известного анекдота, которых – в моральном аспекте, в любом случае – невозможно было ударить в спину![14]14
На какой именно анекдот намекает автор, установить не удалось; не исключено, что он вымышлен. Херувим – упоминаемое в Библии крылатое небесное существо, принадлежащее ко второму ангельскому чину. Их по христианской традиции изображают в виде головы с четырьмя крыльями, соответственно, ударить его в спину (отсутствующую) было бы невозможно. На основании этого факта переводчику пришлось построить свою «реконструкцию».
[Закрыть] Помнится, имея дело с Майлсом, я порой чувствовала, что у него как будто не было никакой предыстории. Мы понимаем, что у маленького ребенка история недлинная, но в характере этого прекрасного мальчика было столько чуткой и счастливой беззаботности, сколько я не видела ни у одного ребенка его лет, и для него как будто каждый новый день был первым. Он не знал, что такое страдание. Для меня это стало прямым доказательством того, что на самом деле его никто не наказывал. Если бы он был злым, зло «въелось» бы в его душу и я распознала бы это по отражению – нашла бы следы. Но я не нашла ничего такого, и Майлса следовало считать ангелом. Он никогда не заговаривал о школе, не упоминал ни товарищей, ни учителей; я же со своей стороны не желала поднимать эту неприятную тему. Конечно, я была околдована, и удивительно, что даже в то время я это отлично сознавала. Но я примирилась с этим; такая жизнь служила противоядием от всех душевных бед, а у меня таких бед было немало. В те дни я получала тревожные письма из дому, где дела шли неважно. Но разве рядом с моими детьми что-то могло меня смутить? Этот вопрос я задавала себе в редкие часы уединения. Я была ослеплена их прелестью.
Однажды в воскресенье дождь лил как из ведра несколько часов подряд, и о походе в церковь не могло быть и речи; поэтому ближе к концу дня я договорилась с миссис Гроуз, что, если вечером погода станет получше, мы вдвоем сходим на вечернюю службу. К счастью, дождь прекратился, и я приготовилась к прогулке: если пройти через парк и дальше по хорошей дороге до деревни, это заняло бы двадцать минут. Спускаясь по лестнице в холл, где меня ждала моя спутница, я вспомнила о паре перчаток, которые нуждались в небольшой починке, каковую я и произвела публично, хотя, возможно, и не педагогично, когда сидела с детьми за чаем – по воскресеньям, в виде исключения, его подавали в том холодном, чисто прибранном храме красного дерева и бронзы, который именовали «столовой для взрослых». Там перчатки и остались, и я вернулась за ними. День выдался пасмурный, но послеполуденный свет еще не угас, и, ступив на порог комнаты, я разглядела не только искомый предмет на стуле у широкого окна, но и человека по другую сторону закрытой оконной рамы, смотрящего внутрь.
Одного шага хватило; войдя в комнату, я мгновенно узнала видение. Человек, смотрящий внутрь, был тот самый, что уже являлся мне. Итак, он появился снова и был виден – не скажу отчетливее, ибо это было невозможно, – но гораздо ближе; это был новый шаг в нашем общении, и это зрелище заставило меня затаить дыхание и похолодеть. Он был виден, как и в прошлый раз, до пояса, так как окно столовой, хотя она и располагалась на первом этаже, не доходило до террасы, где он стоял. Лицо его почти касалось стекла, но, как ни странно, лучше видя его, я лишь осознала, насколько четким был его образ прежде. Спустя несколько секунд он скрылся, но я поняла, что он успел увидеть и узнать меня; и мне показалось, будто я глядела на него долгие годы и знала его всегда. Впрочем, на этот раз случилось кое-что, чего не было тогда; его взгляд сквозь стекло был устремлен на мое лицо, такой же глубокий и тяжелый, но на мгновение он отвернулся, и я заметила, что он посмотрел на несколько предметов в комнате, один за другим. Тотчас потрясение мое усилилось оттого, что я поняла: не ко мне он приходил сюда. Он приходил к кому-то другому.
Вспышка понимания – понимания, вызванного ужасом, – произвела на меня чрезвычайное воздействие: в моей душе внезапно завибрировали струны долга и отваги. Я говорю «отваги», потому что, без сомнения, зашла уже очень далеко. Выскочив из комнаты, я добежала до входной двери, молнией вылетела на аллею, обошла, не мешкая, террасу и, завернув за угол, осмотрелась. Но смотреть было не на что – посетитель исчез. Я остановилась, едва не упала, чувствуя истинное облегчение, но продолжала осматриваться окрест – давая незнакомцу время появиться вновь. Время, говорю я, но сколько оно длилось? Сейчас я не могу судить о длительности этих событий. Видимо, способность к измерению оставила меня тогда: они не могли длиться столько, сколько мне казалось. Терраса и все вокруг нее: газон и сад за ним, доступная взгляду часть парка – все было абсолютно пустынно. Я видела заросли кустарника и высокие деревья, но я помню, как твердо была уверена, что он за ними не прячется. Он мог там быть, мог не быть; но раз я его не вижу, значит, его нет. За это соображение я уцепилась; затем, вместо того, чтобы вернуться тем же путем, я по наитию подошла к окну столовой, смутно понимая, что должна постоять там, где находился пришелец.
Так я и сделала: приложила лицо к раме и посмотрела, как он, внутрь комнаты. Будто нарочно, для полного сходства, из холла в столовую вошла Гроуз, как я до того. Это позволило мне представить, что перед тем происходило со мной. Она увидела меня, как я – пришельца; она застыла на месте, как я; от меня ей как бы передалась часть пережитого шока. Она побледнела, и я спросила себя, была ли я так же бледна. Она коротко взглянула и отступила, повторяя мой путь, и я поняла, что она сейчас выйдет из дому, обогнет его, и мы встретимся здесь. Я осталась на месте и, поджидая ее, думала о разных вещах. Но только об одном я здесь упомяну. Меня удивило, почему она тоже испугалась.
V
О, экономка дала мне ответ, как только, обогнув угол, появилась передо мной.
– Ради всего святого, что случилось? – Она теперь раскраснелась и запыхалась. Я промолчала, пока она не подошла поближе.
– Со мной? – наверно, мне удалось изобразить удивление. – А что, видно?
– Вы побелели, как полотно. Ужасно выглядите.
Я задумалась; я могла без стеснения использовать эти слова, чтобы разрушить ее неведение. Необходимость уважать стеснительность Гроуз упала без шороха с моих плеч, и если я на мгновение заколебалась, то вовсе не оттого, что хотела отступить. Я протянула руку, и экономка взяла ее; я держала крепко, мне нравилось ощущать близость к ней. В робко растущем удивлении Гроуз я нашла некоторую поддержку.
– Вы пришли, чтобы идти со мною в церковь, я понимаю, но пойти не смогу.
– С вами что-то случилось?
– Да, и вам следует это узнать. Я выглядела странно?
– Через окно? Просто страшно!
– Неудивительно, – сказала я, – меня сильно испугали.
По лицу Гроуз было ясно видно, что она пугаться не желает, и все же она слишком хорошо помнила свое место, чтобы не разделить со мною любую явную неприятность. О да, само собой подразумевалось, что она должна!
– То, что вы увидели из столовой минуту назад, – это последствие испуга. А то, что видела я – чуть раньше, – было гораздо хуже.
– Что же это такое? – рука экономки дернулась.
– Крайне странный человек. Он глядел в окно.
– Что за человек?
– Не имею ни малейшего понятия.
Миссис Гроуз без толку огляделась.
– Куда же он делся?
– Я и этого не знаю.
– А раньше вы его видали?
– Да, один раз. На старой башне.
Она смогла лишь пристальнее поглядеть на меня.
– Вы хотите сказать, что это посторонний?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?