Текст книги "Гольфстрим"
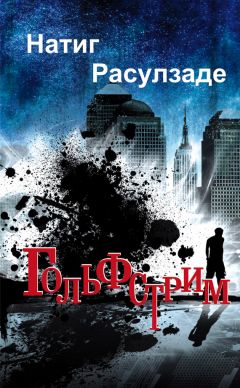
Автор книги: Натиг Расулзаде
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
– Давай рискнем, – сказал я, – ведь убрать никогда не поздно. А вдруг пройдет.
Он подумал и согласился. Он от души смеялся над многими сценами и в последнее время, можно сказать, жил этим сценарием, очень хотел его снять. Но Шахмар тяжело заболел и умер. До последних дней он жил надеждой. Перед отъездом в Германию, на операцию он мне сказал:
– Вот вернусь и, дай Бог, начнем работать.
Но не сбылось. А сценарий до сих пор не реализован, я его никому не отдаю. Знаю в таких делах надо быть прагматичным, отбросить всякую сентиментальность, можно было бы даже посвятить фильм памяти этого замечательного человека и актера, но… Я никому не отдаю этот сценарий, не хочу…
Да, мне было тринадцать, и после того неудачного похода в кино во время уроков, где вместе со мной сидели в зале почти все ученики нашего класса, меня вместе с ними чуть не выгнали из школы. Но это оказалось очередным «чуть», которое на протяжении десяти лет учебы повторялось из года в год по разным причинам. Нервотрепки, однако, очередное убегание с уроков доставило мне немало, я подвергся домашнему аресту, после школьных занятий, разумеется, в самое интересное «уличное время», когда все мальчишки нашей улицы, пообедав после школы, выходили играть, общаться, выяснять отношения, или мириться, выяснив их. Чаще мы играли в футбол на нашей узенькой кривой, вовсе не приспособленной для футбола улице. Но были и другие игры – чехарда, когда мальчики прыгали друг через друга, шумагадар – это игра с железными крепкими прутьями, их втыкали в землю, стараясь сбить ранее воткнутый в землю прутик соперника и тогда его прутик считался выигранным, наккули – специально приспособленную палочку-пульку били лопатообразной доской, стараясь отбить как можно дальше; и много еще было игр менее популярных, но футбол был самой любимой нашей игрой, в которую мучительно было играть на неудобной улочке, каждый раз пережидая машины, проползавшие со скоростью тридцать километров в час мимо нас, вжавшихся в стены домов под окрики матерей:
– Осторожнее! Машина!
– Хватит околачиваться на улице! Живо домой!
Поэтому мы часто бегали играть в футбол во двор мечети «Тезе-пир», прямо напротив нашего дома. Но не успевали мы разыграться, как во двор выскакивал дворник мечети, работавший по совместительству мюрдеширом – мойщиком трупов. Он гонял нас со двора метлой, крича:
– Кяфиры, вероотступники! Аллаха не боитесь! Пошли прочь! Убирайтесь из дома Аллаха!
Конечно, мы убирались, но двор мечети был будто специально предназначен для игры в футбол – ровный, гладко асфальтированный. И мы всякий раз не могли устоять, поддавались соблазну, надеясь, что на этот раз дворник, может быть, будет спать в своей каморке и не услышит нас, или заболеет, или отлучится по делам, а играли мы тихо, стараясь как можно меньше шуметь. Но это не помогало, минут через пять, много – десять грозный дворник с метлой появлялся, как злой рок, стараясь настичь нас и достать своим грязным орудием труда.
На даче мне строго– настрого было запрещено ездить на пляж на велосипеде, но днем, когда все на даче – мама, бабушка, родственники, часто навещавшие нас, спали, а отец был на работе в городе, я тайком выезжал и катил на велосипеде к пляжу. Доехать на велосипеде до пляжа можно было минут за пятнадцать на нормальной скорости, а на ненормальной я доезжал обычно за десять. У меня уже были свои часы, которые на день рождения подарил мне папин друг, дядя Виктор. Однажды на дороге на пляж я заметил на асфальте валяющийся гвоздь и специально наехал на него колесом велосипеда. Гвоздь лежал очень удобно, поперек колеса и по моим расчетам не мог вонзиться в шину, но когда я наехал он вдруг прокрутился под колесом и вонзился в покрышку, которая тут же с коротким злорадным шипением спустила. Я любил испытывать судьбу, еще не зная известную истину, что нельзя искушать судьбу, я её искушал и в хвост и в гриву, и она мне отвечала тем же. Не солоно хлебавши, не доехав до пляжа, я под обжигавшим полуденным солнцем, босиком по горячему асфальту ведя за руль покалеченный велосипед шел домой, заранее готовясь к очередной головомойке и долгому ворчанию бабушки и мамы, что меня просто бесило…
К нашей школе, расположенной в криминально неспокойном районе города, часто приходили молодые бездельники, хулиганы. Они курили легкий наркотик – анашу, очень популярный в то время в нашем городе, провожали затуманенными взглядами старшеклассниц, что-то говорили им вслед, иногда ввязывались в драку с особо ершистыми десятиклассниками, но драки тут, возле школы быстро затухали, потому что рядом со школой, буквально в нескольких шагах находился участок милиции, и сидел там недремлющий участковый уполномоченный в чине лейтенанта, оперативно реагирующий на всякие стычки между буйной молодежью своего района.
К школе подъезжал время от времени молодой парень, сын известного в городе композитора. Ему было лет восемнадцать, но он имел уже свою машину, конечно, купленную отцом, и одевался по последней моде. Мы мальчишки очень завидовали ему и старались подражать в одежде, в манерах, в поведение. Он был пижоном и одним из известных стиляг нашего города. В те годы были в моде расклешенные брюки, тупоносые туфли и плащи-болонья, так у этого парня брюки были настолько расклешенные, что еще немного и они напоминали бы юбку. Я тоже хотел бы так одеваться, дома я прожужжал родителям уши, но реакция была нулевой; мне, говорили они, следует одеваться, как тринадцатилетнему мальчику, а не как известному в городе стиляге и бездельнику, который нигде не учится, нигде не работает, а только разъезжает на папиной машине и лоботрясничает возле школы, дразня своим внешним видом таких, как я шестиклассников с неокрепшими еще мозгами, которым надо учиться, а не щеголять в клеше, как матрос, и в плаще, напоминающем кожуру лука. Вот так они относились к моде, но, видимо, мне и правда было рановато так по моде одеваться. Но я хотел, мечтал, в мечтах имел. Мечтать ведь не запретишь.
В Литературном было много забавных случаев. Это был уникальный институт, и в нем получало литературное образование очень ограниченное число студентов, но вследствие того, что литература и искусство, и в первую очередь кино, расценивалось руководством страны советов прежде всего как пропаганда существующего и «самого справедливого» тоталитарного режима, в этот идеологический ВУЗ просачивалось много лишних, лишенных способностей, но политически «верно ориентированных» студентов, даже несмотря на весьма жесткий отбор при поступление. Один из таких случайных студентов просочился и на наш курс, и на творческом семинаре, который вел у нас – не могу его не упомянуть, мир праху – прекрасный, очень мягкий по характеру человек, руководитель семинара Анатолий Васильевич Старостин, произошел как-то забавный случай. Старостин, прочитав, под аккомпанемент наших смешков и реплик, полуграмотные вирши, начинающего «поэта», заключил свое чтение словами:
– Знаете, уважаемый сеньор (он был переводчиком с испанского и всех нас в шутку называл «сеньорами»), мне кажется, стихи у вас… ну, как сказать… не очень получаются. Может, вам попробовать себя в прозе, а?
И было видно, как ему не по душе сообщать студенту подобные неприятные вещи. Но сообщать надо было. Прошло месяца два, и этому «уважаемому сеньору» вновь пришел черед отчитываться за работу, проделанную за истекший срок; мы все по очереди периодически отчитывались на семинарах написанными стихами, рассказами, или переводами. И вот этот студент представил на сей раз, по совету руководителя семинара, рассказ, если только написанное им можно было назвать рассказом. Было смешно, неописуемо бездарно, и все мы покатывались от смеха, сопровождавшего наиболее кошмарные моменты читаемого автором опуса. И вот, наш Старостин, забыв свои рекомендации двухмесячной давности, говорит:
– Знаете, уважаемый сеньор, мне кажется, с прозой у вас не совсем получается. Может, вы попробуете писать стихи? Вы любите поэзию?
Ну, тут мы грохнули! Откровенно расхохотались, так что, недалекий «уважаемый» тоже захихикал, поддерживая коллектив. Старостин, человек уже в те годы пожилой и очень занятой, попросту забыл свои слова, сказанные на первом обсуждение стихов студента. И вот получился такой забавный эпизод.
Студенческие годы были полны подобных казусов, полны любви и работы, которую я выполнял с увлечением, с нетерпением ожидая отзывов нашего руководителя семинара, человека с тонким литературным вкусом, большим опытом и талантом. Я писал (не могу употребить слово – работал – как бы мне этого не хотелось, для меня пока это было увлечением) и мне было интересно писать, потому что впервые столкнулся с тем как девственно чистый лист бумаги в процессе письма может открывать совершенно неожиданные вещи, которые заставляют чаще биться сердце. Конечно, тогда у меня не было и не могло быть никаких мыслей о гонорарах. Я работал бескорыстно, для себя и интуитивно чувствовал, что если мне интересно писать и перечитывать написанное, то и читателю, кем бы он ни был, будет интересно. Я писал, опираясь на свой небольшой, двадцатилетний опыт, и естественно, жизненного опыта мне не хватало, но я черпал из себя, описывая свои чувства, ощущения, кроме того, у меня были интересные образы, люди, с которыми я общался, которых наблюдал и жизни и судьбы которых домысливал про себя, дав волю своей фантазии – это персонажи, почерпнутые из студенческих лет во время учебы у себя на родине в Политехе, студенты и преподаватели, люди знакомые мне на протяжении двадцати моих лет. Я вовремя понял, что в литературе важен в первую очередь – герой, все должно крутиться вокруг героя произведения. Потому и живут книги классиков, что у них живые, полнокровные, интереснейшие образы, которые мы примериваем на себя всю жизнь, перечитывая их произведения. Потом уже сюжет. Но как бы интересен ни был бы сюжет, его хватает только на один раз; никто из-за известного уже ему сюжета не станет перечитывать книгу, это как сыгранная однажды шахматная партия, никому не захочется повторить её рисунок в точности. А живые люди, персонажи, образы – совсем другое, ты каждый раз, на разных этапах жизни находишь в них нечто новое, что не заметил раньше, пять или десять лет назад. Вот с такими убеждениями я писал и, кажется, получалось, и однажды Старостин при всех на очередном семинаре неожиданно для меня, когда читали и разбирали мой новый рассказ, заявил во всеуслышание:
– Как пишет Натиг у вас, в Азербайджане, пожалуй, никто так не пишет.
После этого заявления я целый день ходил оглушенный его словами, для меня он был авторитетом. Но потом его фразу мои сокурсники – с моим участием, надо сказать – стали переиначивать, шутливо превращая в свою противоположность:
– Как пишет Натиг, никто в Азербайджане так плохо не пишет.
Мы все были молоды, и везде и во всем искали смешную сторону и хохотали беззаботно над каждой шуткой, готовые осмеять все, что видели и слышали. И я тоже шутил и смеялся вместе со всеми, в душе, однако, сожалея, что главное слово во фразе Старостина не было им произнесено, и теперь эту фразу можно было выворачивать наизнанку; это было жаль, потому что именно его мнение для меня тогда было весьма ценным. Но главным критерием, все же оставалось мнение самих студентов-насмешников, твоих сокурсников, товарищей, и когда они не находили повода для шуток, затихали, читая твои рассказы или этюды, не могли найти и не искали возможности придраться и поёрничать по поводу написанного тобой, то это – я чувствовал – и была высшая похвала, было признанием того, что у тебя получилось, что вещь состоялась.
После похвалы известного, маститого литератора (кстати, неплохо осведомленного о современной азербайджанской литературе, потому как он переводил и наших писателей), я чувствовал, у меня начинается небольшая, временная мания величия, и чтобы в корне пресечь это вредное, хоть и приятное ощущение, я отправился в известное молодежное кафе «Метелица» и познакомился с симпатичной девочкой, которая здорово танцевала, вертя своей идеально круглой попочкой.
Я много писал в то время, видимо, интуитивно сознавая, что только практика (что бы ни говорила теория, литературоведение) поможет достичь профессионализма, и чем больше работаешь, тем скорее избавляешься от слабых, лишних, фальшивых сторон в творчестве, изживаешь их. Но жизнь молодого человека в Москве, и в частности жизнь в стенах общежития Литературного, состояла, разумеется, не только из работы.
Наконец, после долгого хныкания, мне удалось добиться, что родители скрепя сердце, купили мне, тринадцатилетнему подростку, модные туфли, но было это летом на даче, когда все мои товарищи и я были на каникулах, и я ни перед кем не мог похвастаться обновкой. Кроме того, мне по моей настойчивой просьбе, заказали узкие, как кальсоны, брюки, что было в то время модно, я был счастлив, но снимать – одевать еще куда ни шло – было мучительно и долго (ничего не поделаешь, мода порой бывает зла и непредсказуема). Это было в начале лета, и я боялся, что к концу летнего сезона, к осени, когда начнутся занятия в школе, мода изменится, и опять станут носить широкие расклешенные брюки и тупоносые туфли. Я часто открывал картонную коробку, в которой аккуратно были уложены мои новенькие туфли с твердой кожаной подошвой, брал их в руки и нюхал. Мне нравился их запах, он напоминал мне город, я был до мозга костей городским, я любил город и не очень любил бывать на даче; на даче я скучал, разве что поездки на пляж немного развеивали эту скуку. Я до сих пор могу восстановить запах этих туфель, они были желтого цвета и пахли кожей и клеем, и этот запах запомнился мне как один из запахов, окружавших меня в детстве.
Запахи – самый верный ориентир, самый близкий путь, чтобы вернуться в детство. Я надевал носки, брюки, осторожно влезал, помогая себе рожком, в туфли и с наслаждением, медленно ходил по комнате из угла в угол, не сводя взгляда от желтой, блестящей кожи новенькой обуви, не обращая внимания на то, что моим ногам, огрубевшим, немного опухшим от ходьбы босиком по горячему песку, тесновато и не очень комфортно в ней; потом снимал туфли и аккуратно укладывал в коробку, с сожалением временно расставаясь с ними. Как-то за этим занятием меня застала мама – я ходил по комнате и любовался на обновку – и отчитала.
– Не надо привязываться к вещам, – сказала она. – Наши вещи не должны жить дольше нас, это всего лишь туфли и у тебя в жизни будет еще много пар обуви.
Она была права, но именно эта пара обуви, как и многие другие воспоминания из моего детства, имеющие яркие цвета и запахи, или неудовлетворенное и все еще острое чувство нанесенной и не отмщенной обиды, помогали мне вернуться в те далекие годы.
А, кстати, зачем возвращаться? Многие люди процветают, купаются в роскоши и довольстве, полнокровно живут сегодняшним днем, прагматически, по-деловому относясь к каждому дню, каждому часу, или же – напротив: живут, не вылезая из безденежья, прозябают, день и ночь стараются улучшить свое существование, обеспечить семью; и те и другие вряд ли стараются детально, полностью вспомнить свои детские годы; первой категории это ни к чему, а второй не до того.
Но все-таки, возвращаться в годы детства нужно, необходимо, хотя бы ради того, чтобы твердо знать – у тебя было детство, детство у тебя было; а без этого далекого прошлого настоящее – это дом на песке, если, конечно, речь идет о людях уважающих свои чувства и воспоминания. Детство – это теплое течение в буднях твоей жизни, и у многих с возрастом оно иссякает, или смешивается с холодным, это течение. И важно сохранить его первозданно теплым.
В годы учебы в Литературном меня стали печатать, и однажды я с гордостью принес журнал со своим первым опубликованным рассказом, чтобы его выставили на стенде в коридоре института, как делали со всеми студенческими публикациями. Я был не первый и не последний студент, работу которого опубликовали, за стеклом на полке стояли газетные листы и журналы со студенческими статьями, стихами и прозой, но мне казалось, что мой рассказ особенный, он должен больше привлекать внимания, как думает каждая мама о своем малыше, что он – самый лучший на свете. Первая публикация очень важна в жизни молодого писателя, я будто прилив сил почувствовал и стал писать активнее и работать вдумчивее. На первый свой гонорар я купил свою первую пишущую машинку «Эрика» (она же и последняя, потому что в дальнейшем я очень полюбил её, любил на ней работать, она была для меня как живое существо, я много раз за долгие годы отдавал её в ремонт, но не расставался с ней), правда, гонорара, чтобы оплатить целиком долгожданную покупку, не хватило, но тут помогли родители, прислав мне недостающую сумму. В общежитие мало у кого была пишущая машинка, некоторые брали из проката, и мою «Эрику» часто просили товарищи; я неохотно давал, просил обращаться аккуратно, а впоследствии научился отказывать, приводя убедительный довод: даже когда мне не работалось, я заправлял машинку чистым листом бумаги, чтобы создать видимость, что машинка мне самому нужна в данный момент. Мне не хотелось отдавать её в чужие руки, и шел я на это скрепя сердце.
Вслед за первой публикацией пошли другие, стали выходить книги, я начал писать сценарии для художественных фильмов; теперь, когда прошли годы и десятилетия, многие из этих работ не сохранились даже в моих архивах (я никогда не обращался аккуратно с рукописями), но хорошо помню, что начав печататься, я стал более строго и избирательно относиться к своим работам. Как-то, приехав на зимние каникулы, я собрал целый чемодан неудавшихся, на мой взгляд, рукописей, поехал на дачу, вырыл на открытом месте яму, свалил бумаги в эту яму и сжег без сожаления. В активе оставались более удачные произведения, их было немало, и это радовало. Радовало, что теперь я могу позволить себе, почти как профессиональный писатель, избавляться от более слабых вещей, не сожалея о потраченной работе и времени, потому что голова моя была забита новыми идеями и проектами.
Фантазии и сны не менее реальны, чем наша жизнь. Я многое почерпнул из снов и фантазий, вводя в них героев, наделенных чертами нескольких знакомых мне людей, а то и дюжины хорошо знакомых, наделял их своими чертами, в результате получался живой образ, который вполне мог быть в жизни, со своим характером, внешностью, любимыми выражениями, характерной речью и жестами. Я, как на волшебство смотрел на рождение такого человека, и все остальное вращалось вокруг него, все события, эпизоды, сюжетные линии. Как и в жизни, в литературе самым большим чудом является рождение человека.
Много раз я среди ночи вскакивал с постели и садился за письменный стол, чтобы записать то, что видел сейчас во сне, чтобы зафиксировать то, что меня потрясло своей неуловимостью, тончайшими, зыбкими очертаниями, эфемерностью и в то же время пронзительной чувственностью, но трудно было ухватить нечто воздушное, уплывающее и тающее, как облако на солнечном небе и передать его грубыми словами, почти никогда не передающими тонкие чувства. Я начинал понимать, как писатели сходят с ума.
До моих одиннадцати лет мы снимали квартиру напротив мечети «Тезе-пир», о которой я уже упоминал. Тогда улочки нашего города были кривые, горбатые и весь город сосредотачивался там, что сейчас называют центром города, хотя сейчас центр не один, а несколько. Но тот пятачок, где многие проживали в середине прошлого века был и центром и всем городом. Рано утром – зимой было еще темно, как ночью – с минарета мечети муэдзин пел азан, напоминая верующим о времени утреннего намаза – молитвы. Пение его просачивалось в мой сон и видения мои становились грустными под стать азану, и не хотелось просыпаться, а хотелось зарыться в одеяло и не вставать, не ходить в школу, не возвращаться, как каждое утро в этот грустный мир. Но мама меня будила и я все таки поднимался, боясь опоздать. Я всегда боялся опоздать, боюсь до сих пор. Даже туда, куда опаздывать нужно, куда все опаздывают. Нет, я всегда приходил первым, за две-три минуты до назначенного часа. Зимой вставать рано утром и идти в школу было мучением, приходилось пересиливать себя и по полутемной, еще не проснувшейся улице с портфелем в руках тащиться на уроки, встречать обгонявших меня одноклассников, таких же сонных и вялых. Но в школе я оживал на беду учителям, правда, это длилось всего несколько лет; после начальной школы, в старших классах, я был уже не таким диким, энергии поубавилось, но из школы я мало что вынес, кроме любви к чтению и писанию сочинений; тут я мог такое напридумать-нафантазировать, что порой учительница не могла понять, что я хотел сказать, а я в свою очередь не мог вразумительно объяснить: слова одно за другим стремительно вылетали из меня, наваливаясь на тоненькие, тщедушные мысли и погребая их под собой; как дети в игре «куча-мала», когда самые слабые остаются внизу кучи, попискивая и стараясь высвободиться.
С нами в Литературном учились студенты иностранцы, в основном из стран социалистического лагеря – Болгарии, Польши, тогдашней Чехословакии, тогдашней Югославии, и был один студент из Каира, примерно мой ровесник, звали его Хасан, сын богатых родителей. Я тогда плохо представлял себе, как могут привольно жить сыновья богатых родителей в капиталистических странах, потому что, в противоположность им, дети богатых родителей в нашей стране, конкретно – в моем городе, были весьма ограничены в своих возможностях по сравнению с тем же Хасаном, рассказы которого об «их нравах», об «их неправильном, загнивающем строе» я слушал с открытым ртом. Ведь советские богачи, как правило, боялись откровенно выставлять свои богатства, пользоваться всеми благами, которые могли предоставить им большие деньги: они не могли покупать по нескольку машин, или яхты, или виллы, или ездить в кругосветное путешествие, все деньги заработанные, или присвоенные ими считались в те годы «нетрудовыми доходами», что каралось определенной и очень серьезной статьей уголовного кодекса; и потому наши, советские миллионеры, старались жить тихо, как мыши, и детей своих принуждали жить по мышиному. Чего нельзя было сказать о том же моем друге Хасане. Я обычно проводил каникулы в своем родном городе, изредка выезжая в другие города, если появлялась возможность. Хасан же, кажется, на каникулах за время учебы в институте объездил пол мира.
– В этот раз, – рассказывал он мне, – я полетел домой, но было скучно и через неделю я поехал в Испанию. Великолепная страна. Я был в Кордове на родине Лорки, в Мадриде… Ты бывал в Испании?
– Издеваешься? – уныло спрашивал я в свою очередь, и он вспоминал, что его вопрос на самом деле звучит издевательски для советского студента.
– А, да, – продолжал он. – Потом оттуда я слетал в Рим, давно хотелось посмотреть студию «Чинечитта», на которой работает Феллини. Это здорово! Потом я полетел в Нью-Йорк… Потом…
Он неплохо говорил по-русски, но словарный запас у него был небольшой, намного уступал географии его поездок по миру. Он каждый раз привозил мне подарки, то блок американских сигарет, то жвачки, а однажды привез и подарил мне пачку итальянских презервативов, за что я был ему по-настоящему благодарен: советские по своему качеству мало чем уступали наждачной бумаге. И вот, как-то вхожу я к нему в комнату, а Хасан помирает от смеха один в комнате. Сначала я подумал, что он сходит с ума.
– Нет, – сказал он. – Это надо видеть.
И повел меня в комнату нашего сокурсника из Рязани. Хасан распахнул дверь соседа и показал на веревку, протянутую через всю комнату, предназначенную для сушки белья.
– Посмотри на это, – сказал он, показывая на веревку.
На ней сиротливо висел постиранный и вывешенный сушиться ярко оранжевый презерватив.
– А что такого? – улыбаясь, сказал хозяин комнаты. – Жалко ведь такую вещь выбрасывать, пригодится еще на один разок…
Но конечно жизнь в Москве тех лет, по которой я порой очень скучаю и учеба в Литературном не ограничивалась только подобными забавными эпизодами, жизнь моя была полна творчества, я работал увлеченно, азартно, порой – ночи напролет, забыв, что все-таки утром придется вставать и идти на занятия в институт, и дни, когда мне хорошо работалось (после нескольких публикаций я думал, что уже имею право называть то, что пишу работой, как настоящий профессионал), были наполнены радостью, заставлявшей биться сердце чаще, даже несмотря на то, что иногда работа шла мучительно тяжело. Главное – работалось, потому что даже тогда, когда я, можно сказать, делал свои первые шаги в литературе, мне пришлось испытать что такое творческий застой, когда вовсе не работалось и приходилось заполнять дни свои сомнительными удовольствиями: студенческими пирушками, когда напивался до изжоги и не мог потом спать и случайными девочками.
В детстве мы как правило хотим быть похожими на кого-то, на каких-нибудь киногероев, артистов, боксеров, но зачастую это бывают наши родители. Мы хотим подражать нашим отцам. Но мне не хотелось быть похожим на отца, потому что он всегда не делал так, как я хочу: мне, шестилетнему малышу очень не хотелось ходить с ним в баню, но приходилось, ничего не поделаешь; а потом, когда мы возвращались домой, мне очень хотелось выпить холодной сладкой газировки с сиропом, но папа не покупал, зная, что потом у меня начинает болеть горло.
– Дома мама даст нам чаю с вареньем, – успокаивал он меня. – Ты ведь любишь чай с вишневым вареньем?
– Ненавижу!
– Вот и отлично. Попьем чаю.
Хождение в баню было для меня, малыша настоящей мукой: мы выстаивали огромную – часа на полтора – очередь, потому что в те годы мало у кого в квартире была ванная комната, потом, наконец, попав в отдельный номер, я готовился к экзекуции: папа так тер меня мочалкой, будто хотел помыть впрок минимум на полгода. Наконец, изнуренный, сонный я выходил с ним на улицу и через силу шагая, бормотал вполголоса, как странник в пустыне под палящим убийственным солнцем, нарочно выводя его из себя:
– Воды… воды мне… с сиропом… холодной воды… Ледяной…
– Помолчи. Вот придем домой и мама…
– Воды!.. Умираю!.. С сиропом…
На годы моей учебы в Москве пришелся пик популярности знаменитой ливерпульской группы «Битлз». Вся молодежь пела и мурлыкала – если не было голоса – их песни, допотопные огромные магнитофоны тащились без устали из дома в дом, чтобы послушать песни этого квартета, передавали друг другу ленточные магнитофонные кассеты, о которых теперь никто, наверное, и не помнит. Я иногда думал – но никогда не высказывал эти мысли вслух – почему бы такой стране, в которой я живу, не пригласить этих всемирно известных музыкантов и не дать возможности людям послушать их, увидеть их; как это можно – делать запретный плод из того, что давно известно всему миру? Что такого плохого могут принести в страну советов такие талантливые исполнители потрясающих песен? Разве можно запрещать искусству пересекать границы какой-то одной страны, и разве оно уже не пересекло, так почему же нужно запрещать то, что должно быть доступно всем нам, так же как и французам, американцам, испанцам? Такие вопросы постоянно тревожили и мучили меня и не только в отношение моей любимой четверки музыкантов. Многое в страну, где я родился и жил, незаконно «просачивалось» а не приходило естественно, как в другие страны и города, доставляя людям удовольствие, наслаждение и позволяя им смотреть на мир широко открытыми глазами. Но это уже была цензура, та самая цензура, зубы которой я вскоре ощутил и на своей шкуре.
Меня часто спрашивают журналисты: «Как вы пишете?» На такой вопрос можно ответить только шуткой, но остроумнее Бернарда Шоу трудно: «Слева направо». Я стараюсь отшутиться. Иногда получается, и довольно остроумно. Но раз спросив, они не отстают, они добиваются серьезного ответа. Приходится соответствовать. Я напускаю на себя серьезный вид (что в данный момент плохо сочетается с внутренним состоянием) и начинаю объяснять, что пишу по-прежнему, как и сорок лет назад ручкой, обыкновенной шариковой ручкой…
– Что вы говорите?! – однажды шутливо ужаснулась одна репортерша, которой, видимо, нечего было делать и она несколько дней осаждала меня телефонными звонками. – Хорошо, хоть не гусиным пером. – съязвила она, вероятно, желая отомстить мне за то, что я не сразу согласился на интервью.
Я же ничего полезного не вижу в этих интервью, за свою жизнь я надавал их тьму тьмущую, как и многие деятели искусств – артисты, художники – не скажу, что я ярый противник подобных интервью в газетах, на сайтах, на телеканалах, за последние лет двадцать-двадцать пять количество всех этих средств массовой информации увеличилось стократно, их тоже можно понять, им же нужны объекты для интервью, вернее – субъекты. Но ничего полезного я в них не вижу, потому что в любом интервью можно наплести черт знает что. И никто не докажет, что наплел; напротив – чем интереснее и круче – как теперь принято выражаться – наплел, тем больше интервьюер тебе будет благодарен, потому что для него интервью с тобой это товар: чем больше будут читать проведенное им интервью, тем известнее он станет, а уж с известностью они, народ ушлый, знают как поступить, не то, что я; знают, как превратить эту известность в презренный металл. Я часто пользовался предоставленной мне свободой и рассказывал им байки о своем прошлом, закручивал и перекручивал к радости репортеров. Все это несерьезно, для меня все интервью – это игра, в отличие от моей профессии, к которой я отношусь вполне серьезно, в прозе, в искусстве нельзя врать, нельзя фальшивить, надо оставаться до конца искренним, одна фальшивая нота, одна маленькая неправда и вы можете лишиться доверия читателя, а раз потеряв доверие, вы уже не сможете его вернуть, вы потеряете своего читателя. Маленькая ложь рождает большое недоверие, поистине так. Искренность – вот краеугольный камень литературы, вот та живая нить, что помогает автору нанизывать на неё свои впечатления, мысли, идеи, свое видение мира, каким бы фантастическим, абсурдным, или сюрреалистическим оно бы ни было.
С этой иронично-язвительной юной репортершей надо было держать ухо востро. И я начал вешать ей лапшу, впрочем, вскоре мне самому понравилось то, что я изрекал с умным видом.
– Видите ли, – говорил я, – когда пишешь ручкой по бумаге, то чувствуешь каждое слово острием ручки, пером, я бы даже сказал: кончиками пальцев…
На этом слове мне на ум пришло нечто неприличное насчет кончика, я чуть не улыбнулся, но сдержался и решил закончить в таком же серьезном тоне, как и начал.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































