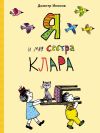Текст книги "Семь рассказов"

Автор книги: Нелли Шульман
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Девочка Гуральник
Огромный самолет рассекал пространство с запада на восток, над горами и равнинами, забираясь все дальше, где под крылом мутным зеркалом блестело кружево проток и озер.
Сверху виднелась темная зелень тайги, пока не тронутая осенним тлением. Леса катились на восток, к океанским пределам, поднимались на юг, к ожерелью сопок по краю границы.
Водитель лавировал по разбитой дороге, машину трясло. До самого горизонта лежали только заброшенные поля. В пустынном небе не было птиц и облаков. Дымили трубы асфальтовых заводов, в отдалении виднелась ржавеющая колея железной дороги.
От самого Байкала вагон начал готовиться. Пассажиры увязывали узлы, листали документы, писали заявления. Ида сидела, безучастная к суете вокруг, впитывая взглядом просторы земли за окном. На коленях лежала книга. Девушка поглаживала желтоватые листы, теребила уголки переплета, подняв страницу к глазам, – она была близорука, – вдыхала затхлый аромат бумаги. На западе она была библиотекарем, – милая девушка, рыжая, с нежной, яблочного румянца кожей, в аккуратной темной юбке и суконном берете.
Несмотря на тряску, его спутница дремала, положив голову на руки. В наушниках айпода слышалась классическая музыка. Ее рыжеватые волосы рассыпались по смуглой шее, свесились на сиденье впереди. В самолете они сидели раздельно, успев обменяться всего парой слов. От нее пахло табаком и сладкими духами.
– Странный запах для нее, – подумал мужчина, – она слишком прямая и резкая.
В городе стояла роскошная осень, с листьями старого золота на сером асфальте, с уходящим вдаль простором неба, с вывесками, написанными почему-то совершенно уместным здесь древним шрифтом.
Они сразу стали гулять вместе, под тополями, смыкавшимися над их головами, светлой и темной. В ее сумке лежала копия старого плана города и альбом довоенных фотографий, с деревянными бараками и непролазной грязью на месте нынешних каменных домов.
– Здесь я жила, – Ида указала на городской парк.
– Раньше здесь стояли старые бараки, потом их сломали, и построили новые, но я к тому времени уехала к Моте в Валдгейм. Он увидел меня на улице из кузова грузовика, выскочил и побежал следом. Он работал в бригаде лесорубов, и каждую неделю, снег ли, дождь ли, приходил за десять километров из деревни ко мне в библиотеку. Я тогда еще не знала, что с нами будет дальше.
– Я тоже не знаю, – женщина коснулась бестелесного облака рыжих волос, струившихся по спине Иды.
Смотри, какие красивые листья, – спрятав несколько в карман сумки, она обернулась к спутнику. Глаза женщины стали прозрачными, голубовато-серыми. Впервые за много лет знакомства он увидел в ее взгляде что-то, похожее на счастье.
– Идем, – он подал ей руку. У нее была смуглая, сухая ладонь, с сильными пальцами и коротко постриженными ногтями.
Они шли по деревенской дороге, мимо низких зданий, просторных полей, мимо грустного маленького памятника погибшим на войне. Кац, Фрумкин, Фельдман, Цой, Петренко.
Он искоса взглянул на женщину:
– Я не чувствую здесь того, что на западе. Не знаю, как это объяснить, не понимаю. Все равно нет ощущения, что это наша земля.
Она вспомнила старое кладбище, затерянное в глубинах бывшей черты оседлости. Среди высокой травы разбросаны надгробные плиты серого камня, склон холма мягко спускается к узкой реке. Среди деревьев бешено щебечут птицы. Каким-то волшебным образом с пригорка видно на километры вокруг. Закат окрашивает розовым, золотистым сиянием невысокие холмы, где кровью и плотью слышится дыхание людей, растворившихся в мраке и тумане, устлавших своими телами землю.
Ида стояла на пороге дома, очерченная заходящим солнцем.
– Сюда я и переехала, – улыбнулась она, – тогда здесь была школа, клуб, привозили из города кино, приезжали корреспонденты из газет. Я ни на кого не смотрела, только на Мотю. Никак насмотреться не могла, и он на меня тоже. Это была наша земля. Мы в нее легли, так она и стала нашей. И станет твоей.
– Не знаю, – она пожала плечами, – у меня вообще странное чувство, словно я здесь много раз бывала.
Здешнее кладбище тоже лежало на пригорке, затененное высокими стволами деревьев. Отсюда хорошо виднелась цепь холмов на юге, широкая река, огибающая Валдгейм. Присев на сухую траву, она сбросила туфли. По краю пустого неба еле заметной точкой двигался самолет. Солнце скатывалось к западу, надгробные камни окрашивались в темное золото.
Она вошла за ограду. «Любимой маме», «Незабвенному дедушке», надписи на идиш и русском, овальные, черно-белые медальоны фотографий, лица стариков, и лишь изредка, кого-то среднего возраста. Она подняла голову, услышав голос на дальнем конце кладбища, сползающем к болоту.
– Смотри, как грустно, – он указал на совсем старую пирамидку, вымазанную дешевой серебрянкой, увенчанную красной звездой. На ней не осталось или не было фотографий, только надпись на идиш. Она наклонилась, разбирая полустершиеся буквы.
– Комсомолец Мотя Гуральник. Комсомолка Ида Гуральник.
В один день, – она распрямилась.
– Там еще надпись, – он вздохнул.
Внизу пирамидки нацарапали маленькими, почти нечитаемыми каракулями: «Девочка Гуральник». Рядом значилась та же дата.
– Девочка Гуральник, – повторила она, – как грустно, даже без имени. Просто девочка.
Она взглянула на него темно-серыми глазами. Сам не понимая, что делает, он отвел прядку мягких волос с ее виска.
Что такое? – недоуменно спросила она.
– Извини, – пробормотал он: «Комар. Только он улетел».
– Спасибо. Пойдем? – она кивнула на ворота в ограде.
Он шел сзади, следя за ее прямыми плечами. Рыжеватые волосы блестели боевой медью в низком западном свете.
Вечером она стояла на балконе. Над горела рекой багровая полоса заката. Внизу слышались голоса, смех, она медленно затягивалась сигаретой, словно ожидая чего-то.
– Не бойся, – прошептал едва заметный, запутавшийся в осенних листьях голос: «Все будет так, как ты хочешь»
– А как я хочу? – она закинула руки за голову: «Ты не боялась?»
Давно рассыпавшаяся в прах и пыль, нежно рассмеялась. «Ты сильнее меня». Смахнув с лица пряди рыжеватых волос, она легонько толкнула женщину в плечо: «Иди».
Глубоко вздохнув, открыв тонкую дощатую дверь, Ида оказалась лицом к лицу с Мотей. В полутьме барачного коридора она видела только очертания его лица. Робко протянув большую, с жесткими пальцами руку, он коснулся ее щеки, стирая слезу.
– Если ты, Ида, скажешь, то я… – ему было трудно говорить, он смотрел поверх ее головы туда, где в крохотном окне догорал лесной закат, где все было так просто, пока Мотя не увидел эту девушку, бывшую для него сейчас началом и концом жизни.
– Я поеду с тобой, – поднявшись на цыпочки, Ида обняла его, всего, и он каким-то чудом уместился в ее руках. Мотя боялся пошевелиться, боялся спугнуть ее мягкие пальцы. Она часто дышала, совсем рядом с ним, так, что нельзя было разобрать, где чьи губы.
Сидя на скамейке перед затихающим корпусом, он следил за огоньком ее сигареты наверху. Он не представлял себе, как сейчас поднимется наверх, пошутит с кем-то, перекинется парой слов с ней, сложит чемодан, завтра уедет в аэропорт, и оттуда домой. Он будет сталкиваться с ней несколько раз в год. Они расскажут друг другу пару новых историй, и разойдутся, каждый своей дорогой.
Больше никогда не увидит он золотого огня в ее волосах, рассыпавшихся по плечам, никогда не услышит, как она тихо и немелодично что-то напевает, не встретит прямого взгляда серых глаз, очерченных темными ресницами.
Оказавшись у ее двери, он прислонился лбом к косяку, собираясь постучать, и не находя сил. Скорее почувствовав, чем услышав ее, стоящую рядом, он молча припал губами к ее виску. Оказалось, что им не надо ничего говорить.
– Не бойся. Я здесь, с тобой, я всегда буду здесь. Почему ты не пришел раньше? Как это все странно, мы так давно друг друга знаем. Подожди, слышишь, пошел дождь. Как он шумит, такой сильный. Иди сюда, еще ближе. Обидно, что завтра мы улетаем разными рейсами. Восемь часов без тебя. Я буду ждать тебя в аэропорту. Ты прилетишь, и первым увидишь меня. Поедешь потом ко мне? Удивительно, меня еще никто никогда не встречал. Если хочешь, я буду встречать тебя всю оставшуюся жизнь, и провожать тоже. Почему именно здесь? Не знаю, я понял, что если сейчас не приду к тебе, то всегда буду жалеть об этом. Я ждала тебя. Не могу, не хочу с тобой расставаться. Я быстро прилечу, мой самолет всего на три часа позже твоего. Я буду думать о тебе, прямо сейчас начну и буду думать все время, пока не увижу тебя.
Она на мгновение вспомнила о благоразумии, но крупный дождь шуршал по стеклу, сосны пахли смолой, вокруг лежали темные просторы полей, все, чем она дышала и никак не могла надышаться.
Он потерся о нежную кожу ее щеки, и тоже задремал. Они лежали рядом, в предрассветной комнате было совсем тихо. В первый раз за много лет она позволила себе просто закрыть глаза. Примостив голову на сгибе локтя, она заснула глубоким, без сновидений, сном.
В кафе на берегах Амура ей принесли неожиданно хороший кофе. Здесь он почему-то получался в несколько раз лучше, чем ста километрами южнее. Высыпав в чашку сахар, она размешала его, сначала по часовой стрелке, потом против часовой. Она думала, как сегодня прилетит домой и как он ее встретит, в первый раз за всю ее полную перелетами и переездами жизнь.
Дома еще стояло лето, избыточное столичное лето, простирающееся в сентябрь, лето с зеленью на бульварах, с медленной водой темной реки, с остывающими над вечерним городом крупными звездами. Лето с поцелуями, с открытыми ночью окнами, лето со звонками друг другу, лето рыжих листьев, лето любви.
– У нас тоже было лето, – Ида улыбнулась:
– Мы уходили далеко в тайгу, где нас никто не мог увидеть. Там не было никого, только быстрая вода реки, солнце на щеке, теплый ветер с запада. Но потом пришла осень, и мы умерли. Сначала Мотя, потом наша девочка, – мы так и не успели назвать ее, – а вслед за ними и я. Птицы улетели на юг, пошел снег, а мы втроем, не разлучившись, остались в той болотистой земле.
– А если и мы? – она подалась вперед, стараясь разглядеть ее лицо, с лихорадочным румянцем.
Ты сильнее, – повторила Ида: «Ты справишься».
Телевизор, висевший над барной стойкой, работал с выключенным звуком. Она не сразу поняла, что происходит. Официантка, потянувшись, увеличила громкость. Она увидела глаза людей вокруг, и, вверху, то, что показывают обычно в таких случаях в новостях. Она успела заметить крыло и хвост, лежавшие отдельно. Между ними пестрела страшная мешанина, торчали выжженные обломки деревьев.
Опустив ложку на стол, еще не понимая, что делает, она прикрыла руками живот, готовая защитить до крови, до смерти и после нее, плавающую внутри, пока неведомую и незнакомую ей, бессловесную рыбку, проросшее зернышко – девочку Гуральник.
Выходной день
Раввин проснулся в середине ночи. С некоторых пор он стал ворочаться в сбитой, нагретой постели, то натягивая на себя одеяло, то сбрасывая его. В конце концов, боясь разбудить жену, он вставал и уходил в гостиную, где синим глазом мерцал компьютер.
Жена на самом деле спала крепко. Она мерзла в новой, еще сырой квартире, где по полу были разбросаны открытые чемоданы с вещами. Переезд случился две недели назад, но деньги у них закончились, а кредит на мебель взять было невозможно, на жене и так висела ипотека. Родившись в веселом черноморском городе, в темной глубине Сибири раввин стал иностранным гражданином не то что третьего, а десятого ранга.
За окном был мрак, муть, жуть, конец ноября в спальном районе, метель и пустота. Включив настольную лампу, раввин с тоской вспомнил яркое небо, море, полумесяцем набегающее на галечный пляж, высокие потолки просторной квартиры, балкон, над которым в его детстве нависала ветка акации.
Квартиру продали, когда раввин уехал учиться. Семья тоже разом задвигалась и разбежалась, кто в Германию, кто в Канаду, а кто и вовсе в Австралию. Теперь в том доме была гостиница. Акация все так же каждую весну роняла на тротуар желтую пыльцу. Раввину было бы легче, если бы ее спилили.
Здесь на полу лежал синий линолеум с коричневыми разводами. Стены строили оклеили обоями в квадратик. Они привезли несколько расшатанных стульев и матрац. Это был дом, или, по крайней мере, то, что они оба отчаянно хотели считать домом.
Жене было холодно. С вечера она заворачивалась в одеяла, раввин включал тяжелый, крашеный некрасивой белой эмалью, обогреватель. Подышав ему в шею, в нежное место под ухом, жена засыпала.
Он разбудил компьютер. Пока тот загружался, раввин сунул ноги в тапочки и тихонько щелкнул замком. Беременная жена не выносила сигаретного дыма. Он стал покуривать два года назад, когда его перевели в этот город. После свадьбы сигарета и вовсе стала для него необходимостью.
Раввин курил на заплеванной, в разводах штукатурки и пятнах цемента, лестничной площадке. К жене он испытывал не страсть, но нежность, особенно сейчас, когда она забеременела и еще больше подурнела.
В Талмуде говорилось о мудрецах, споривших, стоит ли на свадьбе называть некрасивую невесту красавицей. Они сошлись на том, что это необходимо, как своеобразная уступка человеческой натуре, во всем желающей если не идеала, то приближения к нему.
– Надо будет сделать занятие на эту тему в молодежном клубе, – раввин прикурил вторую сигарету. Остатки первой он загасил подошвой и спрятал в карман. Иногда он забывал вынуть оттуда окурки. Тогда от одежды шел тяжелый запах тамбура в плацкартном вагоне.
На свадьбе его жена носила дурацкую шляпу с лебяжьим пухом и пышное платье, делавшее ее еще более неуклюжей.
Она была рыхлой еврейской девушкой, с жирноватыми волосами и не очень хорошей кожей. Правда, у жены были красивые карие глаза и большая грудь, еще упругая, с нежными голубоватыми венками и темно-розовыми сосками. Хорошая грудь.
Раввин даже почувствовал какое-то возбуждение, несмотря на усталость и резкий ветерок из щелястых окон, забирающийся под халат.
Жена его вышла замуж, потому что ей было двадцать семь. В родном волжском городе евреев почти не осталось, а за не еврея ей не хотелось. Ей было страшно уезжать в Москву или в Израиль из-под маминого и бабушкиного крыла, из роскошной квартиры в сталинке, на центральной площади города, от папы, декана факультета стоматологии.
Они встретились в летнем студенческом лагере. Еврейские девушки из дальних уральских и сибирских городов приезжали туда с двумя чемоданами нарядов и крутили быстрые романы. Всем было некогда, время не ждало, никто не становился младше.
Наиболее смелые уезжали в страну и выкладывали фотографии – пляж в Эйлате, я с винтовкой, я с приятелем, я под хупой, я с пузом. Некоторые по приезду стали соблюдающими и покрывали голову, что мало кого красило.
Его жену это точно не красило. Она вбила себе в голову, что будет подавать пример платками и шляпками, однако в городе уже была одна ребецин, тонкая и звонкая мать троих детей, носящая блондинистые парики, энергичная до одури жена его ортодоксального коллеги.
Общину они поделили по-братски. В ортодоксальной синагоге собирались старики и семьи с детьми. Несмотря на кризис, там удерживали детский сад, четверть которого составляли дети раввина. Ему достались подростки, неженатые-незамужние, несколько семейных пар, дети которых разбрелись по миру, и второй сорт, потомство еврейских пап и русских, украинских, татарских, и, даже в одном случае, якутских мам.
Случай до женитьбы несколько тревожил сердце раввина. Хороша была якутско-еврейская помесь, высокая, стройная, с роскошной копной кудрей и мерцающими монгольскими глазами. Однако и она махнула ему рукой с трапа самолета, – чувствуя ответственность за детей раввин лично провожал всех, улетавших на молодежные программы в Израиль, – махнула и исчезла в чреве Боинга, как оказалось, навсегда. Как ни странно, счастливчиком стал не израильский мачо, а безобидный мальчик из московской еврейской семьи, сраженный экзотической сибирячкой.
В лагере его будущая жена ходила на все занятия, смотрела на него влюбленными глазами, краснея, задавала ненужные и неинтересные вопросы, и постоянно попадалась ему на пути, то в столовой, то в коридоре, то подсаживаясь к нему на одной из полуночных тусовок в чьей-нибудь комнате.
Ему было тридцать, он раввинствовал четыре года, и очень устал от одиночества. Девушка казалось, была ничем не хуже других и он женился.
Конечно, тогда он был влюблен. Только не в нее, спокойно спавшую сейчас, угнездившись под толстым одеялом.
Присев к компьютеру, он почти машинально проверил почту. Там оказались только рабочие письма, с бесконечными экселевскими файлами бюджетов в приложении. Большая часть его времени была посвящена вовсе не изучению Талмуда, или визитам к больным, – как себе это представляли несведущие люди, – но сведению балансов и изысканию того, на чем еще можно сэкономить.
Раввина утешал тот факт, что его ортодоксальный коллега наверняка сейчас занят тем же самым.
Утром все прошло как обычно. Жену мучил токсикоз. Он принес ей в постель чашку чая и черного хлеба, единственное, что она могла есть. Она подышала несколько минут, тошнота отступила, и жена потянулась за книжкой.
Было воскресенье, выходной день стоматологов, и рабочий день у раввинов.
Дверь за мужем закрылась мягко, почти неслышно. Он боялся ее побеспокоить, хотя в последнее время ей стало немного легче. Тошнота, раньше все время сопровождавшая ее, стала отступать.
Придерживая немного выпуклый живот руками, запахнув халат, она подошла к окну. На бесконечном заснеженном поле, отделявшем дом от проспекта, виднелась черная точка – это шел ее муж. Убедившись, что он не собирается возвращаться, она села за компьютер.
Она давно знала пароль от его почты. То, что она делала, было почти непристойно, и оставляло в ней гадостное чувство, словно, заглянув в рот красавице, севшей в ее кресло, она увидела там гнилые, обломанные, разлагающиеся зубы. Она ничего не могла поделать с тяжелой, мрачной ревностью.
Она считала, что вытащила выигрышный билет. Муж был именно таким, о каком она мечтала девочкой, – из хорошей еврейской семьи, добрый, образованный и мягкий. Однако жена раввина все никак не могла поверить в свое счастье. Она была уверена, что ее муж любит другую женщину.
Жена раввина ненавидела ее ухоженность, богатство, доброту, терпимость, ее Нью-Йорк, и даже ее мелодичный голос. Она помнила его по лагерю, тому самому, где они решили пожениться.
Приятельница раввина приехала в лагерь всего на день. Она навещала Москву с миссией каких-то американских филантропов. Невеста раввина сидела в комнате будущего мужа, а они двое тихо разговаривали на балконе. Ее успели поздравить, поцеловать и похвалить ее мужа за хороший выбор. Однако потом они ушли, прикрыв дверь, о чем-то шепчась. Она знала, что будущий муж знаком с этой женщиной еще с колледжа. Она была его парой в изучении Талмуда. Невеста раввина ожидала увидеть запущенную, толстую американку в плохо сидящих джинсах.
Она была одета скромно, в юбку до колена и черную кофточку. Невысокая, стройная, она напоминала ангела, таким спокойным и прекрасным было ее лицо, словно она и в самом деле происходила не от мира сего, с его заботами и хлопотами.
Тяжело… – расслышала она слова раввина. Невеста стала внимательно следить за их разговором.
Она сказала что-то неразборчивое. Будущий муж мучительно нежным голосом проговорил:
– Как хорошо, что ты приехала. Я здесь совсем один, совсем.
Вспомнив эти слова, жена раввина бессильно сморщила лицо. Ей очень хотелось кому-нибудь позвонить, однако мама начала бы жалеть ее и ругать ее мужа. Жена раввина не переносила, когда его ругали и готова была накричать на маму, чего та, конечно, никак не заслуживала.
Посмотрев на часы, она решила позвонить жене ортодоксального раввина. Та, перенесшая несколько беременностей, всегда выслушивала ее жалобы и даже рождала в ней какой-то заряд энергии.
Однако сегодня было второе воскресенье месяца. В той синагоге шел семейный клуб. Жена раввина вспомнила, что ребецин и ее приглашала. Они заполучили известного в городе шеф-повара и собирались учиться готовить латкес к Хануке.
– Попозже позвоню, – она опять залезла в утробную теплоту постели.
Раввин ненавидел путь в синагогу. Раньше они снимали квартиру за две квартала от здания. Теперь, с переездом, ему надо было тащиться на трамвае, пересаживаться на автобус, а потом идти пешком. Одну из улиц в центре сделали пешеходной, а синагога стояла рядом.
Собственно, никаких дел у него с утра не было. Молодежный клуб встречался в субботу вечером, а занятия с двумя подростками, готовящимися к бар-мицве, он на сегодня отменил, отправив их на семейный клуб к ортодоксальному коллеге.
Ему просто надо было позвонить в Нью-Йорк. Он не хотел делать это из дома, зная, как расстраивается его жена всякий раз, когда он разговаривает с той, другой. Причин для ревности у жены не было никаких, по его мужскому, наверняка неправильному, разумению. Однако лишний раз волновать ее не стоило. Днем он шел на кладбище, синагога все равно была по пути.
В его кабинете, больше похожем по размеру на закоулок, где в обычных офисах хранят швабры и ведра, было холодно. Община не платила аренду. Одноэтажное здание купили и отремонтировали десять лет назад, когда недвижимость стоила копейки. Однако отопление съедало большую часть бюджета, и они экономили настолько, что руки мерзли без перчаток. Взглянув на часы, поняв, что в Нью-Йорке поздний вечер, раввин набрал ее номер.
Стоя на террасе своей квартиры она смотрела на восток. Солнце закатывалось в ущельях Манхэттена, на западе, где за широкой полосой реки лежал континент, без конца и края.
Каждый раз после разговора с ним она чувствовала себя виноватой. Они обычно созванивались раз в неделю, то в будние дни, то в выходные. Она знала, что мальчик, – она привыкла думать о нем, как о мальчике, потому что, когда они познакомились, она была на третьем курсе, а он на первом, – любит ее.
Десять лет назад они сидели на траве Центрального Парка, бросив рядом сумки со словарями и учебниками, споря о чем-то. Тогда они все время спорили. Ее попросили взять под опеку первокурсника. Его английский был не очень хорош, а она, родившаяся на Брайтон-Бич и закончившая Колумбийский университет по кафедре славистики, прекрасно говорила по-русски.
Она выпустилась на два года раньше него. Поработав ассистентом раввина в престижной городской синагоге, она вышла замуж за наследника обширной финансовой империи, познакомившись с ним на очередном благотворительном обеде. От него требовалось дать деньги, а от нее, выступить так, чтобы их дали как можно больше.
Она давно не работала, сначала занимаясь родившийся двойней, а потом перейдя в ряды филантропов. Однако она скучала по общине. Раввин веселил ее рассказами о сумасшедших пенсионерах и выходках молодежи в лагерях. Она смеялась и просила его говорить еще и еще. Только с ним, да еще с родителями она говорила по-русски.
Мальчик был ее слабостью. Она ежегодно, анонимно посылала деньги в фонд, из которого платились зарплаты нескольких несчастных, умудряющихся существовать на раввинских должностях в той стране.
– Самое малое, что я могу сделать, – думала она каждый раз, подписывая чек: «Самое малое».
Раввин курил у служебного входа в синагогу. Он ждал разговора с ней всю неделю. Эти четверть часа были для него настоящим шабатом, таким, как о нем говорилось в Талмуде, вкусом мира грядущего». Он отдыхал, слушая ее низкий, спокойный голос. Она рассказывала, как растут дети, советовалась с ним об очередном благотворительном проекте, или просто говорила, какой прекрасный закат сейчас в Нью-Йорке.
У тебя усталый голос, – обеспокоенно заметила она сейчас.
– Холодно, – пожаловался он.
Ей было хорошо жаловаться. Она не паниковала, не раздражалась, а внимательно все выслушивала и сочувствовала.
Сейчас ему тоже было если и не холодно, то как-то неуютно. Он знал, что это чувство останется до следующего разговора с ней. Выбросив окурок, раввин решил, что до кладбища он еще успеет выпить чашку кофе.
Жена раввина все же позвонила своей ортодоксальной товарке. Разговор получился путаным, у той все время чего-то требовали дети. Положив трубку, жена раввина поняла, что завидует ребецин. У той была устроенная квартира в центре города, красивое потомство и молчаливый, спокойный муж. Посмотрев на маленькую комнату вокруг, с заляпанным грязными подошвами линолеумом, жена раввина села на пол и заплакала. Ужасно было жалко себя.
Она плакала так громко, что сначала даже не услышала, как звонит телефон. Пошмыгав носом, она взяла трубку. Незнакомый женский голос спросил мужа.
Он на похоронах, – сердито ответила жена, – будет поздно.
Только попрощавшись, она поняла, с кем разговаривала. Вспомнив звонкий, с напевным местным говором, голос, она ужаснулась сказанному. Жена раввина рыскала в записной книжке своего мобильника. Она пыталась найти ее телефон, отзвониться, извиниться за нечуткость, попросить прощения, но так и не смогла его отыскать.
Еще до того, как они обе вышли замуж, они делили комнату в одном из лагерей. Теперь жена раввина была здесь, а темноволосая, быстрая, вечно смеющаяся чему-то, пребывала в месте скорби, откуда она позвонила сейчас. Жена раввина со злостью на себя и на весь мир швырнула телефон на пол. От него отскочила задняя крышка.
– Хватит, – она переоделась в спортивный костюм. Надо было отмыть квартиру, приготовить мужу что-нибудь вкусное, и собрать жизнь в кучку.
– Самое малое, что я могу сделать, – она выжала тряпку сильными, аккуратными руками, которые так хвалили ее пациенты.
Сегодня хоронили бабку Эпштейн. Раввин привык думать о ней именно так. Бабкой Эпштейн ее называли все, от шофера, привозившего ей горячие кошерные обеды из синагогальной столовой – пока еще бюджета на это хватало – до ее собственных внуков. Бабке Эпштейн было плевать на кашрут. Она была атеистка, материалистка, и вдова почти что Нобелевского лауреата. Так она говорила о покойном муже, академике и Герое Труда, которого она пережила ровно на тридцать лет.
Бабку Эпштейн должен был хоронить его ортодоксальный коллега. У того имелось что-то вроде монополии на печальные дела. Однако коса нашла на камень. Бабка Эпштейн наотрез отказалась отправляться на унылое еврейское кладбище, достопримечательностью которого была только могила захудалого бомбиста времен революции пятого года, умершего здесь в ссылке от холеры. Могилу после гражданской войны привели в порядок, поставив красивую гранитную плиту. Все, кого он приводил на кладбище в первый раз, думали, что там похоронен по меньшей мере городской раввин.
Кладбище они убирали каждую весну, после паводка, немного его подтапливающего. Все равно оно было невыразимо серо и грязно, окруженное деревянными бараками, оставшимися здесь еще с тридцатых годов.
Бабка хотела под бок к своему дорогому физику-ядерщику, покоящемуся в упорядоченном раю номенклатурного кладбища, с мраморным бюстом на могиле.
Младший сын бабки Эпштейн, новоназначенный мэр города, добавил жару, заявив, что в его положении неприлично хоронить мать в засранном закоулке.
Ортодоксальный раввин промолчал. Синагогу отдали общине навечно, но детский сад постоянно висел на волоске. Чиновница из отдела образования часто намекала на то, что в группе слишком мало детей. Улыбаясь, вздергивая брови, она пела сладким голосом:
– Мы вам добавим деток в новом году, добавим. Вы знаете, сколько у нас мамочек в очереди стоит?
Ссориться с мэром не хотелось. Раввин, вздохнув, предложил позвонить либеральному коллеге.
В ожидании Эпштейнов раввин топтался у входа на кладбище, где еще стоял шлагбаум. Бабку не хоронили три дня, ожидая приезда дочери из Калифорнии, и сына из Канады. За это время он вынес с десяток звонков от младшего Эпштейна, задававшего мелочные вопросы о каждом слове в церемонии. Похоронный автобус с оставшимся от бабки Эпштейн стоял рядом с кладбищенской стеной. Гроб оставили открытым. Раввин сдался, не в силах противостоять атакам мэра, и не стал протестовать.
– Просто не буду на нее смотреть, – решил раввин. Он боялся мертвецов.
Кортеж Эпштейнов остановился у ворот.
Они степенно вылезали из машин, – калифорнийская профессорша, канадский бизнесмен, мэр города, десяток внуков, правнуки и даже праправнучка, полугодовалая бэби из Сан-Диего, на руках у мамы, блистающей загаром и отмытыми до блеска американскими зубами, белее сибирского снега.
Люба тоже вышла, опираясь на руку мэра. Даже через черную вуаль раввин видел ее заплаканное, опухшее лицо.
Тридцать два года назад почти Нобелевский лауреат сбрендил на старости лет, как выразилась бухгалтер общины, рассказавшая раввину эту историю. Собрав чемоданчик, академик ушел в съемную квартиру к студентке второго курса Любе, сибирячке с золотистыми косами, голубыми глазами и курносым носом, обсыпанным веснушками.
Бабка Эпштейн, мудрая аки змий, вместо скандалов передавала мужу через секретаря кафедры свертки с котлетами и банки с борщом. Взяв академический отпуск, Люба родила толстого, спокойного Борьку, с синими глазами и эпштейновским, мощным носом. Через восемь месяцев академик умер во сне, пока Люба гуляла с Борей в заснеженном дворе панельного дома.
Хоронила мужа бабка Эпштейн. Они не были разведены. По праву, именно она должна была стоять в изголовье гроба, в черной шляпе с газом, принимая соболезнования московских и зарубежных коллег. Через неделю она позвонила в хлипкую дверь съемной квартирки, шестидесятилетняя, стройная, седая, в норковой шубе. В тот же день Любу с Борей перевезли в пятикомнатную академическую квартиру на проспекте.
Любу бабка Эпштейн выучила, устроила на работу, купила ей кооператив. Железной старухе не удалось только выдать молодую маму замуж. При намеке на возможность свиданий или брака Люба замыкалась. Видно, что-то внутри нее тоже умерло с академиком в тихий, безветренный зимний день.
– И сказала Сарай Авраму: «Меня Бог лишил плодородия; войди к рабыне моей. Может быть, у меня будет потомство благодаря ей…, – Боря Эпштейн, в роскошном кашемировом пальто, слишком тонком для ноября в Сибири, поддерживал мать с другой стороны. Раввин пошел им навстречу.
– Мямлит, – мэр ловко, незаметно покосился на часы. Раввин использовал пятнадцать минут из обещанных двадцати.
На кладбище было почему-то холодней, чем в городе. По ногам тянуло острым северным ветерком, оттуда где в четырех часах лета лежал Ледовитый океан. Семья стояла тесной кучкой. Даже американская и канадская ее части потеряли заграничный лоск, на их лица взошло странное спокойствие.