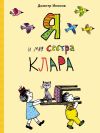Текст книги "Семь рассказов"

Автор книги: Нелли Шульман
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
– Это приглашение? – она улыбнулась уголком тонких губ.
Он жил в квартире Фридиных снов.
Засыпая в своей студии на Манхэттене, неуютной, приводимой в порядок только для журнальных фотосессий, она всегда представляла себе такие комнаты, с высокими потолками, белыми стенами, полами темного дерева. Здесь был и овальный стол с венскими стульями, и балкон кованого железа, выходивший на узкую улицу и парк за ней.
Здесь был просторный диван, гравюры позапрошлого века, много книг и винил. За окном стояла глубокая, спокойная тишина полуночи. В открытую форточку доносилось влажное шуршание лип во дворе, будто они переговаривались о чем-то. Фрида присела рядом с Мартином на подоконник. Он увидел ее плечо, белое, гладкое, прикрытое темным платьем.
Она услышала, как он сжал зубы. Фрида сама, неловко потянувшись, коснулась его сухих губ. Все было так, как она и не думала, что помнит, его пальцы на крохотных пуговицах платья, его руки на ее теле, запах, сводивший ее с ума, заставлявший не отрываться от него, никогда, ни за что. Она чувствовала себя частью его большого, укрывавшего ее тела, прогибая спину, обжигаясь об его ладони на ее плечах. Не осталось ничего вокруг, кроме ее бледной кожи, ее тела, такого быстрого, ее губ и рук, вытянутых вперед, вцепившихся в подушку, ее задыхающегося, сладкого голоса, прекрасней которого не было ничего на свете.
Она лежала рядом. Он медленно гладил ее сияющее лицо, убирал со лба волосы, желая только одного, вечно чувствовать ее прохладу, обнимать и никогда не выпускать из рук. Он положил голову Фриды себе на плечо, она потянулась к нему губами, руками, всем телом. Он обнял ее всю, с каждым прикосновением все больше проникая в нее, так, что тела их смешались и переплелись, и ее волосы темного золота были совсем рядом.
– Не уходи, – он смотрел на нее, прекрасную в свете ночи, сидящую с чашкой кофе, в расстегнутом платье. Больше всего на свете он сейчас хотел опять оказаться с ней рядом, тянуться к ней, как утопающий к последней горсти воздуха. Он опустился на колени, Фрида увидела его лицо, странное, молящее, безнадежное, ищущее ее взгляда, ее прикосновения.
– Я останусь, – закинув руки ему на плечи, она приникла растрепанной головой к его груди.
Проснувшись поздно утром, она увидела на спинке венского стула свое аккуратно сложенное платье. Рядом стояла чашка еще горячего кофе, и лежала записка: «Скоро буду».
Взяв кофе, Фрида откинулась на подушку, привалившись к стене. Такой он и застал ее, с распущенными волосами, с закрытыми глазами, с румянцем на щеках.
– Я могу жить здесь, – она вдыхала запах цветов, все еще не открывая глаз:
– Наши дети увидят горы на юге, реку, они вырастут среди холмов и виноградников. Надо завести собаку, большую, добрую собаку и обязательно велосипеды, чтобы кататься всем вместе. Стоит мне захотеть, и я останусь.
– Почему ты решил? – она рассматривала капли дождя на белых лепестках роз. «Стать евреем? Почему сейчас?»
– Я давно собирался, – просто сказал Мартин, – но ждал, пока умрет дед. Он был очень верующий человек, и я не хотел его расстраивать. Это не из-за войны, нет. Я чувствую, что это мой дом. Как этот, – он обвел рукой комнату, – словно я вернулся домой.
Фрида удобнее устроилась на его плече.
– Я бы тоже хотела вернуться домой, – почти неслышно сказала она.
– Ты здесь, – ответил ей Мартин.
Никогда еще она не одевалась с большим тщанием, чем этим вечером. Она смутно представляла себе, что носят в синагогу – закрытое, скромное. Концертное платье явно не подходило. В конце концов Фрида надела длинную шелковую юбку и свитер. Рукава заканчивались выше локтя, но она рассудила, что в маленьком немецком городе на это вряд ли кто-то обратит внимание.
Она села рядом с Мартином, оказалось, что здесь это можно. Впереди, на покрытом белой скатертью столе, стояли подсвечники. Спички держали в особой фарфоровой коробочке, халы спрятали под салфеткой, вино налили в старинный серебряный бокал. Все это, и люди вокруг и стол с домашней выпечкой, и молитвенники на иврите и немецком, было так трогательно, что у Фриды перехватило горло. Последний раз она зажигала свечи лет двадцать назад, на своей бат-мицве.
Взяв в руки фарфоровую коробочку, она взглянула на их лица, искренние, серьезные лица немцев, на улыбающиеся, темно-синие глаза Мартина. Фрида медленно опустила спички на стол:
– Извините. Мне надо идти.
Выйдя в мрак осеннего вечера, она побрела вдаль, не замечая, как облепляет ее ноги промокшая юбка, как мерзнут руки, поливаемые дождем.
Она все шла, на север, к равнине, к дыму и небытию, ко льду и мерзлой земле больничного кладбища, к лагерям и детским домам, туда, где нет воскресения и жизни, а есть только одиночество и смерть.
До конца пути ее, и после него.
Карл и Клара
Она прилетела в город поздно вечером.
Было зябко, деревья гнулись под сырым ветром. Завтра, в Тиргартене, на влажном песке дорожек, появятся узкие следы ее туфель. Поднимаясь по стертым ступеням метро, глядя на беззвездное небо, она знала, что через несколько мгновений пойдет дождь. Холодный ливень смоет московскую жару, грохотание техники по брусчатке, алые лозунги над Тверской.
Проснувшись серым берлинским утром, она будет долго пить кофе и курить на кованом балконе, выходящем в пустынный двор.
Квартиру она сняла по фотографиям. Сейчас ей отчего-то не хотелось жить в гостинице. Ей хотелось усесться на деревянные половицы, смотреть в мраморный камин и листать книги. Увидев потрепанные тома на полках, она перевела хозяйке депозит.
Как и предупредила ее владелица квартиры, кафе на углу было еще открыто. Устроив сумку на шатком стуле, она заказала эспрессо.
– Все равно буду спать, – весело подумала она, отпивая горький кофе, – а завтра пойду на Музейный Остров.
Она любила этот город и ездила сюда каждый год. Сидя на улице, покуривая, она заметила в темноте блеск велосипедных спиц. Хозяйкой оказалась сухая, пожилая женщина, с коротко стрижеными седыми волосами.
– Это моя семейная квартира, – она отдала ключи, – мы там давно поселились. Я в ней выросла, после войны.
Женщину звали Ильзе.
Она не хотела думать о войне. Дом построили в начале прошлого века. Хозяйка сказала, что здание не пострадало. Поднимаясь по гулкой лестнице, она вспомнила блеск медной таблички в брусчатке, у входа в подъезд.
– Завтра прочитаю, – она открыла высокие двери, – все завтра.
Не зажигая света в просторной, полутемной квартире, она вышла на балкон. Кованые перила покрывала морось дождя, внизу звенел трамвай, шелестели липы. Она увидела справа, над крышами золотое сияние купола синагоги. Она вспомнила мокрую траву бывшего кладбища неподалеку, с единственным надгробным камнем.
– Потом, – она устало выдохнула, – потом. Утром выпьешь кофе, пойдешь к реке, сядешь на скамейку, и будешь смотреть на воду. Долго, пока не забудешь о Москве, пока тебе не станет хорошо. В этом городе тебе всегда хорошо.
Это и вправду было так. Услышав ее, хозяйка заметила:
– Вы говорите, как здешняя. И зовут вас…
– Я не немка, – она накрутила на палец черный локон.
– Моим родителям нравилось это имя, – привычно солгала она, – а что касается языка, у меня степень по философии. Я училась здесь, три года провела в Мюнхене.
С именем своим она сначала воевала, а потом смирилась. Так звали древнюю родственницу, кузину бабушки. Она даже не знала, существовала ли на самом деле эта Клара. В школе, все десять лет, она слышала о Кларе и Карле, о кларнете и кораллах. То, что Клара картавила, – собственно, до сих пор, – жизнь ей не облегчило.
Потушив окурок, Клара перегнулась через перила балкона. Внизу цокали каблуки, потом все затихло:
– Бабушка с родителями уехала из Польши в Советский Союз, потому что ее отец был коммунист. Клару увезли на запад, только никто не знает, куда. И не узнаем теперь, – она помотала головой:
– Девяносто лет прошло. Все ерунда, предания.
Она даже не знала, как искать эту самую Клару. Кроме имени кузины, бабушка ничего не помнила.
– Бабушка умерла, – тяжелые тучи сгущались над Митте, – и не у кого больше спросить. Шесть миллионов погибло, – она стояла, вдыхая прохладный ветер:
– Что одна Клара? Да и не было ее никогда, наверное.
Вытащив из сумки халат, Клара присела на деревянные половицы, обхватив острые коленки руками. Дверь на балкон была приоткрыта, она поежилась от легкого ветерка. Вытянувшись на спине, она рассматривала чисто выбеленный потолок. Черные волосы рассыпались по плечам, она закрыла глаза.
– Сейчас встану, – сказала себе женщина, – полежу и встану. Я просто устала.
Опять зацокали каблуки. Вдохнув свежий, наполненный дождем воздух, Клара рассмеялась. Он гладил ее влажные волосы, за окном шел весенний, быстрый ливень. Красно-черный, огромный флаг на здании напротив бессильно повис. Приподнявшись, Клара встряхнула головой. Медные шпильки посыпались на пол.
– Ты вся промокла, – Карл целовал ее, – а я тебя ждал и волновался, вдруг ты зонтик не взяла.
Она хихикнула:
– Не взяла. Выскочила ненадолго, и сразу пошел дождь. Зато сейчас мне тепло…, – Клара блаженно потянулась. Он взял ее лицо в ладони:
– Уезжай, любовь моя. Пока можно сделать документы, уезжай. Я договорюсь с товарищами, тебя переведут через границу в горах…
Пошарив рукой по полу, Клара подтянула к себе картонную пачку папирос.
– А ты? – жена взглянула на него глубокими, темными глазами: «Что будет с тобой, Карл?». Присев рядом, он чиркнул спичкой.
– Я останусь здесь, Клара. Сама знаешь, – он посмотрел в сторону, – после того, как партию запретили, в Германии нас немного.
Она притянула мужа к себе:
– Я никуда не уеду, Карл. Я буду рядом с тобой, а потом, – женщина поцеловала белокурый висок, – потом что-нибудь придумаем. Все равно, безумие, – Клара указала на флаг, – долго не продержится. Миллионы голосовавших за коммунистов, Карл, еще скажут свое слово.
Он держал тонкую руку жены:
– Уезжай, пожалуйста. Евреям запретили занимать государственные должности, работать врачами, учителями, адвокатами…, Наш брак теперь противозаконен.
Она вздернула красивую бровь:
– Я сказала и так будет, Карл. Ты никогда, – жена забрала у него папиросу, – никогда не останешься один.
Она целовала его среди разбросанных на потертом ковре книг и бумаг. Шумел дождь, на губах у нее виднелись пятнышки чернил. Она вся была маленькая, легкая, с распущенными, черными волосами, вся была его. Карл тихо сказал:
– Я бы тоже не уехал, Клара. Никогда бы я не смог тебя оставить. Все закончится, я обещаю. Пока, – он слышал, как бьется ее сердце, – пока я сделаю так, чтобы ты оставалась в безопасности, хотя бы здесь, – он обвел рукой квартиру.
– Если что-то случится с евреями города…, – он замолчал. Клара сердито заметила:
– Ничего не случится. Ты сказал, что все ненадолго, люди одумаются…
– Да, – кивнул Карл. Наклонившись над ним, она рассмеялась:
– Вот и все, и говорить здесь нечего. Иди, иди ко мне…
Они задремали под стук капель по стеклу. На здании напротив мотался под дождем черно-красный, тяжелый флаг.
Слушая ее спокойное дыхание, Карл шепнул:
– Помнишь, ты учила меня русскому языку, когда мы хотели уехать в Советский Союз, три года назад, к твоим родственникам?
Клара отозвалась:
– Хорошо, что не уехали. Там, как и здесь, коммунистов, сажают в лагеря. Мои родственники, наверняка, закончили именно так. А что? – она подняла голову с плеча мужа.
– Я вспомнил стихотворение, – синие, как небо, глаза взглянули на нее. «Глаголы – исключения»
– Гнать, держать, смотреть и видеть, дышать, слышать, ненавидеть…, – он приложил палец к ее губам:
– Смотреть и видеть, слышать и дышать…, Остальное, – Карл улыбнулся, – остальное пройдет, исчезнет без следа. Особенно ненависть. Спи, – он обнял ее, – я люблю тебя.
Слушая ее легкое дыхание, Карл решил устроить тайник в квартире.
– Может быть, ничего и не понадобится, – он поцеловал кончики черных волос, белую, нежную щеку, – просто на всякий случай. Я плотник, никто не удивится, что я вожусь с инструментом.
Подняв с ковра медную шпильку, он укололся об острый кончик. На полу валялась газета: «8 мая 1938 года», – сообщал жирный заголовок, – Судеты должны быть немецкими».
– Завтра и начну, – велел себе Карл:
– Хорошо, что родители Клары не дожили до этого. И мои старики тоже, – прижавшись к тихому теплу ее спины, он вдохнул знакомый запах, – хотя все ненадолго, страна еще одумается…, – выронив шпильку, задремывая, Карл пробормотал: «Смотреть и видеть…».
Ей снились глаголы-исключения. Клара стояла у черной, со следами мела, доски, отчаянно думая: «Не помню, ничего не помню». Она потянулась написать что-то, но в руке вместо мела лежала только простая, медная шпилька.
Открыв глаза, она недовольно буркнула:
– Гнать, держать, смотреть и видеть, дышать, слышать, ненавидеть…, – поднявшись, Клара вышла на балкон. Небо очистилось, над Берлином висели крупные звезды. Она прислушалась. Опять где-то цокали каблуки, хлопнула дверь машины. Клара вздрогнула: «Почудилась. Откуда здесь взяться выстрелам?». Покурив, она ушла в спальню.
Женщина ворочалась в большой постели. Что-то блестело перед глазами, скрипела парадная дверь. До нее донесся веселый голос:
– Теперь это наша квартира, Ильзе! Посмотри, как просторно.
Маленькая девочка цеплялась за подол платья матери. Женщина обвела взглядом пыльные половицы, разбросанные книги, остатки перегородки, отделявшей от комнаты маленький чулан: «Только надо все привести в порядок». Она по-хозяйски прошла вперед, девочка заковыляла за ней.
Утром Клара долго пила кофе на балконе. Ей надо было встретиться с хозяйкой и отдать остаток платы за пять дней. Шел мелкий, ожидаемый ей дождь. Выйдя из подъезда, Клара замедлила шаг. Блеснула давешняя табличка, вделанная в тротуар. Она наклонилась:
– Здесь жили Карл Майер, член Коммунистической Партии Германии, родился в 1905 году, казнен в тюрьме Моабит, в 1943 году. Клара Майер, урожденная Левин, родилась в 1912 году, депортирована в 1943 году, убита в Освенциме в 1943 году.
Клара Левина, тридцати одного года, постояв немного, вернулась наверх.
– Не может быть такого, – она глядела на старые половицы, – не может. Опустившись на колени, Клара прищурилась. В щели что-то блестело.
Собрав сумку, она нырнула в теплое, еще пустое кафе. Хозяйка ждала ее. Присев за столик, Клара протянула конверт.
– У меня изменились планы, я прошу прощения, – женщина посмотрела в серые, окруженные морщинами глаза: «Вы…, ваша семья давно живет в этой квартире?»
– В сорок третьем году въехали, – кивнула фрау Ильзе. «Мне тогда всего год от роду исполнилось».
– А, – Клара поднялась.
Она шла сквозь прохладный дождь:
– Гнать, держать, смотреть и видеть, дышать, слышать, ненавидеть…, Ненавидеть…, – Клара помотала головой: «Не надо». Вспомнив, как дышать, она раскрыла ладонь. В ее руке лежала простая, медная шпилька.
Правильно: песнь
Последний раз ее убивали пятнадцать лет назад. Тогда ее поцарапанная щека лежала на теплом асфальте приморского города. Вокруг валялись разбросанные взрывом, погнутые металлические стулья и осколки тарелок.
Волосы, тогда еще короткие, ерошил ветер. Вокруг стояла тишина, царящая лишь в первые секунды, та тишина, когда вслушиваясь в биение собственного сердца, понимаешь, что ты жив. С усилием повернув тяжелую голову, она увидела рядом большое, неподвижное тело своего спутника.
Он застонал. Ресницы, неприлично длинные для мужчины и солдата, дрогнули. Наконец услышав звук сирен, она вдохнула запах дыма и еды, которая, конечно, едой не была.
Лежа на затоптанном полу аэропорта, она опять слушала свое сердце.
– Тук, – она не понимала, что говорит вслух, – тук, тук же!
Редкие удары сменились частыми, трепыхающимися, словно птица, безумно и бездумно билась о прутья клетки. Иногда хотелось, чтобы кто-то, наконец, распоров ей грудь, выпустил на свет это существо.
– Не в этот раз, – она перекатилась по полу к стене. Длинные волосы, вчера подстриженные и покрашенные, испачкала чужая кровь. Привалившись к багажной тележке, она встряхнула головой. Одно сотрясение мозга у нее случилось пятнадцать лет назад. Из волос полетели пыль, перья и какая-то труха.
Он жил в квартирке на первом этаже баухаусного дома, которыми наводнили город бежавшие из нацистской Германии архитекторы. Кондиционера там не было. Сырой средиземноморской зимой, они спасались маленьким электрическим обогревателем и большим диваном с жарким одеялом.
Автобус останавливался на углу бульвара и его улицы. Она шла к нему и морю, легкая, смуглая, с волосами цвета корицы и шоколадными глазами. Тогда она красила ногти на крохотных ступнях лаком винного цвета. Кончики пальцев словно обмакнули в давнюю кровь.
В кафе ее руки были в его крови, алой, пульсирующей, свежей. Не умея, на мгновение, ничего сделать, она смотрела, как собирается лужа под его телом. Он пришел в кафе в форме.
– Свежевыстиранная, – по-дурацки подумала она. Ткань рубашки стремительно темнела.
Превозмогая боль в разбитой и контуженой голове, выдернув осколок стекла из его руки, она наложила жгут.
– Кровь на руках все время хочется стереть, – поняла она сейчас. По залу, толкая уцелевшую багажную тележку, безостановочно крича, ходил какой-то раненый.
Как и пятнадцать лет назад, она приложила измазанные пальцы к вискам, стараясь унять боль. Рядом кто-то застонал. Она подтащилась ближе, достав из кармана завалявшуюся пачку салфеток. Они не помогли бы юноше с тоже испачканной кровью головой, но точно бы не помешали.
Она стерла кровь с его лица. Юноша медленно открыл глаза.
– Больно, – он оглядывался по сторонам: «Очень больно!»
– У вас разбита бровь, – скомкав салфетки, она спрятала их в карман. В паре метров от них взрыв разбросал останки людей, но почему-то она не могла выбросить салфетки на пол.
– Ничего страшного, вам все зашьют. Если у вас нет внутренних повреждений, считайте, что вы дешево отделались.
– Вы медик? – спросил он.
– Нет, я дипломат, – вытащив телефон, она посмотрела на экран. Сигнал, разумеется, отсутствовал.
Юноша, – на второй взгляд ему было лет тридцать, – привалился к стене рядом с ней:
– Я думал, вы ходите через особые коридоры.
– Ходим, – всеобщее оцепенение в зале сменилось панической активностью. «Только мы все равно потом появляемся в общем зале».
– Я юрист, – сказал сосед. «Приехал сопровождать сделку. Я вас из самолета помню».
Абсурдность ситуации рассмешила ее: «Не нашел лучшего места для знакомства».
– Помолчите, – велела она, – при сотрясении мозга не стоит разговаривать.
– Откуда вы знаете, что у меня сотрясение? – мужчина смотрел на экран телефона.
– Нет сигнала, – пожаловался он.
– И не появится в ближайшие несколько часов. Сотрясение у вас может случится потому, что вы ударились головой. Поэтому тихо, – скомандовала она. Умолкнув, он внезапно взял ее за руку.
– Будем молчать вместе, – шепнул он.
Они сидели у стены, смотря, как медики грузят на носилки тяжело раненых.
Пятнадцать лет назад они долго валялись в постели, только к обеду выбравшись из дома. Стоял жаркий июнь, с высоким голубым небом. На выходные они ехали в горы, на север. Они выходили из кафе, когда раздался взрыв. Тренированно толкнув ее вперед, он накрыл ее своим телом. Ее миновали осколки, все досталось ему, а ей только сотрясение мозга от удара об асфальт.
Он накрыл ее голову твердыми ладонями крестьянина. Дома, до армии, он работал на тракторе. Она помнила, какими горячими оставались его ладони даже самой глубокой зимой.
Университетские каникулы она тоже проводила в деревне, на юге. Когда его отпускали из армии, он приезжал в гости. Она ждала его у поворота шоссе, загоревшая под яростным солнцем пустыни, с огрубевшими руками, в измазанных машинным маслом джинсах. Запыленный междугородний автобус тормозил, он соскакивал с подножки, голубоглазый, светловолосый, с автоматом за спиной.
Они ночевали в раскаленном днем и холодном ночью домике с плоской крышей. На крохотном дворе торчали апельсиновое дерево и кран для мытья. Стоило миновать маленькое кладбище, как вокруг расстилался простор пустыни. Крупные звезды резали глаза ярким сиянием. Устроившись на расстеленном спальном мешке, они показывали друг другу созвездия.
После взрыва в кафе их осматривал пожилой, хмурый доктор. Ей велели ехать домой и лежать тихо, ему зашили и заклеили многочисленные раны и царапины от осколков.
В такси ее вырвало. Добравшись до квартиры, она заперлась в туалете, скорчившись в комок на холодном полу.
Потом они лежали рядом, очень тихо. Она касалась маленькими пальцами его спины, он аккуратно, словно боясь разбить, держал в ладонях ее забинтованную голову. Его губы пахли дымом и кровью. Она не отрывалась от него, пытаясь завладеть его телом, чтобы больше никогда не слышать этого запаха.
Сейчас вокруг нее пахло точно так же.
– Мне велели ехать домой, – услышала она рядом голос, – но я здесь не живу, мне надо в гостиницу.
– Мне тоже надо, у меня какая-то была заказана, – ощупав голову, она поморщилась. В ушах гудело и звенело, руки оставались измазанными кровью, хотя она пыталась оттереть их салфетками: «Только я не помню, какая».
– Мы можем поехать в мою. Там разберемся…, – он посмотрел на маленькую, упрямую женщину в грязных джинсах, с расцарапанными щеками и яростным огнем в глазах, спрятанным под темными ресницами: «Я за вас беспокоюсь».
– Со мной все будет в порядке, – ответила она, – у меня это не впервые.
– Я пока что не хочу вас терять, – буркнул он: «Правда, не хочу».
На исходе той ночи, пятнадцать лет назад, он сказал ей то же самое. Они поженились месяц спустя.
Они ехали до Москвы в бесплатной электричке. Она дремала, свернувшись в кресле. Он сидел рядом, слушая ее дыхание, отсчитывая стук колес. Его сердце стучало похоже, размеренно и спокойно, потому что рядом была она.
Завернувшись в махровый халат из гостиничной ванной, она присела на подоконник. Город, в котором она когда-то родилась, убегал с холма, неудержимо стремясь вдаль дорожками огней, стежками света.
– Знаешь, – услышала она, – это словно в стихотворении. Часто пишется казнь, а читается правильно песнь. Может быть, дело в том, что мы неправильно читаем.
– Может быть, простота, уязвимая смертью болезнь, – задумчиво закончила она строчку. Потянувшись, она быстро и сильно обняла его.
– У нас шок, – он ответил на объятие.
– Несомненно, – согласилась она: «Конечно, это шок».
Они лежали, не разнимая сплетенных пальцев. Она заснула, не выпуская его руки, положив ему голову на плечо. До слабого, зимнего рассвета, он боялся пошевелиться, чтобы не разбудить ее.
Во сне она видела ту ночь, когда стала вдовой.
Армейские психологи, чьей работой было сообщать родственникам о гибели солдата, часто приезжали именно ночью. Она выслушала их молча, подобрав мерзнувшие босые ноги. Она спросила только об одном – когда она сможет увидеть тело мужа? Офицер-психолог замялся, она все поняла.
Она попросила, чтобы с ней никто не оставался. Нет, она будет в порядке, и да, она позвонит по телефону, в любое время, если ей что-то будет надо. Сейчас ей было надо только одно.
Закрыв дверь, она легла на стылый пол ванной. Из нее текла темная, так и не ставшая живой, кровь. Когда он уходил на задание, с которого не вернулся, она еще ни в чем ни была уверена и ничего не сказала ему. Теперь и говорить было некому, да и не о чем.
Как и все четырнадцать лет после его смерти, до вчерашнего дня.
Проснувшись, она почувствовала тяжесть в животе. Простыни и ее тело испачкала кровь. С усилием встав, она медленно оделась.
– Что случилось? – приподнялся он в полусне.
– Мне надо в больницу, – голова закружилась, она схватилась за край стола: «Я сама поймаю машину».
– Сядь, – он почти насильно усадил ее в кресло: «Где болит? Это может быть внутреннее ранение, вчера его не заметили».
– Не ранение, – она заплакала большими, быстрыми слезами.
– Успокойся, – сказал он по-дурацки, потому что не знал, что еще сказать: «Сейчас поедем туда, куда надо. Все будет хорошо».
В приемном покое его обругали, потому что она потеряла сознание, а он не знал ни даты ее рождения, ни адреса. Разозлившись, она наорал на всех. Ее увезли наверх, маленькую, такую маленькую на каталке, прикрытую белой простыней в пятнах крови.
Он сел на обитое клеенкой кресло. Глядя на шестиугольную плитку больничного коридора, он зачем-то пробормотал: «Часто пишется казнь, а читается правильно песнь, правильно, песнь, правильно, песнь».
Врач так и застал его бормочущим.
– Извините, – смутился он: «Очень устал, заговариваюсь».
– Вы муж? – спросил доктор.
– В общем, да, – он рассудил, что это самый простой ответ в сложившихся обстоятельствах.
– Все будет хорошо, – сказал врач: «Стресс, шок, легкое сотрясение мозга после вчерашнего. Кто угодно так среагирует. Опять же возраст. Ничего, полежит у нас немного, и все будет хорошо. Будущие дети, они крепкие создания».
– Можно к ней? – спросил он.
– Она спит сейчас. Вы бы тоже поехали поспали. Не ждите, отдохните, а завтра приедете.
Он остался в клеенчатом кресле. Недовольная уборщица повозила вокруг шваброй: «Сказали тебе, езжай домой, вот и сидит, и сидит! Управы на вас нет».
Ему велели не ждать. Опустив голову в большие крестьянские ладони, он все равно стал ждать, пока она проснется.