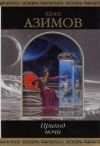Читать книгу "Непрошеная повесть"

Автор книги: Нидзё
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Нидзё
Непрошеная повесть
二条
とわずがたり
Перевод со старояпонского, предисловие и комментарии Ирины Львовой
Перевод стихов Елены Червей

© Львова И.Л., перевод на русский язык, наследники, 2025
© Е. Червей, перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление. Издательство «Эксмо», 2025
Предисловие
У этой книги удивительная судьба. Созданная в самом начале XIV столетия придворной дамой по имени Нидзё, она пролежала в забвении без малого семь веков и только в 1940 году была случайно обнаружена в недрах дворцового книгохранилища среди старинных рукописей, не имеющих отношения к изящной словесности. Это был список, изготовленный неизвестным переписчиком XVII столетия с утраченного оригинала. Ценность находки не вызывала сомнений, но рукописи снова не повезло – обстановка в Японии начала 40-х годов не располагала к публикациям такого рода, несмотря на всю их художественную и познавательную значимость. Четвертый год шли военные действия в Китае, Япония готовилась к вступлению во Вторую мировую войну. Центральным стержнем милитаристской идеологии был культ императора, принимавший все более реакционные формы. Повесть Нидзё, правдиво рисующая быт и нравы, существовавшие, пусть даже в далеком прошлом, при дворе японских императоров, «божественных предков», звучала бы в тех условиях недопустимым диссонансом. Так случилось, что «Непрошеная повесть» увидела свет лишь сравнительно недавно, в 60-е годы. Появление этой книги стало сенсацией в литературных кругах Японии, привлекло внимание японских и зарубежных ученых, а со временем и широких читательских кругов. Ныне автобиографическая повесть Нидзё заняла достойное место в классическом наследии японской литературы, стала одним из неотъемлемых ее звеньев, приоткрывшим для нас новые, яркие грани самобытной культуры японского Средневековья.
Своеобразной была обстановка в Японии второй половины XIII столетия, на которую приходятся годы жизни Нидзё (1258 – ?). Прошло уже больше полувека с тех пор, как после долгой кровопролитной междоусобицы власть в стране перешла от старинной родовой аристократии во главе с императорским домом в руки сословия воинов-самураев. На востоке страны, в селении Камакура, возникло новое правительство самураев, так называемое Правительство Полевой Ставки – Бакуфу. Новая власть, в лице могущественных военно-феодальных домов Минамото, а затем – Ходзё, конфисковала большую часть земельных владений, принадлежащих императорскому дому и многим аристократическим семьям, тем самым подорвав экономическую и политическую основу господства аристократии. Разумеется, со стороны былых властителей-императоров предпринимались попытки сопротивления, даже вооруженного (так называемая Смута годов Сёкю, 1219–1222), но правительство самураев без особых усилий легко справлялось с этими заговорами, не подкрепленными сколь-нибудь реальной силой, казня зачинщиков и бесцеремонно отправляя в ссылку императоров. Ко времени действия «Непрошеной повести», т. е. в конце XIII века, о сопротивлении уже не было речи. Во всех важнейших пунктах страны сидели наместники-самураи, зорко следившие не только за тем, чтобы рис – основа богатства в ту эпоху – неукоснительно поставлялся властям в Камакуре, но и за малейшими признаками неподчинения режиму. В столице, резиденции императоров, было сразу двое наместников, следивших за императорами и их окружением, а заодно и друг за другом[1]1
Так, убийство наместника Токискэ Ходзё, о котором упоминает «Непрошеная повесть» (Свиток первый), произошло по прямому приказу правительства в Камакуре. Заподозренный в заговоре, он был убит самураями своего «коллеги», второго наместника, при том что являлся родным (старшим) братом главы правительства самураев. – Здесь и далее комментарии И. Львовой.
[Закрыть]. Правительство Полевой Ставки полностью контролировало жизнь двора, ему принадлежало решающее слово даже в таком кардинальном вопросе, как престолонаследие.
Новые правители, самураи, не уничтожили институт монархии, напротив, они его полностью сохранили, продолжая оказывать внешние почести императорскому дому. Больше того, заимствовав от былого режима систему регентства, теперь даже самого сёгуна, этого «Великого полководца, покоряющего варваров», назначали из числа малолетних принцев, отпрысков императорского семейства, а фактический глава нового режима (теперь он именовался не регентом, а правителем – сиккэн) вступал в должность лишь после соответствующего императорского указа. Излишне говорить, сколь фиктивный характер носили эти якобы высшие императорские прерогативы… Система регентства по-прежнему сохранялась также и при дворе. На троне восседал ребенок (иногда годовалый) или подросток, а его отец именовался «прежним» государем или, в случае принятия монашеского сана, – «государем-иноком». Такой порядок приводил к тому, что одновременно с «царствующим» императором имелось еще и несколько «прежних»[2]2
Так, в «Непрошеной повести» описана сцена, когда на заупокойной службе по случаю третьей годовщины смерти императора Го-Фукакусы присутствовали «прежние» императоры – Фусими (сын), Го-Фусими (внук), Го-Уда (племянник). Царствующим императором был в это время Го-Нидзё (внучатый племянник).
[Закрыть]. У каждого из них был свой двор, свой штат придворных и т. п.
Междоусобные войны конца XII и начала XIII века разорили и опустошили некогда пышную столицу Хэйан (современный г. Киото). Грандиозный дворцовый комплекс сгорел дотла. Постоянной императорской резиденции не существовало. Императоры жили в усадьбах знати, главным образом своей родни по женской линии. Так, часто упоминаемый в «Повести» дворец Томикодзи, где с детства жила и до двадцати шести лет служила Нидзё, фактически принадлежал знатному семейству Сайондзи. Монополия брачных союзов с императорским домом по-прежнему принадлежала этой семье, потомкам некогда могущественного рода Фудзивара. «Законных» супруг обычно бывало две, реже – три. Обе нередко доводились друг другу родными или двоюродными сестрами, а своему супругу-императору – двоюродными сестрами или тетками[3]3
Так, «главная» супруга императора Го-Фукакусы (именуемая в «Непрошеной повести» «государыней»), происходившая из семейства Сайондзи, была его родной теткой (младшей сестрой его матери, вдовствующей государыни Омияин). Брак был заключен, когда Го-Фукакусе было четырнадцать, а невесте двадцать пять лет. Вторая супруга Го-Фукакусы (госпожа Хигаси), также из рода Сайондзи, мать наследника, будущего императора Фусими, была двоюродной сестрой его первой жены.
[Закрыть]. Браки между кровной родней были обычным делом и заключались, как правило, в раннем возрасте, исходя только из политических соображений. При средневековом японском дворе не существовало гарема, зато процветал институт наложниц.
Знатным мужчинам и женщинам, служившим при дворе, приходилось самим содержать себя, своих слуг и служанок, свой выезд, они должны были заботиться о подобающих положению нарядах. Средств, с санкции самурайского правительства поступавших в императорскую казну, отнюдь не хватило бы для содержания пышной свиты. А свита по-прежнему была пышной, все так же сохранялась многоступенчатая иерархия придворных званий и рангов, соблюдался сложный придворный ритуал, традиционные, освященные веками церемонии, празднества, всевозможные развлечения. Это был причудливый мир, где внешне все как будто осталось без изменений. Но только внешне – по существу же жизнь аристократии, всего императорского двора была своеобразным вращением на холостом ходу, ибо безвозвратно канул в прошлое былой порядок, когда власть в феодальном японском государстве принадлежала аристократии.
Разумеется, богатая культурная традиция, сложившаяся в аристократической среде в минувшие века, не могла погибнуть в одночасье. При дворе по-прежнему продолжались занятия искусством – музыкой, рисованием, литературой, главным образом поэзией, но также и прозой. Об этом убедительно свидетельствует «Непрошеная повесть» Нидзё, придворной дамы и фаворитки «прежнего императора» Го-Фукакусы.
* * *
Проза предшествующих веков была разнообразной не только по содержанию, но и по форме, знала практически все главные жанры – рассказ (новеллу), эссе, повесть и даже роман, – достаточно вспомнить знаменитую «Повесть о Гэндзи» (нач. XI в.), монументальное произведение Мурасаки Сикибу, надолго ставшее образцом для подражания и в литературе, и даже в повседневном быту. Уникальной особенностью классической средневековой японской прозы[4]4
Имеется в виду проза IX–XII вв., часто именуемая в литературоведении «хэйанской», по названию г. Хэйан, столицы и центра культурной жизни в ту эпоху.
[Закрыть] может считаться ее лирический характер, проникновенное раскрытие духовной жизни, чувств и переживаний человека как главная задача повествования – явление, не имеющее аналогов в мировой средневековой литературе. «Непрошеная повесть» Нидзё написана в русле давней литературной традиции. Ясно, что перед нами не дневник в современном понятии этого слова. Повествование построено по хронологическому принципу, но совершенно очевидно, что создано оно, если можно так выразиться, «в один присест», на склоне жизни, как воспоминание о пережитом. Начитанная, образованная женщина, Нидзё строго соблюдает выработанный веками литературный канон – «литературный этикет», по определению академика Д. С. Лихачева, – пересыпает текст аллюзиями и прямыми цитатами из знаменитых сочинений не только Японии, но и Китая, обильно уснащает его стихами, наглядно показывая, какую важную, можно сказать, повседневно-необходимую роль играла поэзия в той среде, в которой протекала жизнь Нидзё. Широко используются так называемые формульные слова, наподобие то и дело встречающихся «рукавов, орошаемых потоками слез» для выражения печали или «жизни, недолговечной, как роса на траве» для передачи быстротечности, эфемерности всего сущего.
Больше того, в текст повести то и дело вплетаются не только отдельные образы или целые предложения, заимствованные из классической литературы; нетрудно заметить, что даже многие эпизоды, как они поданы в повести, основаны на чисто литературных источниках, а не подсказаны личным опытом автора. Перепевом традиционных мотивов являются, например, сцены прощания с возлюбленным при свете побледневшей луны на предутреннем небе или сетования по поводу пения птиц, слишком рано возвестивших наступление утра, т. е. разлуку, – мотив, перешедший в литературу из древнейших народных песен. Заимствование поэтических ситуаций и образов – это почти непременное правило средневекового «литературного этикета», оно, безусловно, было для своего времени весьма эффективным приемом. Современникам Нидзё, людям той среды, в которой она жила, были сразу понятны эти многочисленные аллюзии, они действенно расширяли поэтическое звучание текста, усиливали его эмоциональное звучание. А чего стоят пространные описания нарядов, мужских и женских, при почти полном отсутствии внимания к изображению самой внешности персонажей! И дело тут не просто в тщеславии или в чисто женском интересе к «нарядам» – наряд в первую очередь наглядно и зримо определял положение человека в социальной системе той эпохи. «Человек был в центре внимания искусства феодализма, – пишет академик Д. С. Лихачев, – но человек не сам по себе, а в качестве представителя определенной среды, определенной ступени в лестнице феодальных отношений»[5]5
Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1958, с. 27.
[Закрыть]. Так и Нидзё, описывая одну из самых скорбных минут своей жизни, когда слуга принес ей предсмертное послание ее умершего возлюбленного, не забывает сообщить, во что и как был одет этот слуга…
Означает ли это, что повесть Нидзё всего-навсего эпигонское произведение?
Нет, продолжая формальные приемы «высокой» литературы, повесть Нидзё явно отмечена новизной но сравнению с классическими образцами прошлого. Бросается в глаза динамизм повествования, стремительное развертывание событий, короткие, полные экспрессии фразы, обилие прямой речи, диалогов, особенно в первых трех главах повести.
Но главной, неформальной особенностью повести Нидзё, дающей право говорить не только об ее оригинальности, является широта изображения современной автору жизни. Классические повести-дневники, созданные в эпоху Хэйан, всегда носили сугубо лирический характер, изображая только переживания автора, его личную жизнь и то, что имело отношение к его, автора, узколичной судьбе. А Нидзё, рассказывая историю своей жизни, включает в свое повествование не только многочисленные предания и легенды, но также и сюжеты, выразительно рисующие быт, нравы и даже политические события средневековой Японии – изгнание очередного сёгуна, принца императорской крови, оказавшегося неугодным правительству самураев в Камакуре, соперничество родных братьев – «прежнего» императора Го-Фукакусы и его младшего брата, «царствующего», а затем тоже «прежнего» императора Камэямы, убийство самурайского наместника в столице, огорчения «прежнего» государя Го-Фукакусы по поводу назначения наследника и «благополучное» решение этого вопроса самурайским правительством… Правда, об этом последнем событии сказано почти вскользь, но само упоминание о делах подобного рода в повести, написанной женщиной, можно считать явным нарушением былых литературных канонов. Нидзё считает возможным с сочувствием упомянуть о тяжелой доле простых людей. Она догадывается о горькой жизни так называемых дев веселья, пишет о жестоком обращении самурая с подневольными слугами – темы, немыслимые в прежней литературе! Сочетая в себе традиционные и новаторские черты, повесть Нидзё как бы перебрасывает мост от классической литературы так называемой эпохи Хэйан к литературе развитого Средневековья.
* * *
Читатель не сможет не заметить, что «Непрошеная повесть» отчетливо распадается как бы на две половины. Первая посвящена описанию «светской» жизни Нидзё, во второй (Свитки четвертый и пятый) она предстает перед нами спустя четыре года, уже буддийской монахиней, совсем одинокой, в изношенной черной рясе, а в заключительном Пятом свитке – еще через девять лет[6]6
Этот разрыв в девять лет и отсутствие рассказа о пострижении в монахини – событии исключительно важном в жизни Нидзё – дали основание японским ученым-филологам, тщательно изучившим повесть Нидзё, прийти к выводу, что между Третьим, Четвертым и Пятым свитками, возможно, существовали другие, утраченные.
[Закрыть], когда ей уже исполнился сорок один год.
Монашество – обычный финал многих женских судеб в эпоху феодализма. И все-таки можно сказать, что жизнь Нидзё сложилась особенно несчастливо. Судьба дважды, и притом в самом начале жизненного пути, нанесла ей удар за ударом, в значительной мере определив ее дальнейшую участь. Ей было пятнадцать лет, когда умер ее отец, и немногим более шестнадцати, когда умер ребенок, рожденный ею от императора. Кто знает, останься этот маленький принц в живых, судьба Нидзё, быть может, не была бы такой трагичной… Смерть императорского отпрыска развеяла мечты о личной карьере, отняла надежду на восстановление былой славы ее знатного, но захудалого рода. А смерть отца означала утрату не только духовной, но и материальной опоры в жизни. Кто только не заботился о Нидзё! Ее поддерживали все понемножку – и годичи (дед, дядя), и ее покровитель Сайондзи, и сам «прежний» император Го-Фукакуса, и его брат, тоже «прежний» император Камэяма, и даже старый министр Коноэ… Женщина, не имевшая поддержки влиятельной семьи, была совсем беспомощна в ту эпоху. Так и Нидзё пришлось волей-неволей служить послушной игрушкой чужих страстей и мимолетных капризов.
Но несмотря на все испытания, Нидзё все же не пала духом. Со страниц ее повести возникает образ женщины, наделенной природным умом, разнообразными дарованиями, тонкой душой. Конечно, она была порождением своей среды, разделяла все ее предрассудки, превыше всего ценила благородное происхождение, изысканные манеры, именовала самураев «восточными дикарями», с негодованием отмечала их невежество и жестокость. Но вместе с тем – какая удивительная энергия, какое настойчивое, целеустремленное желание вырваться из порочного круга дворцовой жизни! Требовалось немало мужества, чтобы в конце концов это желание осуществилось. Такой и остается она в памяти – нищая монахиня с непокорной душой…
И. Львова
Нидзё
Непрошеная повесть
Свиток первый
(1271–1274 гг.)
Миновала ночь, наступил новый, восьмой год Бунъэй[7]7
Бунъэй – девиз, означающий «Просвещенное процветание»; соответствует 1264–1275 гг. по европейскому летосчислению. Таким образом, восьмой год Бунъэй – 1271 г.
[Закрыть], и, как только рассеялась туманная дымка праздничного новогоднего утра, дамы, служившие во дворце Томикодзи, словно только и ждали наступления этого счастливого часа, появились в зале для дежурных, соперничая друг с другом блеском нарядов. Я тоже вышла и села рядом со всеми. Помню, в то утро я надела алое нижнее платье на лиловом исподе, сверху – длинное темно-красное косодэ[8]8
Косодэ – прообраз современного кимоно. В средневековой Японии придворные дамы носили, как правило, несколько косодэ, надеваемых одно на другое; в торжественных же случаях полный парадный туалет дамы состоял из двенадцати-тринадцати одеяний, под тяжестью которых женщина буквально сгибалась…
[Закрыть] и еще одно – светло-зеленое, а поверх всего – красное парадное карагину, короткую накидку с рукавами. Косодэ было заткано узором, изображавшим ветви цветущей сливы над изгородью в китайском стиле… Обряд подношения праздничной чарки исполнял мой отец, дайнагон[9]9
Дайнагон (букв.: «старший советник») – одно из высших гражданских званий средневекового японского двора.
[Закрыть], нарочно приехавший для этого во дворец. Когда торжественная часть церемонии закончилась, государь Го-Фукакуса[10]10
Государь Го-Фукакуса – согласно традиционной японской историографии 89-й император Японии (1243–1304). Был объявлен императором в четырехлетнем возрасте, семнадцати лет «уступил» престол младшему брату, императору Камэяме (1249–1305; годы правления – 1259–1274).
[Закрыть] удалился в свои покои, позвал отца, пригласили также женщин, и пошел пир горой, так что государь совсем захмелел. Мой отец, дайнагон, он во время торжества по обычаю трижды подносил государю саке, теперь предложил: «За этой праздничной трапезой выпьем трижды три раза!»
– Нет, на сей раз поступим иначе, – отвечал ему государь, – выпьем трижды по девять раз, пусть будет двадцать семь чарок!
Когда все уже окончательно опьянели, он пожаловал отцу чарку со своего стола и сказал:
– Пусть дикий гусь, которого я ждал так долго и терпеливо, этой весной прилетит наконец в мой дом!
Отец с низким поклоном вернул государю полную чарку и удалился, кланяясь с особым почтением.
Я видела, прежде чем он ушел, государь что-то тихонько сказал ему, но откуда мне было знать, о чем они говорили?
Праздник закончился, я вернулась к себе и увидела письмо. «Еще вчера я не решался писать тебе, но сегодня наконец открою сердце…» – так начиналось послание. Тут же лежал подарок – восемь тонких, прозрачных нижних одеяний, постепенно переходящих от алого к белому цвету, темно-красное одинарное верхнее одеяние, еще одно, светло-зеленое, парадная накидка, шаровары – хакама, три косодэ одной расцветки, два косодэ другого цвета. Все завернуто в кусок ткани. Вот неожиданность! К рукаву одной из одежд был прикреплен тонкий бумажный лист со стихами:
Пусть мы не можем,
как птицы, летящие рядом,
крылом прислониться к крылу, —
журавлиное платье
напомнит о нашей любви.
Нужно было быть вовсе бесчувственной, чтобы оставить без ответа такой подарок, продуманный столь тщательно и любовно… Но я все-таки отправила обратно весь сверток и написала:
«О, как могу я
наряд примерять золотой,
облачаясь в любовь?
Ведь платье промокнет насквозь
от моих слез…
Но если бы ваша любовь и впрямь была вечной, я с радостью носила бы эти одежды…»
Около полуночи той же ночью кто-то вдруг постучал в калитку.
Девочка-прислужница, ничего не подозревая, отворила калитку. «Какой-то человек подал мне это и тотчас же исчез!» – сказала она, протягивая мне сверток. Оказалось, это тот самый сверток, что я отослала, и вдобавок стихотворение:
Раз так любишь, как говоришь,
и дальше любить не перестанешь, —
журавлиный наряд сделай платьем ночным, —
так я буду с тобой рядом в ложе,
хоть не будет меня…
На сей раз я уже не знала, куда и кому возвращать эти одеяния. Пришлось оставить их у себя.
Я надела эти одежды в третий день нового года, когда стало известно, что к нам, во дворец Томикодзи, пожалует государь-инок Го-Сага[11]11
Государь-инок Го-Сага – 88-й император Японии, отец императора Го-Фукакусы. Вступив на престол в 1243 г., он уже в 1247 г. «уступил» престол своему четырехлетнему сыну. По традиции после отречения постригся в монахи и стал именоваться «государем-иноком»
[Закрыть], отец нашего государя.
– И цвет, и блеск ткани на диво хороши! Это государь Го-Фукакуса подарил тебе такой наряд? – спросил мой отец, дайнагон. Я невольно смутилась и ответила самым небрежным тоном: «Нет, это подарок бабушки, госпожи Китаямы…»
Вечером пятнадцатого дня из дома за мной прислали людей. Я была недовольна – что за спешка? – но отказаться не посмела, пришлось поехать. Усадьба удивила меня необычно праздничным видом. Все убранство – ширмы, занавеси, циновки – одно к одному, нарядное, пышное. Но я подумала, что, вероятно, все это устроено по случаю наступления нового года. Этот день прошел без каких-либо особых событий.
Назавтра с самого утра поднялась суматоха – совещались об угощении, о всяких мелочах, обсуждали, где разместить кареты вельмож, куда поставить верховых коней… «В чем дело?» – спросила я, и отец, улыбнувшись, ответил: «Видишь ли, по правде сказать, сегодня вечером государь Го-Фукакуса осчастливит своим посещением нашу усадьбу по случаю Перемены места[12]12
В средневековой Японии были широко распространены различные суеверные представления и гадания, астрология, геомантика и т. п. По указанию жрецов-предсказателей нужно было во избежание несчастья изменить местопребывание – переехать с запада на восток, с севера на юг или наоборот и т. д.
[Закрыть]. Оттого и убрали все, как подобает. К тому же сейчас как раз начало нового года… А тебя я велел позвать, чтобы прислуживать государю».
– Странно, ведь до Дня равноденствия еще далеко, с чего это вздумалось государю совершать Перемену места? – сказала я. Тут все засмеялись: «Да она еще совершеннейшее дитя!» Но я все еще не понимала, в чем дело, а меж тем в моей спальне тоже поставили роскошные ширмы, небольшую переносную перегородку – все нарядное, новое. «Ой, разве в мою комнату пожалуют гости? Ее так разукрасили!…» – сказала я, но все только загадочно улыбались, и никто не стал мне ничего объяснять.
С наступлением вечера мне велели надеть белое одинарное кимоно и темно-пурпурные шаровары – хакама. Поставили дорогие ароматические курения, в доме стало как-то по-особому торжественно, празднично.
Когда наступило время зажечь светильники, моя мачеха принесла мне ослепительно-прекрасное косодэ. «Вот, надень!» – сказала она. А немного погодя пришел отец и, развешивая на подставке одеяние для государя, сказал: «Не ложись до приезда государя, будешь ему прислуживать. И помни – женщина должна быть уступчивой, мягкой, послушно повиноваться всему, что бы ни приказали!» Так говорил он, но тогда я еще вовсе не понимала, что означали его наставления. Я ощутила только какое-то смутное недовольство, прилегла возле ящика с древесным углем для жаровни и сама не заметила, как уснула. Что было потом, не помню. Я не знала даже, что тем временем государь уже прибыл. Отец поспешил встретить его, предложил угощение, а я все это время спала безмятежно, как младенец. Кругом суетились, шумели: «Разбудите же Нидзё!», но государь сказал: «Ничего, ничего. Пусть спит, оставьте ее!» – и никто не решился меня трогать. А я, накрывшись с головой одеянием, ни о чем не ведая, все спала, прислонившись к ящику с углем, задвинутому за перегородку у входа в мои покои.
Внезапно я открыла глаза – кругом царил полумрак, наверное, опустили занавеси, – светильник почти угас, а рядом со мной, в глубине комнаты, как ни в чем не бывало расположился какой-то человек. «Это еще что такое!» – подумала я, мигом вскочила и хотела уйти, как вдруг слышу: «Проснись же! Я давным-давно полюбил тебя, когда ты была еще малым ребенком, и долгих четырнадцать лет ждал этого часа…» И он принялся в самых изысканных выражениях говорить мне о любви – у меня не хватило бы слов, чтобы передать все эти речи, но я слушать ничего не хотела и только плакала в три ручья, даже рукава его одежды и те вымочила слезами.
– Долгие годы я скрывал свои чувства, – сказал государь, не зная, как меня успокоить, и, конечно же, не пытаясь прибегнуть к силе. – И вот приехал, надеясь, что хоть теперь представится случай поведать тебе о моей любви. Не стоит так холодно ко мне относиться, все равно все уже об этом узнали! Теперь ни к чему твои слезы!
Вот оно что! Стало быть, он хочет удостоить меня своей монаршей любви не втайне от всех, всем уже об этом известно! Стало быть, завтра, когда эта ночь растает, словно призрачный сон, мне придется изведать такую муку! Я заранее страдала от этой мысли. Сейчас я сама дивлюсь, неужели, совсем не зная, что ждет меня в будущем, я уже предчувствовала грядущие горести?
«Почему никто не предупредил меня, почему не велели отцу моему, дайнагону, откровенно поговорить со мной? – сокрушалась и плакала я. – Теперь я не смогу смотреть людям в глаза!..» И государь, очевидно решив, что я слишком уж по-детски наивна, так и не смог ничего от меня добиться. Вместе с тем встать и уйти ему, по-видимому, тоже было неудобно, он продолжал лежать рядом, и это было мне нестерпимо. За всю ночь я не промолвила ни единого слова в ответ на все его речи. Но вот уже занялась заря, послышался чей-то голос: «Разве государь не изволит вернуться сегодня утром?»
– Да, ничего не скажешь, приятное возвращение после отрадной встречи! – как бы про себя проговорил государь. – Признаться, никак не ожидал встретить столь нелюбезное обращение! Как видно, наша давняя дружба для тебя ничего не значит… А ведь мы подружились еще в ту пору, когда ты причесывалась по-детски… Тебе бы следовало вести себя так, чтобы со стороны все выглядело пристойно. Если ты будешь все время прятаться и молчать, что подумают люди? – то упрекал он меня с обидой в голосе, то всячески утешал, но я по-прежнему не произнесла ни слова.
– Беда с тобой, право! – сказал государь, встал, надел кафтан и другие одежды и приказал подавать карету. Слышно было, как отец спрашивал, изволит ли государь откушать завтрак и что-то еще, но мне уже казалось, что это не прежний государь, а какой-то новый, совсем другой человек, с которым я уже не могу говорить так же просто, как раньше, и мне было до слез жаль самое себя, ту, прежнюю, какой я была до вчерашнего дня, когда еще ничего этого не знала.
Я слышала, как государь отбыл, но по-прежнему лежала не двигаясь, натянув одежды на голову, и была невольно поражена, когда очень скоро от государя доставили Утреннее послание[13]13
Согласно этикету, неукоснительно соблюдавшемуся в аристократической среде, молодой муж после бракосочетания, происходившего, как правило, в доме невесты, присылал новобрачной стихотворное послание с выражением любви. Женщине полагалось ответить тоже стихами. Любовники также обменивались такими посланиями.
[Закрыть]. Пришли мои мачеха и монахиня-бабушка. «Что с тобой? Отчего не встаешь?» – спрашивали они, и мне было мучительно слышать эти вопросы. «Мне нездоровится еще с вечера…» – ответила я, но, как видно, они посчитали это обычным недомоганием после первой брачной ночи, и это тоже было мне досадно до слез. Все носились с письмом государя, волновались и суетились, а я не желала даже взглянуть на его послание. Человек, доставивший письмо, в растерянности спрашивал: «Что такое?.. В чем дело?..» – и настойчиво приставал к отцу: «Покажите же послание государя госпоже Нидзё!» Мне казалась прямо невыносимой вся эта суматоха. «Кажется, она не совсем здорова…» – отвечал отец и пришел ко мне.
– Все встревожены из-за письма государя, а ты что же?! Уж не собираешься ли ты, чего доброго, вовсе оставить без ответа его послание? – сказал он, и слышно было, как он шуршит бумагой, разворачивая письмо. На тонком листе лилового цвета было написано:
Время прошло,
и сблизились мы.
На твоих рукавах
не лежала моя голова на рассвете —
но лелею я их аромат!
«Наша барышня совсем не похожа на нынешних молодых девиц!» – восклицали мои домашние, прочитав это стихотворение. Я же не знала, как мне теперь вести себя, и по-прежнему не поднималась с постели, а родные беспокоились: «Не может же кто-то другой написать за нее ответ, это ни на что не похоже!» В конце концов посланцу вручили только подарки и отпустили, сказав:
– Она совершеннейшее дитя, все еще как будто не в духе и потому не видела письма государя…
А днем пришло письмо от него – от Санэканэ Сайондзи[14]14
Санэканэ Сайондзи – представитель одного из наиболее влиятельных аристократических семейств. Описывая свои интимные отношения с этим придворным, Нидзё называет его вымышленным прозвищем Акэбоно – Снежный Рассвет, там же, где он выступает как официальное лицо, используется его настоящее имя. По мнению японских комментаторов, это сделано нарочно, с целью замаскировать подлинное имя этой влиятельной персоны, современника Нидзё, еще здравствовавшего в то время, когда она создавала свою рукопись.
[Закрыть], хотя я совсем этого не ждала.
Ах, если сердце свое
ты подаришь другому,
в печали горючей
я сгину, исчезну,
как дым на ветру…
Дальше было написано: «До сих пор я жил надеждой когда-нибудь с тобой соединиться, но теперь о чем мне мечтать, ради чего жить на свете?» Письмо было написано на тонком синеватом листе, на котором цветной вязью была оттиснута старинная танка:
С горы Синобу убирайтесь,
о, злые тучи!
Не могу я вас боле терпеть!
Прочь из безутешного сердца,
облака в высоте!
Его собственное стихотворение было написано поверх этих стихов.
Я оторвала от бумаги кусочек, как раз тот, на котором стояли слова «гора Синобу», и написала: «Ах, ты ведь не знаешь, что в сердце творится моем! Объята смятеньем, я другому не покорилась, ускользнула, как дым вечерний». И сама не могла бы сказать, как я решилась отправить ему такой ответ.
* * *
Так прошел день, я не притронулась даже к лекарственному настою. «Уж и впрямь не захворала ли она по-настоящему?» – говорили домашние. Но когда день померк, раздался голос: «Поезд его величества!» – и не успела я подумать, что же теперь случится, как государь, открыв раздвижные перегородки, как ни в чем не бывало вошел ко мне с самым дружелюбным, привычным видом.
– Говорят, ты нездорова? Что с тобой? – спросил он, но я была не в силах ответить и продолжала лежать, пряча лицо. Государь прилег рядом, стал ласково меня уговаривать, спрашивать. Мне хотелось сказать ему: «Хорошо, я согласна, если только все, что вы говорите, правда…», я уже готова была вымолвить эти слова, но в смятении подумала: «Ведь он будет так страдать, узнав, что я всецело предалась государю…» – и потому не сказала ни слова.
В эту ночь государь был со мной очень груб, мои тонкие одежды совсем измялись, и в конце концов все свершилось по его воле. А меж тем постепенно стало светать, я смотрела с горечью даже на ясный месяц – мне хотелось бы спрятать луну за тучи! – но, увы, это тоже было не в моей власти…
Как жаль, меня принудили
узлы развязать на одеждах —
вслед за бельем
ниспадет и позор,
и недобрая слава, —
неотступно думала я. Даже ныне я удивляюсь, что в такие минуты была способна так здраво мыслить…
Государь всячески утешал меня.
– В нашем мире любовный союз складывается по-разному, – говорил он, – но наша с тобой связь никогда не прервется… Пусть мы не сможем все ночи проводить вместе, сердце мое все равно будет всегда принадлежать одной тебе безраздельно!
Ночь, короткая, как сон мимолетный, посветлела, ударил рассветный колокол.
– Скоро будет совсем светло… Не стоит смущать людей, оставаясь у тебя слишком долго… – сказал государь и, выходя, промолвил: – Ты, конечно, не слишком опечалена расставаньем, но все-таки встань, хотя бы проводи меня на прощание!.. – Я и сама подумала, что и впрямь больше нельзя вести себя так неприветливо, поднялась и вышла, набросив только легкое одеяние поверх моего ночного платья, насквозь промокшего от слез, потому что я плакала всю ночь напролет.
Полная луна клонилась к западу, на восточной стороне неба протянулись полосками облака. Государь был в теплой одежде вишневого цвета на зеленоватом исподе, в сасинуки[15]15
Сасинуки – широкие шаровары, собранные у щиколотки; одежда знатного мужчины.
[Закрыть] с гербами, сверху он набросил светло-серое одеяние. Странное дело, в это утро его облик почему-то особенно ярко запечатлелся в моей памяти… «Так вот, стало быть, каков союз женщины и мужчины…» – думала я.
Дайнагон Дзэнседзи, мой дядя, в темно-голубом охотничьем кафтане подал карету. Из числа придворных государя сопровождал только вельможа Тамэката. Остальная свита состояла из нескольких стражников-самураев да низших слуг. Когда подали карету, громко запели птицы, как будто нарочно дожидались этой минуты, чтобы возвестить наступление утра; в ближнем храме богини Каннон[16]16
Богиня Каннон (иначе Кандзэон; санскр. Авалокитешвара, букв.: «внимающая звукам» (мирским) – буддийское божество. Часто изображалась со множеством рук, с одиннадцатью головами и т. д. Культ Каннон был чрезвычайно популярен в средневековой Японии, эта богиня почиталась как заступница всех страждущих, олицетворение милосердия.
[Закрыть] ударили в колокол, мне казалось: он звучит совсем рядом, на душе было невыразимо грустно. «Из-за любви государя промокли от слез рукава…» – вспомнились мне строчки «Повести о Гэндзи»[17]17
«Повесть о Гэндзи» – знаменитый роман (начало XI в., автор – придворная дама Мурасаки Сикибу), был широко известен в аристократической среде.
[Закрыть]. Наверное, там написано именно о таких чувствах…
– Проводи меня, ведь мне так грустно расставаться с тобой! – все еще не отъезжая, позвал меня государь. Возможно, он понимал, что творится в моей душе, но я, вся во власти смятенных чувств, продолжала стоять не двигаясь, а меж тем с каждой минутой становилось светлей, и месяц, сиявший на безоблачном небе, почти совсем побелел. Внезапно государь обнял меня, подхватил на руки, посадил в карету, и она тут же тронулась с места. Точь-в-точь как в старинном романе, так неожиданно… «Что со мной будет?» – думала я.
Утро скоро придет —
звон колокола предупреждает.
Как горько припомнить,
что снилось мне этой ночью,
пока слезы лились
Пока мы ехали, государь твердил мне о любви, обещал любить меня вечно, совсем как будто впервые в жизни похищал женщину, все это звучало прекрасно, но, по правде сказать, чем дальше мы ехали, тем тяжелее становилось у меня на душе, и, кроме слез, я ничем не могла ему ответить. Наконец мы прибыли во дворец на улице Томикодзи.