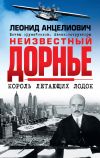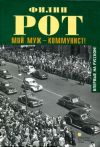Текст книги "Заговор против Америки"
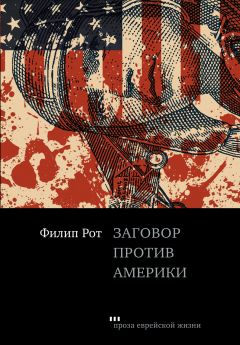
Автор книги: Николь Краусс
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
(В постели, час спустя. Свет уже погашен во всем доме. Мы перешептываемся.)
– Там и вправду хорошо было?
– Просто классно.
– А чего такого классного там?
– Да все: жить на ферме, вставать до рассвета, весь день заниматься на свежем воздухе, и вся эта скотина. Я рисовал множество всякой живности, после покажу. И каждый день – мороженое. Миссис Маухинни сама его делает. Молоко всегда свежее.
– Молоко и у нас свежее.
– Нет, там оно свежее из-под коровы. Еще теплое.
– А от него не заболеешь?
– Так его же почему кипятят?
– Значит, прямо от коровы ты не пил?
– Пробовал, но мне не понравилось. Очень жирное.
– А ты корову доил?
– Орин меня учил, но это трудно. И коты сбегаются, лезут прямо в молоко.
– У тебя был друг?
– Конечно, Орин.
– Орин Маухинни?
– Да, мы с ним одногодки. Он учится в школе и работает на ферме. Встает в четыре утра, ухаживает за скотиной. Это его обязанности. В школу ездит на автобусе. Приезжает – и снова в коровник, потом делает уроки – и спать, а утром подъем в четыре – тяжелая работа быть сыном фермера.
– Но они богатые?
– Изрядные богачи.
– Почему ты так говоришь?
– А что? Так говорят в Кентукки. Ты бы слышал, как говорит миссис Маухинни! Она из Джорджии. У нее на завтрак оладьи каждое утро. С беконом. Мистер Маухинни сам его коптит. У него есть коптильня. Здорово получается.
– Ты ел бекон каждое утро?
– Каждое утро. Это объедение. А по воскресеньям, когда мы вставали, не только оладьи и бекон, а еще и яйца. От своих куриц. У них красный желток. Иди в курятник, бери яиц сколько хочешь.
– И окорок ты ел?
– Окорок у нас бывал на ужин два раза в неделю. Тоже свой. Мистер Маухинни делает его по семейному рецепту. Он говорит, что если окорок провисел в кладовой меньше года, так он его и есть не будет.
– И колбасу ел?
– Конечно. Он и колбасу делает. Измельчает мясо специальной машинкой. Колбасу нам часто давали вместо бекона. Очень вкусно. И свиные отбивные – пальчики оближешь. Я не знаю, почему мы их не едим?
– Потому что это свинина.
– Ну и что? А для чего фермеры разводят свиней? Для красоты, что ли? Как отличную еду. Раз попробуешь – и уже никогда не откажешься.
– Ты теперь всегда будешь есть свинину?
– Конечно.
– Там, небось, жарища была?
– Только днем. Но у нас был перерыв на ланч, – сэндвичи с кетчупом и майонезом и лимонад, – а во второй половине дня опять на прополку. Пропалывали кукурузу, пропалывали табак. У нас с Орином был свой огород для прополки. А так работают в основном негры, поденщики. Там был один такой негр Рандолф, который тоже был поденщиком, а сделался арендатором. Мистер Маухинни сказал, что он отличный фермер.
– Ты понимаешь, что говорят негры?
– Конечно.
– И сам по-ихнему можешь?
– Они говорят «бак» вместо «табак» или «грю» вместо «говорю»: «я грю, он грит, они грят», но на самом деле они почти и не говорят, они работают. Когда режут свиней, то мистер Маухинни зовет двух братьев негров – Клита и старого Генри, чтобы они их потрошили. За это им отдают потроха, они их жарят и едят. Всякую требуху.
– Ты бы и это стал есть?
– Да я негр, что ли? Мистер Маухинни говорит, что негров остается все меньше, они уходят с фермы, думают, что в городе больше заработают. И если в субботу старый Генри попадет за пьянку в полицию, то мистер Маухинни вносит залог, чтобы его отпустили, потому что в понедельник без него не обойтись.
– А башмаки у них есть?
– Не у всех. Мелюзга – босиком. Маухинни отдают им свои обноски – они и рады.
– А кто-нибудь что-нибудь говорил про антисемитизм?
– Там, Филип, об этом даже не знают. Кроме меня они ни одного еврея не видели. Так и сказали. Это ж Кентукки! Там народ веселый и дружелюбный.
– Ну а ты рад, что вернулся?
– Наверно. Не знаю.
– А на следующий год снова поедешь?
– Конечно.
– А если папа с мамой не отпустят?
– Все равно поеду.
И словно бы оттого, что Сэнди стал есть грудинку, колбасу и отбивные, наша жизнь стала стремительно меняться. Теперь к нам на ужин собрался рабби Бенгельсдорф. С тетей Эвелин.
– Но почему именно к нам? – спросил папа. Мы уже поужинали. Сэнди ушел в спальню писать письмо Орину Маухинни, я остался с родителями, потому что мне было страшно интересно, как отец отнесется к этой новости, когда все вокруг пошло кувырком.
– Она моя сестра, – жестко сказала мать, – а он ее шеф, не могу же я ей отказать.
– Зато я могу.
– И не вздумай.
– Тогда скажи мне: что этой большой шишке от нас надо? Ему что, делать больше нечего?
– Эвелин хочет познакомить его с твоим сыном.
– Но это же просто глупо! И твоя сестра как была дурой, так и осталась. Мой сын учится в восьмом классе. Летом он полол сорняки. Все это сущий идиотизм.
– Герман, они придут в четверг вечером, и нам надо хорошо их принять. Ты можешь ненавидеть этого человека, но он тем не менее знаменитость.
– Это я знаю, – презрительно бросил он. – За это-то я его и ненавижу.
Теперь он разгуливал по дому исключительно со свернутой в трубку «Пи-эм» в руке, как будто газета была оружием, а сам он готов был в любое мгновение пустить его в ход – или по меньшей мере зачитать жене вслух понравившиеся ему строки. И как раз этим вечером он был особенно взволнован стремительным натиском немецких войск на Восток в отсутствие какого бы то ни было сопротивления со стороны Красной армии. В очередной раз пошуршав газетой и так и не найдя на ее страницах ничего утешительного, отец воскликнул:
– Почему русские не сражаются? У них есть самолеты – где они? Почему никто в России не принимает бой? Гитлер вторгся к ним и идет прямо в дамки. Англия, – продолжил он свой политический анализ, – единственная страна в Европе, способная устоять перед этим извергом. Он бомбит британские города каждой ночью, а англичане не сдаются, англичане огрызаются, у англичан есть Королевский военно-воздушный флот. Господи, благослови Королевский военно-воздушный флот!
– А когда Гитлер вторгнется в Англию? – спросил я у него. – И почему он не сделал этого до сих пор?
– Так они договорились с Линдбергом в Исландии. Это часть сделки, – объяснил мне отец. – Линдберг хочет выглядеть спасителем рода человеческого. Он утверждает, что любая война рано или поздно заканчивается миром. И вот, когда Гитлер покорит Россию, и Ближний Восток, и все остальное, на что он положил или еще положит глаз, Линдберг созовет фиктивную мирную конференцию вроде тех, на которых специализируются как раз нацисты. Немцы прибудут на конференцию и объявят, что готовы отказаться от вторжения в Англию и заключить мир с нею в обмен на установление фашистского режима в самой Великобритании. С премьер-министром из наци на Даунинг-стрит. А если англичане откажутся, Гитлер вынужден будет вторгнуться, не омрачив при этом репутации нашего президента как миротворца.
– Это, наверное, говорит Уолтер Уинчелл? – спросил я, предположив, что для моего отца подобный анализ слишком замысловат.
– Это я говорю! – И, наверное, так оно и было. Происходящее в стране и в мире обостряло интеллектуальные способности, мои в том числе. – Но благослови, Господи, и Уолтера Уинчелла. Без него мы бы вообще пропали. На радио он один-одинешенек противостоит всей этой своре. Это чудовищно. Это хуже чем чудовищно. Медленно, но верно в Америке скоро не останется ни одного человека, который публично осудит Линдберга за то, что тот лижет задницу Гитлеру.
– А как же Демократическая партия?
– Не спрашивай меня, сынок, о Демократической партии. Меня и без того душит ярость.
В четверг вечером мать велела мне помочь ей расставить стол в столовой, а потом отправила меня в детскую переодеться в воскресный костюм. Тетя Эвелин и рабби Бенгельсдорф должны были прибыть к семи – на сорок пять минут позже, чем мы обычно уже заканчивали – и, разумеется, на кухне – трапезу, но к более раннему часу перегруженный официальными делами раввин просто-напросто не смог бы вырваться. Меж тем это был тот самый предатель, которого мой отец, лояльный и почтительный по отношению к еврейскому духовенству, обвинял в произнесении идиотской и насквозь лживой речи на митинге в честь прибытия кандидата в президенты от республиканцев в Ньюарк и называл выродком, который, по удачному выражению Элвина, сделал Линдберга кошерным для гоев, поэтому чем, как и в какой мере мы высокопоставленного визитера угостим, оставалось в высшей степени загадочным. Мне, скажем, велели не пользоваться свежими полотенцами, повешенными в ванной, и запретили подходить к отцовскому креслу с подлокотниками, в которое, как было задумано, усядется рабби, прежде чем его пригласят к столу.
Первым делом мы все неловко посидели в гостиной. Отец предложил Бенгельсдорфу аперитив или, может быть, стопку водки, а тот, отказавшись и от того, и от другого, попросил стакан воды из-под крана.
– В Ньюарке лучшая в мире водопроводная вода, – заявил раввин, и сказал он это в своей всегдашней манере – то есть с неколебимой уверенностью в собственной правоте. Изящно снял бокал с подноса, на котором поднесла ему воду моя мать (чуть менее года назад, в октябре, убежавшая от радиоприемника, чтобы не слышать, как Бенгельсдорф расхваливает Линдберга; у меня перед глазами тут же встала эта картина). – У вас прекрасный дом, – обратился он к ней. – Все на месте, и место для всего выбрано безупречно. Это свидетельствует о любви к порядку, а я и сам люблю порядок. И вы, как я замечаю, предпочитаете зеленую цветовую гамму.
– Темно-зеленую, – ответила моя мать, сделав попытку улыбнуться и даже понравиться, но эта вежливость давалась ей с трудом, а посмотреть раввину в глаза она просто не решалась.
– Вы должны гордиться тем, какой у вас прекрасный дом. И я польщен тем, что меня сюда пригласили.
Внешне рабби отчасти напоминал самого Линдберга: долговязый, худой, лысый мужчина в темной тройке и лакированных черных туфлях; сама его осанка, казалось, свидетельствовала об устремленности в заоблачную высь – к вершинам духа, естественно. По сочному южному выговору его радиовыступлений я заранее представлял себе его не столь свирепым; одни только очки у него на лице выглядели весьма грозно, отчасти потому, что были круглыми, как глаза совы, и прилипали к переносице, точь-в-точь как те, которые носил Рузвельт, отчасти же из-за самого своего наличия: он смотрел на вас сквозь них, как в микроскоп, взглядом человека, которому лучше не перечить. Но говорил он при этом тепло, приветливо, даже доверительно. Я все ждал, когда же он начнет угрожать или будет нами командовать, но говорил он на свой южный лад – и все же не совсем так, как Сэнди, – настолько тихо, что порой приходилось задерживать дыхание, чтобы его слова расслышать.
– А это вот и есть мальчик, которым мы все гордимся, – так обратился он к моему старшему брату.
– Меня зовут Сэнди, сэр.
Сказав это, Сэнди залился ярким румянцем. На мой взгляд, подобная реакция стала блистательным опровержением того широко распространенного заблуждения, согласно которому хорошо воспитанный мальчик, выслушав – пусть и заслуженную – похвалу, непременно теряется. Нет, ничто не могло теперь ввергнуть Сэнди в растерянность – с его-то мускулами, с его-то выцветшими на солнце волосами, с его-то без разрешения благоприобретенным пристрастием к свинокопченостям.
– Ну и как тебе работалось там, в Кентукки, под палящим солнцем?
Рабби произнес «работалось» как «рыботалось» и «Кентукки» как «Кентаки», тогда как сам Сэнди называл этот штат на тамошний манер «Кинтакки».
– Я многому там научился, сэр. И многое узнал о своей стране.
Тетя Эвелин одобрительно кивнула, в чем не было ничего удивительного, так как накануне вечером, по телефону, она сама научила Сэнди тому, как нужно отвечать на этот вопрос. А поскольку она всегда посматривала на моего отца несколько свысока, для нее было истинным наслаждением преображать жизнь его старшего сына прямо у него под носом.
– Ты ведь работал на табачной плантации? Так мне сказала твоя тетя Эвелин.
– Да, сэр. Мы выращивали белый барли.
– А тебе известно, Сэнди, что как раз табак стал экономической причиной возникновения первого постоянного поселения англичан на территории будущих США? И произошло это в Джеймстауне, будущий штат Вирджиния.
– Нет, сэр, – нехотя признался Сэнди, однако тут же нашел удачный выход из ситуации. – Но меня это ничуть не удивляет.
– Многие напасти обрушились на джеймстаунских первопоселенцев, – сообщил ему рабби. – Но людей от голодной смерти – а поселок от полного исчезновения – спас табак, который они выращивали. Поразмысли над этим как следует. Не будь табака, первое представительное собрание во всем Новом Свете никогда не возникло бы в Джеймстауне, тогда как в действительности это случилось уже в 1619 году. Не будь табака, это поселение пришло бы в упадок, а вслед за этим закончилось бы неудачей и дело колонизации Вирджинии, и Первые семьи Вирджинии, сделавшие состояние именно на табаке, никогда не стали бы Первыми семьями. А ведь тебе известно, что именно из Первых семей Вирджинии произошли государственные деятели, которых мы называем отцами-основателями. Таким образом, табак сыграл исключительно важную роль в истории становления нашей республики.
– Да уж, – сказал Сэнди.
– Что касается меня, – продолжил рабби, – то я родился на американском Юге. Через четырнадцать лет после трагедии, какой обернулась для страны гражданская война. В молодости мой отец сражался на стороне конфедератов. Его отец, эмигрировав из Германии, поселился в Южной Каролине в 1850 году. У него была передвижная лавка. То есть фургон на конной тяге. Он носил длинную бороду и продавал свой товар и черным, и белым. Ты слышал когда-нибудь об Иуде Бенджамине?
– Нет, сэр. – И вновь Сэнди ухитрился молниеносно вывернуться из щекотливой ситуации. – Но можно ли поинтересоваться у вас, кто это такой?
– Он был евреем и вторым, после Джефферсона Дэвиса, человеком в правительстве Конфедерации. Еврейский адвокат, исполнявший при президенте Дэвисе обязанности генерального прокурора, министра обороны и госсекретаря. До выхода южных штатов из Союза он заседал в сенате США как один из двух сенаторов от Южной Каролины. Дело, из-за которого Юг вступил в войну против Севера, не было, на мой взгляд, ни правым, ни с правовой точки зрения безупречным, однако к Иуде Бенджамину я отношусь и всегда относился с восхищением. Евреи были тогда в Америке диковинами – и на Севере, и на Юге, – но не думай, что антисемитизм отсутствовал: нет, он присутствовал – и с ним было необходимо считаться, и против него бороться. И, несмотря на это, Иуда Бенджамин сделал в правительстве Юга головокружительную карьеру. А после поражения южан уехал в Англию и стал там преуспевающим адвокатом.
В этот миг моя мать выскользнула на кухню якобы проверить степень готовности блюд, а тетя Эвелин, обратившись к Сэнди, сказала:
– Думаю, самое время показать раввину рисунки, сделанные тобою на ферме.
Сэнди, поднявшись с места, подал остающемуся в отцовском кресле Бенгельсдорфу несколько блокнотов с летними зарисовками. Перед этим, на протяжении всего разговора, он держал блокноты у себя на коленях.
Взяв первый альбом, рабби принялся медленно и вдумчиво перелистывать страницы.
– Скажи раввину пару слов о каждой картинке, – обратилась тетя к племяннику.
– Да я и сам вижу, что это сарай, причем прекрасно нарисованный. Какая замечательная игра светотени! Ты очень талантлив, Сэнфорд.
– А это растет табак. Так он выглядит в поле. Видите, листья у него треугольные. И очень большие. А это растение еще цветет. Видите цветок на самом верху?
– Цветущий табак, – заметил рабби, переворачивая страницу, – такого я еще не видывал!
– Так получают семена. Табак ведь высаживают. Покрывают цветок бумагой и натуго перевязывают. И в результате получают то, что им нужно.
– Замечательно, просто замечательно! Не так-то легко зарисовать растение с такой точностью и вместе с тем – чтобы твой рисунок выглядел произведением искусства. На листьях видна каждая прожилка! И сверху, и с изнанки! Нет, действительно, очень хорошо!
– А это, как вы понимаете, плуг, – сказал Сэнди. – А это мотыга. Ручная мотыга. Ею удаляют сорняки. Хотя это можно делать и голыми руками.
– И ты этим занимался? – поддразнил его рабби.
– До мозолей, – ответил Сэнди, и рабби Бенгельсдорф улыбнулся. Теперь он уже не казался таким страшным. – А это вот просто собака, – продолжил Сэнди. – Собака Орина. Она спит. А это один из тамошних негров, старый Генри. А это его руки. Мне кажется, его руки многое о нем говорят.
– А это кто?
– Это брат старого Генри. Его зовут Клитом.
– Мне нравится, как ты его нарисовал. Каким усталым, каким измученным. Я знаю таких негров – я вырос среди них, и я их уважаю… Постой-ка, а это что такое? Человек, или как?
– Человек там внутри, – пояснил Сэнди. – Так табак обрабатывают инсектицидом. Надо одеться с ног до головы в плотное платье, все на себе застегнуть, надеть маску и перчатки, чтобы не обжечься. И вот эти ручные раздувальные меха – от них самая опасность. Инсектицид представляет собой зеленую пыль, и когда человек заканчивает работу, вся его одежда становится зеленой. Я попытался передать это, сделав места, куда оседает пыль, посветлее, но, мне кажется, у меня не больно-то получилось.
– Ничего удивительного, – утешил его рабби, – никто не может нарисовать пыль. – И он принялся перелистывать блокнот с большей скоростью, дошел до конца и захлопнул. – Что ж, ты не напрасно побывал в Кентукки, не правда ли, молодой человек?
– Мне там очень понравилось!
И тут мой отец, уступивший раввину свое любимое кресло и молча просидевший на протяжении всего разговора на диване, поднялся с места и произнес:
– Пойду-ка я помогу Бесс. – Но прозвучало это как «Пойду-ка я выброшусь из окна».
– Евреи Америки, – поведал нам рабби уже за ужином, – отличаются от любой другой еврейской общины во всей истории человечества. Американские евреи – полноправные участники общественной жизни в своей стране. У них больше нет нужды прятаться за стеной гетто и жить как парии, отделенные от остальных и ими за это презираемые. Евреям нужна только смелость – подобная той, что проявил ваш сын Сэнди, – в одиночку, на собственный страх и риск, отправившись на летние сельхозработы в Кентукки. Я убежден в том, что Сэнди и другие еврейские мальчики вроде него, участвующие в программе «С простым народом», послужат образцами не только для еврейских детей на всей территории США, но и для каждого из взрослых евреев. И так думаю не я один: так думает, на такое надеется сам президент Линдберг.
Наша встреча внезапно вступила в самую опасную фазу. Я прекрасно помнил, как отец схватился в Вашингтоне с гостиничным администратором и грубияном-полицейским, – и при упоминании имени Линдберга в его собственном доме, да еще с таким почтением, он, по-моему, должен был наброситься на Бенгельсдорфа с кулаками.
Но рабби это рабби, и отец ничего не сделал.
Моя мать и тетя Эвелин подавали на стол – три перемены горячего, а затем «мраморный» кекс прямо из духовки. «Праздничную» еду мы ели «праздничными», то есть серебряными, вилками и ложками, к тому же не где-нибудь, а в столовой, где висел наш лучший ковер, стояла лучшая мебель и на стол была положена лучшая скатерть и где мы сами садились за стол только в самых торжественных случаях. С того места за столом, которое досталось мне, видны были фотографии усопших родственников, выставленные на буфет, превратившийся таким образом в своего рода домашний алтарь. Здесь красовались оба мои дедушки, бабушка с материнской стороны, тетя с материнской стороны и двое дядей, одним из которых был дядя Джек, отец Элвина и любимый старший брат моего отца. Произнесение Бенгельсдорфом имени Линдберга повергло меня в смятение, так и не исчезнувшее до конца ужина. Конечно, рабби это рабби, но мой кузен Элвин находится на излечении в канадском госпитале в Монреале и учится ходить на искусственной ноге после того, как в схватке с Гитлером лишился собственной, – а меж тем в нашем доме, где мне обычно разрешали надевать все что угодно, кроме праздничного костюмчика, сейчас я должен был щеголять именно в нем, да вдобавок и в галстуке, чтобы произвести хорошее впечатление на раввина, который помог стать президентом личному другу Гитлера. Как же мне было не прийти в смятение, когда наша слава и наше бесчестье оказались столь неразрывно связаны? Что-то жизненно важное было уничтожено и утрачено, мы перестали быть стопроцентными американцами, какими были раньше, – и все же при свете хрустальной люстры в дорогой и приберегаемой для особых случаев обстановке мы ели приготовленное моею матерью жаркое в обществе первой знаменитости, которая соблаговолила посетить наш дом.
Словно для того чтобы смутить меня еще больше и заставить заплатить полную цену за противоречивые мысли, Бенгельсдорф ни с того ни с сего заговорил об Элвине, о котором оказался наслышан от тети Эвелин.
– Я сочувствую вашему горю. И приношу вам глубокие соболезнования. Эвелин рассказала мне, что после выписки из госпиталя ваш племянник у вас поселится. Я не сомневаюсь, что вы понимаете, в какую ярость может прийти человек, получивший такое увечье в столь раннем возрасте. От вас потребуются выдержка и терпение не только на то, чтобы вернуть его к нормальной жизни, но чтобы его для начала на такое возвращение настроить. Его история особенно трагична, потому что никто не понуждал его пересечь границу и поступить на службу в канадскую армию. Элвин Рот по праву рождения гражданин США, а США ни с кем не воюют и воевать не собираются, они не требуют от своих граждан жертвоприношений – ни собственной жизнью, ни конечностями, они не хотят потерять ни одной живой души. Кое-кому из нас пришлось изрядно постараться, чтобы в нашей стране дело обстояло именно так. Мне довелось претерпеть множество нападок со стороны еврейской общины из-за участия в предвыборной кампании Линдберга в 1940 году. Но меня поддерживало мое глубокое отвращение к войне. Достаточно ужасно хотя бы то, что юный Элвин лишился ноги, сражаясь на европейском континенте, – сражаясь на войне, никак не затрагивающей ни безопасности Америки, ни благополучия ее граждан…
И он продолжил в том же духе, более или менее повторяя то, что сам же произнес на митинге на Мэдисон-сквер-гарден в поддержку незыблемого нейтралитета США, но я уже думал только об Элвине. Значит, он приедет к нам и у нас поселится? Я испытующе посмотрел на мать. Она ведь нам об этом и словом не обмолвилась. А когда он приедет? И куда его положат спать? Разве недостаточно того, что мы больше не живем в нормальной стране, как выразилась в Вашингтоне моя мать? Потому что теперь мы будем жить и в ненормальном доме. Близкое и неотвратимое будущее показалось мне настолько ужасным, что я чуть было не закричал: «Нет! Элвин не может жить с нами! Он же одноногий!»
Я так разволновался, что пропустил тот момент, когда застолье в своей лицемерной роскоши подошло к концу и чаша терпения моего отца переполнилась. Каким-то образом ему в конце концов удалось перетянуть одеяло на себя; при всем выставленном напоказ величии Бенгельсдорфа и в полном сознании собственного ничтожества, он, постепенно накалившись, закипел, как чайник, из носика которого повалил пар, – одним словом, он закусил удила.
– Гитлер, – услышал я внезапно его голос, – это вам, раввин, не какой-нибудь заурядный диктатор. И войну этот безумец затеял не такую, какие человечество привыкло вести за последнюю тысячу лет. Такой войны на нашей планете еще не было! Он завоевал Европу. Он воюет с Россией. Ночь за ночью он бомбит Лондон – и превращает его в руины, и убивает сотни ни в чем не повинных горожан. Он самый злобный антисемит, какого когда-либо рождала мать. И тем не менее наш президент дружит с ним и верит ему на слово, когда Гитлер говорит, будто они пришли к взаимопониманию. Гитлер уже приходил к взаимопониманию с русскими – и где теперь Россия? Гитлер уже приходил к взаимопониманию с Чемберленом – и где теперь Англия? Гитлер хочет завоевать весь мир, а значит, он не пощадит и Америки. А поскольку повсюду, куда он приходит, первым делом уничтожают евреев, в урочный час, нагрянув к нам, он станет уничтожать евреев и здесь. И как тогда поступит наш президент? Защитит нас? За нас заступится? Да он и пальцем не шевельнет. Вот к какому взаимопониманию Линдберг с Гитлером пришли в Исландии, и всякий взрослый человек, который верит, будто это не так, просто-напросто сошел с ума!
Рабби Бенгельсдорф выслушал внимательно, не выказывая признаков нетерпения и словно бы соглашаясь по меньшей мере с частью отцовской аргументации. Только моему брату, судя по всему, было трудно сдерживать свои чувства, и, когда отец, говоря о Линдберге, с нескрываемым презрением назвал его нашим президентом, Сэнди, повернувшись ко мне, состроил такую гримасу, что мне стало ясно, как сильно он сошел с семейной орбиты – хотя бы потому, что, подобно большинству обыкновенных американцев, проникся полной симпатией к новой администрации. Моя мать сидела по правую руку от мужа, стиснув его кисть в своей, хотя я и не понимал, почему, – показать, как она им гордится, или, наоборот, призвать успокоиться. Что же до тети Эвелин, то она, разумеется, была на стороне раввина и слушала только его, пряча собственные чувства за маской напускного безразличия, пока сумасбродный муж ее сестры со своей смехотворной риторикой нагло атаковал выдающегося ученого, который владеет десятью языками.
Бенгельсдорф не бросился в контратаку немедленно, а взял многозначительную паузу, тщательно продумывая победоносный ответ.
– Буквально вчера утром я был в Белом доме и разговаривал с президентом. – И тут он отхлебнул воду из стакана, давая нам возможность проникнуться надлежащим благоговением. – Я поздравил его со значительным успехом, которого он добился в деле преодоления недоверия со стороны американского еврейства – недоверия, восходящего еще к концу тридцатых, когда он неоднократно бывал в Германии с секретной миссией собрать сведения о немецких ВВС по заданию американского правительства. Я сообщил ему, что значительное число моих собственных прихожан, ранее голосовавших за Рузвельта, сейчас являются его горячими поклонниками и питают к нему благодарность за то, что он сумел обеспечить наш нейтралитет и избавил тем самым страну от ужасов участия в еще одной мировой войне. Я сказал ему, что программа «С простым народом» и другие начинания того же рода постепенно убеждают американское еврейство в том, что он ни в коем случае не настроен по отношению к моим соплеменникам и единоверцам враждебно. Конечно, прежде чем стать президентом, он позволял себе некоторые высказывания, укладывающиеся в рамки антисемитских клише. Но тогда он был просто-напросто недостаточно информирован и сейчас признает это сам. Я рад сообщить вам, что мне хватило двух-трех встреч с глазу на глаз с президентом, чтобы развеять его предубежденность и дать ему адекватное представление обо всех сторонах жизни евреев в Америке. Он ведь ни в коем случае не злодей. Он человек колоссального природного ума и честности, не говоря уж о незаурядном личном мужестве, и ему, как он сам осознает, нужна моя помощь, чтобы преодолеть барьеры невежества и взаимонепонимания, отделяющие христиан от евреев, а евреев – от христиан. А поскольку это невежество широко распространено и в еврейских кругах и многие упорствуют в заблуждении, будто президент Линдберг – это американский Гитлер, прекрасно осознавая при этом, что он отнюдь не диктатор, захвативший власть в результате путча, а демократически избранный лидер нации, с подавляющим преимуществом одержавший победу по всей стране и не давший ни единого повода заподозрить его в пристрастии к авторитарному стилю правления. Он не жертвует интересами частных лиц во имя величия государства, но, ровно наоборот, всячески поощряет творческий индивидуализм и свободное предпринимательство, избавив их от мелочной опеки со стороны федерального правительства. Где у нас присущая фашизму великодержавность? Где у нас характерные для фашизма гонения на инакомыслящих? Где коричневорубашечники и гестапо? Или наше правительство хоть раз позволило себе антисемитский жест в сугубо фашистском духе? То, как Гитлер обошелся с немецкими евреями, издав в 1935 году так называемые Нюрнбергские законы, представляет собой полную противоположность поведению Линдберга по отношению к американским евреям, нашедшему красноречивое выражение в создании департамента по делам нацменьшинств. По Нюрнбергским законам евреи лишаются гражданских прав, отторгаются от общенародной массы и превращаются в каких-то изгоев. А я уговорил президента Линдберга приложить максимум усилий к тому, чтобы включить евреев в общенародную жизнь в той мере, в которой они сами этого захотят, – а вы ведь не станете спорить с тем, что благами и прелестями общенародной жизни мы пользуемся ничуть не в меньшей степени, чем все остальные.
Столь хорошо продуманная и насыщенная инсайдерской информацией речь никогда еще не звучала у нас за столом, да и, скорее всего, во всем еврейском квартале, – и тем поразительней было услышать из уст моего отца, когда рабби в завершение своего монолога обратился к нему по-доброму, можно сказать, ласково, со словами: «Ну что, Герман, удалось мне рассеять ваши страхи?», категорический ответ: «Нет! Ни в коем случае! Ни на мгновение!» И тут отец, вроде бы желая загладить собственную вину, совершил новую и еще более серьезную промашку, не только оскорбив властного раввина, но и, скорее всего, пробудив в нем мстительное чувство:
– А когда такой человек, как вы, рассуждает подобным образом, мне становится еще страшнее!
На следующий вечер тетя Эвелин позвонила нам и захлебывающимся от волнения голосом сообщила, что из ста еврейских мальчиков из штата Нью-Джерси, принявших прошедшим летом участие в программе «С простым народом», выбран один-единственный «вербовщик», которому предстоит уже в качестве заслуженного ветерана убеждать подростков и их родителей в преимуществах, предоставляемых программой департамента по делам нацменьшинств, и призывать к этой программе присоединиться, – и это наш Сэнди! Такова оказалась месть раввина моему отцу. Его старший сын теперь превратился во внештатного сотрудника новой администрации.
Вскоре после того, как Сэнди начал на долгие часы пропадать в офисе департамента у тети Эвелин, моя мать оделась как можно наряднее – в серый жакет от хорошего портного и в юбку в бледную полосу (ранее она надевала их лишь председательствуя на заседаниях родительского комитета или присутствуя в роли наблюдателя на избирательном участке, обосновавшемся на первом этаже нашей школы) – и отправилась на поиски работы. За ужином она объявила нам, что устроилась продавщицей в большой магазин дамской одежды «Хан», расположенный в центре города. Наняли ее пока временно – на период предпраздничного ажиотажного спроса, – и работать ей предстояло шесть дней в неделю, а в среду – еще и вечером, но она, будучи опытной офисной секретаршей, надеялась, что через пару-тройку недель ее переведут на административный этаж, а после Рождества и вовсе возьмут на постоянную работу. Сэнди и мне она объяснила, что ее зарплата пойдет на дополнительные расходы, связанные с поселением в нашем доме Элвина, тогда как на самом деле она решила (но поставила об этом в известность лишь мужа) откладывать деньги на черный день на банковский счет в Монреале – в предвидении того, что нам, скорее всего, придется эмигрировать в Канаду.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?