Читать книгу "Заговор против Америки"
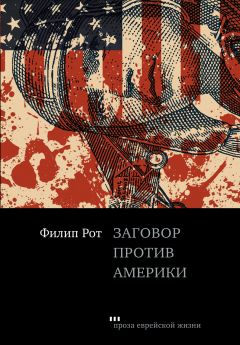
Автор книги: Николь Краусс
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Беснование. Достигшее апогея. Слово предоставляется самому Линдбергу. И, словно бы внезапно превратившись в полупаралитика, отец с трудом протягивает руку к приемнику и выключает радио как раз в тот миг, когда мать, преодолев себя, возвращается в гостиную.
– Кто-нибудь чего-нибудь хочет? – спрашивает она, и в глазах у нее стоят слезы. – Элвин, может быть, чаю?
Она удерживала наш мир, не давая ему распасться, удерживала спокойно и вместе с тем деликатно; это придавало ее существованию смысл и бытию – полноту, и, строго говоря, ей не нужно было ничего другого, – и все же никто из нас еще не видел ее – за всегдашними материнскими хлопотами – столь жалкой и в чем-то даже смешной.
– Что происходит? – взорвался отец. – Какого черта он это делает? Что за идиотство? Неужели он думает, будто найдется хоть один еврей, который, выслушав дурацкую речь, проголосует за этого антисемита? Он вообще знает, что делает?
– Кошерного Линдберга, – ответил Элвин. – Делает его кошерным для гоев.
– Кошерным, кого? – Мрачная острота Элвина взбесила отца или, по меньшей мере, показалась ему неуместной. – Кого делает?
– Его притащили на трибуну не для того, чтобы он убедил евреев. Это им ни к чему. Неужели тебе не ясно? – Элвин и сам разозлился, преисполнившись решимости вскрыть подноготную происходящего. – Он обращается к гоям. Он дает гоям свое личное раввинское благословение в день выборов проголосовать за Линди. Неужели ты не понимаешь, дядя Герман, зачем им понадобился Бенгельсдорф. Он только что обеспечил поражение Рузвельта!
Той ночью, около двух часов, я опять во сне свалился с кровати, но на этот раз запомнил, что снилось мне перед тем, как я очутился на полу. Это был кошмар, вертящийся вокруг моей коллекции марок. Что-то с нею стряслось. Рисунок двух серий изменился самым чудовищным образом, причем я не понимал, когда это произошло и почему. Во сне я снял альбом с полки и отправился с ним домой к своему другу Эрлу, что и наяву случалось чуть ли не каждый день. Эрлу Аксману было десять лет, он учился в пятом классе и жил вдвоем с матерью в четырехэтажном многоквартирном кирпичном доме, построенном всего три года назад на большом пустыре неподалеку от скрещения Ченселлор и Саммит, наискосок от начальной школы. Перед тем как переехать сюда, он жил в Нью-Йорке. Его отец был саксофонистом и играл в оркестре «Каса Лома» у Глена Грея. Си Аксман играл на теноре, а Глен Грей – на альте. Родители Эрла были разведены. Его мать, похожая на артистку ослепительная блондинка, и впрямь какое-то недолгое время – перед тем как Эрл появился на свет, – пела с тем же оркестром и, как утверждали мои родители, была родом из Ньюарка – натуральная брюнетка, евреечка по имени Луиза Свиг, отправившаяся завоевывать Саут-сайд и стяжавшая небольшую славу, выступая на вечерах YMHA[2]2
Ассоциация молодых иудеев.
[Закрыть]. Изо всех мальчиков, кого я знал, только у Эрла родители были в разводе, и только его мать сильно красилась, носила открытые блузки и пышные гофрированные юбки. Еще с оркестром Грея она записала песню «Будь такой или сякой» – и Эрл часто наигрывал мне эту мелодию. Матерей, похожих на нее, я просто-напросто не встречал. Эрл никогда не называл ее мамой или мамочкой, а совершенно непристойно – Луизой. У нее в спальне был полный комод нижнего белья, и когда мы с Эрлом оставались у него дома одни, он мне все показывал. Даже подбивал потрогать, видя мою нерешительность, «все, что хочется». Это были нижние юбки, но из другого ящика он извлек и лифчики и протянул их мне пощупать, но я отказался. Я был еще настолько мал, что мог восхищаться лифчиками на расстоянии. Отец с матерью каждую неделю давали Эрлу доллар на марки, а когда оркестр «Каса Лома» отправлялся на гастроли, мистер Аксман слал сыну письма с гашеными авиамарками буквально отовсюду. Одна из них была даже из Гонолулу, где мистера Аксмана, как утверждал Эрл, который был не прочь прихвастнуть подвигами постоянно находящегося в отсутствии отца (как будто сама по себе судьба сына страхового агента, ставшего саксофонистом в знаменитом оркестре и взявшего в жены крашеную блондинку-певицу, была для этого недостаточным поводом), пригласили в частный дом полюбоваться так и не пущенной в обращение «миссионерской» гавайской маркой 1851 года достоинством в два цента, которая была отпечатана за сорок семь лет до того, как Соединенные Штаты аннексировали Гавайи, и являлась баснословным сокровищем – сто тысяч долларов! – хотя внешне и не представляла собой ничего особенного: незамысловатое изображение цифры 2 – и не более того.
У Эрла была лучшая коллекция марок в округе. Все практические навыки и определенные эзотерические познания о марках, приобретенные мною в детские годы, почерпнуты у него: сведения по истории, коллекционирование вышедших из употребления матриц, чисто технические вопросы бумаги, печати, цвета, клея, гашения и спецгашения, искусство фальсификации, нечаянные изъяны. Причем Эрл, будучи по натуре педантом, начал мое обучение с рассказа о французском филателисте мсье Эрпене, который придумал и ввел в обиход сам термин «филателия», образовав его из двух древнегреческих слов, второе из которых – ateleia – означает освобождение от налогов, – тонкость, которой я так толком и не понял. Но каждый раз, когда мы, сидя у него на кухне, заканчивали возиться с марками, он тут же отбрасывал напускную важность и, захихикав, предлагал: «А теперь давай устроим что-нибудь гадкое!» Именно под предлогом этих «гадостей» меня и ознакомили с нижним бельем его матери.
Во сне я отправился к Эрлу, прижимая альбом к груди, и тут кто-то выкрикнул мое имя и пустился за мной в погоню. Я свернул на дорожку, ведущую к гаражам, чтобы спрятаться и проверить, не выпали ли из альбома какие-нибудь марки, пока я бежал от преследователя, спотыкаясь и даже однажды выронив альбом, – причем как раз в том месте на тротуаре, где мы регулярно играли в «Объявление войны». Дойдя до серии «Джордж Вашингтон» 1932 года выпуска – двенадцать марок с номинацией по возрастающей от темно-коричневой марки за полцента до ярко-желтой за десять, – я просто обомлел. Неизменной осталась надпись вверху каждой марки (я уже знал, как называется шрифт, которым она была набрана) – «Почтовая служба США», напечатанная попеременно то в одну строчку, то в две. Не изменился и цвет марок: двуцентовая осталась красной, пятицентовая – синей, восьмицентовая – оливково-зеленой и так далее. Все марки остались прежних размеров, и рамки, каждый раз разные, в которые были вставлены портреты, были теми же самыми. Но вместо двенадцати разных портретов Джорджа Вашингтона, как это было в оригинальной версии, со всех двенадцати марок на меня смотрел один и тот же портрет – причем не Вашингтона, а Гитлера. Да и подпись на орденской ленточке под каждым портретом гласила вовсе не «Джордж Вашингтон». Одни ленточки загибались концами книзу – как на полуцентовой марке и на шестицентовой, другие – кверху, как на четырех– пяти-, семи– и десятицентовой, третьи представляли собой прямую линию: центовая, полуторацентовая, двух-, трех– восьми– и девятицентовая, – но на каждой из них было написано «Гитлер».
Но когда я взглянул на первую страницу альбома, где у меня была серия из десяти марок 1934 года «Национальные парки», чтобы посмотреть, не случилось ли что-нибудь и там, я закричал, свалился с кровати на пол и проснулся. «Йосемити» в Калифорнии, «Гранд-каньон» в Аризоне, «Меса-Верде» в Колорадо, «Крейтер-Лейк» в Орегоне, «Акадия» в Мэне, «Маунт-Рейнир» в Вашингтоне, Йеллоустонский национальный парк в Вайоминге, «Зайон» в Юте, «Глейшер» в Монтане, «Грейт-Смоки-Маунтинс» в Теннесси – и на каждой марке прямо поверх гор, лесов, рек, горных пиков, гейзеров, кратеров, скалистых берегов, темно-синих вод и пенистых водопадов, поверх всего, что считалось в Америке самым синим, самым зеленым, самым белым, а потому нуждалось в неусыпной защите, теперь была напечатана черная свастика.
2. Еврейский болтун
Ноябрь 1940 – июнь 1941
В июне 1941 года, ровно через шесть месяцев после инаугурации Линдберга, мы всем семейством отправились за три сотни миль в Вашингтон, округ Колумбия, – посетить исторические места и знаменитые административные здания. Моя мать два года копила на эту поездку по доллару в неделю на так называемом «рождественском» счете в сберегательном банке Хауарда, выкраивая деньги из семейного бюджета. Путешествие было задумано еще в тот период, когда в Белом доме досиживал второй срок ФДР и демократы контролировали обе палаты парламента; теперь же, когда к власти пришли республиканцы, а вновь избранный президент казался нам врагом и изменником, перед поездкой вспыхнул небольшой семейный спор на тему о том, не изменить ли ее маршрут и не отправиться ли, например, на север – полюбоваться Ниагарскими водопадами, поплавать на лодочке по протокам вокруг Тысячи островов в устье реки Св. Лаврентия, а потом поехать на машине в Канаду и побывать в Оттаве. Кое-кто из наших друзей и соседей уже поговаривал о том, чтобы перебраться в Канаду в том случае, если политика администрации Линдберга станет откровенно антисемитской, и таким образом поездка в Канаду приобрела бы характер рекогносцировки на месте, которое может впоследствии оказаться спасительной гаванью. Еще в феврале мой двоюродный брат Элвин уехал в Канаду, намереваясь поступить на службу в тамошнюю армию, и значит, говоря его собственными словами, вступить на стороне англичан в схватку с Гитлером.
До своего отъезда Элвин на протяжении семи лет жил как бы под опекой моих родителей. Его покойный отец приходился моему самым старшим из братьев, и умер он, когда сыну было всего шесть, а мать Элвина – троюродная сестра моей матери и к тому же женщина, познакомившая моих родителей друг с другом, – умерла, когда ему было тринадцать, так что четыре года он просто-напросто прожил у нас, учась в «Виквахик хай-скул», – смышленый мальчик, играющий в азартные игры и крадущий все, что плохо лежит, которого моему отцу предстояло наставить на путь истинный. В 1940 году Элвину уже исполнился двадцать один год, он жил в меблированных комнатах на втором этаже над магазином на Райт-стрит, торгующим гуталином и кремом для обуви, – прямо за углом от продуктового рынка, – и уже почти два года работал в «Штейнгейм и сыновья» – то есть в одной из двух самых крупных строительных фирм города из числа тех, что принадлежали евреям (во второй такой фирме хозяйничали братья Рахлины). Работу Элвину дал Штейнгейм-старший – учредитель и основатель, страхованием бизнеса которого на регулярной основе занимался мой отец.
Старик Штейнгейм, говоривший по-английски с сильным акцентом и не умевший на этом языке читать, но отлитый, как говорил мой отец, «из чистой стали», до сих пор по субботам отправлялся в местную синагогу. Несколько лет назад, на Йом Кипур, увидев около синагоги моего отца с Элвином, он, ошибочно приняв моего двоюродного брата за родного, воскликнул: «А чем это вы занимаетесь, молодой человек? Если ничем, то идите работать к нам!» И Эйб Штейнгейм, один из «сыновей», превративший маленькую строительную фирму своего отца-иммигранта в крупную компанию с многомиллионным оборотом (правда, не без жестокой междуусобной войны, по итогам которой два его брата оказались вышвырнуты на улицу), с симпатией отнесся к крепкому и широкоплечему Элвину, из которого так и перла самоуверенность, и вместо того чтобы отправить его делопроизводителем или письмоводителем в контору, сделал своим личным шофером и порученцем: Элвин то передавал на места приказы и распоряжения Эйба, то возил его самого с одной стройки на другую проверять субподрядчиков, которых он именовал не иначе как жуликами, хотя, по рассказам Элвина, главным жуликом был сам Эйб, умеющий обмануть каждого и извлечь выгоду из любой ситуации.
Летом каждую субботу Элвин возил своего шефа во Фрихолд, где у Эйба было полдюжины рысаков, которых он называл «гамбургерами». «Сегодня наш гамбургер бежит во Фрихолде», – говорил он, и они отправлялись на бега, причем лошади Эйба обязательно приходили последними. Они никогда не выигрывали, а ему и не надо было призов. Его лошади по субботам выходили на беговую дорожку в Виквахик-парк, чтобы он мог с позиций «Роуд хорс ассошиейшн» рассуждать в своих интервью о необходимости возрождения традиций некогда славного ипподрома «Маунт-холл», и таким образом ему удалось стать комиссаром испытаний рысистых лошадей штата Нью-Джерси, ездить со значком, с сиреной и парковаться где угодно. Через это же он закорешился с окружным начальством и сделался известным всем любителям бегов на побережье, уол-тауншипские и спринг-лейкские гои открывали перед ним двери своих элитных клубов, где, как Эйб рассказывал Элвину: «Не были ни одного, кто бы удержался от того, чтобы шепнуть приятелю: “Вы только полюбуйтесь на этого”, однако выпить и закусить за мой счет никто не побрезговал», а у него еще на причале Шарк-ривер был катер для морской рыбалки, с матросами, которые вам рыбу поймают и разделают, и он, видно, знал, кого приглашать на рыбалку, потому что если кому-нибудь приходило в голову поставить новый отель на берегу между Лонг-Бранчем и Пойнт-Плезантом, то мигом выяснялось, что этот участок уже купил Эйб Штейнгейм, причем по дешевке. Словом, Эйб был так же умен, как его папаша, всегда полагавший, что покупать надо за гроши, а продавать втридорога.
Раз в три дня Элвин возил своего шефа за четыре квартала на Брод-стрит, 744, в парикмахерскую и табачный магазин, где Эйб покупал себе сигары по полтора доллара за штуку и презервативы. В этом здании, кстати, одном из двух самых высоких в Нью-Джерси, на верхних двадцати этажах размещался Ньюаркский и Эссекский национальный банк, а ниже – конторы престижных адвокатов и финансистов, словом, все самые серьезные и богатые джентльмены штата были клиентами этой парикмахерской, и в обязанности Элвина входило заранее предупреждать парикмахера о времени визита Эйба, чтобы тот был готов принять его без очереди. И в тот день, когда Эйб Штейнгейм пригласил на работу Элвина, за ужином отец сказал нам, что Эйб ярчайшая личность, прекрасный организатор и величайший строитель, который когда-либо был в Ньюарке.
– Он истинный гений, – заявил отец. – Только гений может добиться таких успехов. И красавчик какой. Блондин. Плотный, но не жирный. Одевается исключительно: верблюжье пальто, лаковые туфли, прекрасные сорочки, – все стильно. Выглядит превосходно. И прекрасная жена – ухоженная, образованная, урожденная Фрейлих, из тех, из нью-йоркских Фрейлихов, – с большими деньгами. Вот везет некоторым! Но у него хватка. Весь город знает, что самые немыслимые проекты – это для Штейнгейма. Он построит то, что никому не удастся. А Элвин у него будет учиться. Глядя на Эйба, он поймет, к чему надо стремиться в жизни.
Два раза в неделю отец с матерью приглашали Элвина к нам на ужин, скорей всего для того, чтобы, с одной стороны, он оставался под присмотром, с другой – чтобы не помер на одних сосисках. К счастью, Элвин не сидел за обедом с постной миной, выслушивая бесконечные поучения о том, что надо быть честным и работать не покладая рук, как было, когда он жил у нас и его уличили в воровстве на заправке, где он работал после школы, и отцу пришлось выложить денежки, чтобы отмазать Элвина от колонии для малолетних. Вместо этого они теперь спорили о политике, о капитализме, который Элвин, после того как отец приучил его читать газеты и слушать новости, всячески критиковал, а отец защищал, но не как член Национальной ассоциации промышленников, а как сторонник «Нового курса» президента Рузвельта.
– Только не ляпни при мистере Штейнгейме про Карла Маркса, – предупреждал отец, – иначе окажешься на улице. А ты для чего там работаешь? Чтобы у него учиться. Так вот, учись и относись с уважением, потому что с ним сделаешь карьеру.
Но Элвин терпеть не мог своего шефа и называл его не иначе как жуликом, скотиной, жмотом, сутягой, мерзавцем, вруном. Говорил, что у него нет друзей, потому что все от него разбегаются, и машина ему нужна, чтобы гоняться за ними по всему городу. Что с сыновьями он жесток, что ему неинтересны ни внук, ни тощая жена, которая, кстати, боится ему даже слово сказать, – если он не в духе, так ему человека унизить – раз плюнуть. Все они имеют квартиры в шикарном доме, который он выстроил себе под сенью дубов и тополей возле Упсальского колледжа в Ист-Ориндж. Сыновья работают на него, и он весь день орет на них в конторе, а вечером приезжает домой, садится на телефон и продолжает орать на них уже из дома. Главное для него – деньги, но не затем, чтобы тратить на всякую ерунду, а чтобы остаться на плаву при любом шторме: сохранить положение, не потерять сбережения и скупать по дешевке все, что подвернется, как во времена депрессии, когда он хорошо погрел руки. Деньги – чтобы делать деньги, чтобы сделать все деньги.
– Кое-кто удаляется от дел в сорок пять лет, заработав пять миллионов баксов. Пять миллионов в банке – это, считай, миллион годовых. И знаете, как реагирует на это Эйб? – Элвин обращается к моему двенадцатилетнему брату и ко мне. Ужин закончился, и он пришел в нашу комнату. Скинув обувь, мы валяемся на постели поверх одеял – Сэнди на собственной, Элвин – на моей, а я – пристроившись между его сильной рукой и широкой грудью. И лежать так – сущее блаженство: истории о жадности Штейнгейма, о его фанатическом рвении, о его витальности и экстравагантности, уравновешивающих друг дружку, – и, рассказывая эти истории, мой кузен и сам витален и экстравагантен; сколько бы ни приглаживал его ершистую натуру мой отец, Элвин как был, так и остается хулиганом и сумасбродом, и ему приходится – в двадцать один-то год – дважды в день сбривать со щек черную щетину, чтобы не походить как две капли воды на закоренелого преступника. Он рассказывает словно бы не о живых людях, а о хищных потомках гигантских обезьян, слезших с дерева и вышедших из чащи первозданного леса, чтобы, накинувшись на Ньюарк, заняться в этом городе бизнесом.
– Как реагирует на это мистер Штейнгейм? – интересуется Сэнди.
– Он говорит: «У мужика пять миллионов. Не больше и не меньше. А он в самом соку, и у него есть шанс заработать когда-нибудь пятьдесят, шестьдесят, а то и все сто миллионов. А он мне говорит: “Я вынимаю деньги из игры, Эйб. Я не такой, как ты. Я не намерен вкалывать до инфаркта. Я решил, что мне этого хватит и остаток своих дней я проведу, играя в гольф”». А что говорит про это Эйб? «Не человек, а кусок говна!» Каждому субподрядчику, который приходит в пятницу в офис, чтобы с ним рассчитались за бревна, стекло и кирпич, Эйб внушает: «Послушай-ка, мы сидим без денег – и это все, что я могу для тебя сделать», и платит ему половину, платит треть, платит, если почувствует в человеке слабину, только четверть, – а ведь деньги этим людям нужны на жизнь; но так вел себя старый Штейнгейм, и так ведет себя его сын. Строит столько домов, сколько может осилить, – и никто хотя бы разок не попытался его прикончить!
– А кому-нибудь хочется его прикончить? – спрашивает Сэнди.
– Да, – отвечает Элвин. – Мне!
– Расскажи нам про годовщину свадьбы, – подсказываю я.
– Годовщина свадьбы, – повторяет Элвин. – Да, он спел пятьдесят песен, наняв пианиста. – Эту историю Элвин рассказывает слово в слово каждый раз, когда я прошу его об этом. – Он поет, и никто не может вставить ни слова, никто даже не понимает, что происходит, гости весь вечер едят и пьют за его счет, а он стоит в смокинге у рояля и поет одну песню за другой, и когда гости собираются разойтись по домам, он по-прежнему у рояля, по-прежнему поет весь репертуар, который известен каждому; люди с ним прощаются, а он их не слушает, он продолжает петь.
– А он на тебя орет? – спрашиваю я у Элвина.
– На меня? Да он на всех орет! Куда ни приедет, тут же принимается орать. По воскресеньям с утра я вожу его к Табачнику. А там уже стоит очередь – человек на шестьсот. И он орет: «Пришел Эйб!» – и люди расступаются и пропускают его вперед. Сам Табачник мчится сломя голову из подсобки к прилавку, всех разгоняя по сторонам, потому что Эйб накупает провизии, наверное, на пять тысяч долларов, и мы едем к нему домой, а там миссис Штейнгейм, худышка, всего девяносто два фунта весом, но ей ведомо: не буди лихо, пока оно тихо, – и Эйб звонит сыновьям, всем троим, и ровно через пять секунд они уже тут как тут, – и вот четыре Штейнгейма накидываются на пищу и съедают столько, что хватило бы накормить и четыреста человек. Единственное, на чем он не экономит, это еда. Еда и сигары. Напомни ему про какую-нибудь продовольственную лавку – хоть того же Табачника, хоть Карцмана, – и он отправится туда, растолкает посетителей и скупит весь магазин. И они у себя по воскресеньям уплетают все подчистую, до последнего кусочка, – и осетрину, и говядину, и рогалики, и пикули, – а потом я везу его в офис, и он проверяет по записям, сколько квартир свободно, сколько снято, а сколько продано. И так семь дней в неделю. Без остановки. Без выходных. Без отпуска. Ничего не откладывай на завтра! – таков его девиз. Он просто сходит с ума, если узнает, что кто-нибудь потерял хоть минуту драгоценного рабочего времени. И не ложится спать, не установив наперед, что завтрашний день принесет ему еще больше сделок, а значит, еще больше денег, – и от всего этого меня просто тошнит. Для меня этот человек – не более чем ходячая антиреклама капитализма.
Мой отец называл жалобы Элвина ребячеством и советовал ему помалкивать на работе об этом – особенно после того, как Эйб решил, что пошлет Элвина в Ратгерский университет. «Ты слишком умен, чтобы оставаться идиотом», – сказал Эйб Элвину, а потом произошло нечто такое, на что мой, пусть и настроенный неизменно оптимистически, отец не мог даже надеяться. Эйб позвонил председателю попечительского совета университета и принялся орать на него: «Вы возьмете этого мальчика, где он закончит среднюю школу – неважно, это вообще не обсуждается, парень сирота и в перспективе гений, но вы еще и дадите ему полное обеспечение, а я за это выстрою вам новое здание, самое красивое в мире, – но, поверьте, я вам и общественного нужника не построю, если парень не попадет в университет на полном обеспечении!» А самому Элвину он сказал так: «Мне никогда не нравилось ездить с обыкновенным шофером, который работает водилой, потому что он идиот. Мне нравятся парни вроде тебя, чтобы у них и в голове что-то было. Ты будешь учиться в Ратгерсе и приезжать сюда на лето, и по-прежнему работать у меня шофером, а когда ты закончишь, мы сядем и потолкуем, что делать дальше».
Эйб решил, что в сентябре 1941 года Элвин отправляется в Нью-Брансуик и, проучившись четыре года в университете, возвращается в Ньюарк на какую-нибудь серьезную должность в компании, но вместо этого Элвин уже в феврале убыл в Канаду. Мой отец пришел в ярость. Перед отъездом Элвина они, ничего не говоря остальным, проспорили об этом несколько недель, и в конце концов Элвин, опять-таки даже не попрощавшись с нами, сел на прямой поезд Ньюарк – Монреаль.
– Я не понимаю твою мораль, дядя Герман. Ты не хотел, чтобы я стал вором, но отправил меня работать на вора.
– Штейнгейм не вор. Штейнгейм строитель. Он не делает ничего такого, что не делали бы другие строители, – сказал Элвину мой отец. – Просто само по себе строительство – это разбойный бизнес. Но его дома не падают, не так ли? И он не нарушает закон, не правда ли, Элвин?
– Нет, не нарушает. Он всего-навсего выжимает из трудящихся все соки. До капли. Я не знал, что твоя мораль одобряет это.
– Да плевал я на мораль, – ответил мой отец. – Весь город знает мою мораль. Но дело не во мне, а в тебе. Дело в твоем будущем. Речь идет об университетском образовании. О бесплатном четырехлетнем университетском образовании.
– О бесплатном, потому что он поставил раком ректора Ратгерса точно так же, как он ставит весь мир.
– Пусть об этом беспокоится ректор Ратгерса! Да что с тобой, парень? Ты что, всерьез хочешь убедить меня в том, будто нет на свете человека хуже, чем тот, что хочет дать тебе образование и предоставить место в собственной компании?
– Ну нет, худший человек на свете это, разумеется, Гитлер, и я уж лучше буду сражаться с этим сукиным сыном, чем тратить время на еврея вроде Штейнгейма, который позорит всю нашу нацию своим сраным…
– Послушай, не надо мне этих детских разговоров, да и без слова «сраный» я тоже обойдусь. Никого этот человек не позорит. Ты что же думаешь, было бы лучше, работай ты в строительной фирме у какого-нибудь ирландца? Валяй, пробуй, – поступи на службу к тому же Шенли, и ты увидишь, какой он милый. А что, итальянцы лучше, что ли? Штейнгейм чуть что – начинает орать, а итальянцы – стреляют.
– А что, Лонги Цвилман, по-твоему, не стреляет?
– Ради бога, я все знаю про Лонги Цвилмана, мы с ним с одной улицы. Но какое это имеет отношение к университету?
– Это имеет отношение ко мне, дядя Герман, я не хочу на всю жизнь становиться должником Штейнгейма. Или мало того, что он искалечил трех собственных сыновей? Мало того, что они обязаны проводить с отцом каждый еврейский праздник, и каждый День благодарения, и каждый Новый Год? И мне надо попасть в ту же сборную мазохистов под его началом? Все они работают в одной и той же конторе, живут в одном доме и мечтают тоже лишь об одном – дождаться его смерти и разделить имущество. Уверяю тебя, дядя Герман, горевать по нему они не будут!
– Ты ошибаешься. Ты крупно ошибаешься. Дело для них заключается не только в деньгах.
– Нет, это ты ошибаешься! Именно деньгами он их и держит. Он ведь совершенно сумасшедший, а они остаются при нем и терпят такое обращение исключительно из-за денег!
– Они остаются, потому что они его сыновья. Потому что члены семьи. В семьях всегда трудно. Жизнь в семье – это война и мир одновременно. Вот у нас с тобой прямо сейчас идет небольшая такая, чисто местная война. И я понимаю это. Я это принимаю. Но не вижу причины для тебя отказываться от университета, куда тебе так хотелось поступить, и прямо так, неотесанной дубиной, отправляться на войну с Гитлером.
– Ах вот как, – ответил Элвин, внезапно обратив гнев не только на работодателя, но и на старшего родственника и опекуна. – Значит, ты у нас изоляционист. Точно такой же, как Бенгельсдорф. Бенгельсдорф и Штейнгейм – они хорошая парочка!
– Парочка кого? – хмуро переспросил отец, чувствуя, что и сам теряет терпение.
– Еврейских жуликов!
– А-а! – сказал отец, – выходит, ты и против евреев?
– Против таких евреев! Против евреев, которые позорят евреев. Да, категорически против!
Спорили они четыре вечера подряд, а потом, на пятый, Элвин просто-напросто не пришел к нам ужинать, хотя идея заключалась в том, чтобы обрабатывать его ежевечерне, пока мальчик наконец не одумается, – тот самый мальчик, которого мой отец личными усилиями сумел превратить из отъявленного бездельника в гражданскую совесть всего семейства.
На следующее утро мы узнали от Билли Штейнгейма (который – единственный из сыновей Эйба – дружил с Элвином и оказался достаточно ответственным, чтобы первым делом позвонить известить семью) следующее: накануне вечером, в пятницу, получив конверт с последней зарплатой, Элвин швырнул ключи от «кадиллака» в лицо Эйбу и пошел прочь; а когда мой отец, услышав такое, примчался на машине на Райт-стрит, чтобы у самого Элвина выяснить, в какой мере тот ухитрился испоганить собственное будущее, владелец лавки, в которой продаются средства ухода за обувью, сообщил ему, что его жилец уже рассчитался, собрал пожитки и выехал на войну с самым омерзительным чудовищем, которое когда либо появлялось на свет. Вот так взял и уехал – не больше, но и не меньше.
Ноябрьские выборы нельзя было назвать даже схваткой более или менее равных противников. Из общего числа избирателей Линдбергу достались пятьдесят семь процентов голосов, а по выборщикам он и вовсе победил в сорока шести штатах, уступив ФДР только в двух – в родном для Рузвельта Нью-Йорке и (всего двумя тысячами голосов) в Мэриленде, многочисленное федеральное чиновничество которого отдало подавляющее преимущество действующему президенту при одновременной поддержке его примерно половиной традиционно голосующих за демократов южан, – успех, которого ему не удалось повторить нигде ниже линии Мэйсона – Диксона. И хотя на следующее утро после выборов преобладающим настроением было изумление и неверие – особенно среди тех, кто сам не поленился сходить на избирательный участок, – еще один день спустя все вроде бы всё поняли, и радиокомментаторы об руку с газетными колумнистами сделали вид, будто поражение Рузвельта было предрешено заранее. Главное с их стороны объяснение происшедшего сводилось к тому, что американцам не захотелось ломать традицию лимита в два президентских срока, введенного еще Джорджем Вашингтоном и не оспоренного за всю историю ни одним президентом, кроме Рузвельта. Более того, на выходе из Великой депрессии и стар и млад для поддержания уже наметившегося перелома к лучшему захотели увидеть в Белом доме сравнительно молодого и эффектно-спортивного Линдберга, а не обездвиженного в результате полиомиелита ФДР. И, конечно же, чудо воздухоплавания плюс новый образ жизни, который оно сулило: Линдберг, уже прославившийся как рекордсмен по беспосадочным перелетам, сможет со знанием дела увлечь за собой соотечественников в заоблачные дали, заверив их (и постоянно подкрепляя свои слова простым и открытым поведением в духе добрых старых времен) в том, что достижения современной науки и техники не отменят и не испортят добродетелей, чтимых встарь. Выяснилось, – к такому выводу пришли политаналитики, – что американцы двадцатого века, устав от необходимости преодолевать кризис каждые новые десять лет, истосковались по норме, тогда как Чарлз Э. Линдберг как раз и олицетворял норму, только увеличенную до героических масштабов, – порядочный человек с честным лицом и невыразительным голосом, который только что продемонстрировал всей планете решимость взять в руки бразды истории в столь судьбоносный час и, разумеется, доказал личное мужество, преодолев трагическую утрату единственного на тот момент ребенка. И если Линдберг пообещал, что войны не будет, значит, ее не будет, – подавляющему большинству все было просто и ясно.
Еще более тяжкими, чем сами выборы, стали для нас недели после инаугурации, когда новый президент США отправился в Исландию на личную встречу с Адольфом Гитлером и после двух дней «задушевных переговоров» подписал мирное соглашение между Германией и Америкой. Примерно по дюжине городов США прокатились демонстрации протеста против Исландского коммюнике; страстные речи были произнесены в обеих палатах парламента сенаторами и конгрессменами от демократов, которым удалось сохранить свои мандаты под триумфальным натиском республиканцев и которые сейчас проклинали Линдберга за сделку с фашистским извергом и убийцей, за переговоры с ним на равных и даже за само место встречи – северный остров, исторически связанный с демократической монархией, которую нацистские полчища уже смяли, что обернулось национальной трагедией для всей Дании – и для короля, и для его подданных, – и эту-то трагедию своим бестактным визитом в Рейкьявик Линдберг не только проигнорировал, но и усугубил.






























