Текст книги "Я не могу без тебя жить (стихотворения, поэмы)"
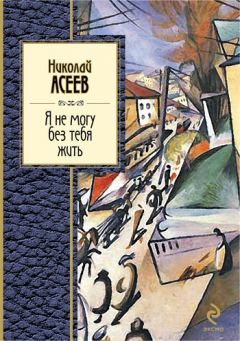
Автор книги: Николай Асеев
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Николай Николаевич Асеев
Я не могу без тебя жить
Путь в поэзию[1]1
Статья печатается с незначительными сокращениями.
[Закрыть]

Городок был совсем крохотный – всего в три тысячи жителей, в огромном большинстве мещан и ремесленников. В иной крупной деревне народу больше. Да и жили-то в этом городишке как-то по-деревенски: домишки соломой крытые, бревенчатые, на задах огороды; по немощеным улицам утром и вечером пыль столбом от бредущих стад на недальний луг; размерная походка женщин с полными ведрами студеной воды на коромыслах. «Можно, тетенька, напиться?» И тетенька останавливается, наклоняя коромысло.
Город жил коноплей. Густые заросли черно-зеленых мохнатых метелок на длинных ломких стеблях окружали город, как море. На выгоне располагались со своим нехитрым снаряжением свивальщики веревок; за воротами домов побогаче видны были бунты пеньки; орды трепачей, нанятых задешево бродячих людей, сплошь в пыли и кострике, расправляли, счесывали, трепали пеньку. Над городом стоял густой жирный запах конопляного масла – это шумела маслобойка, вращая решетчатое колесо. Казалось, что конопляным маслом смазаны и стриженные в кружок головы, и широкие расчесанные бороды степенных отцов города – почтенных старообрядцев, у которых на воротах домов блестел медный осьмиконечный крест. Город жил истовой, установленной жизнью.
Малый город, а старинный. Имя ему было Льгов; то ли от Олега, то ли от Ольги название свое вел; верно, был сначала Олегов или Ольгов, но со временем укоротилось слово – проще стало Льговом звать… Вот так и стоял этот старозаветный город, стараясь жить по старине. Прямо на конопляники выходил он одним краем, и на самом краю, упираясь в чащу конопли, стоял одноэтажный домик в четыре комнаты, где в конце июня 1889 года родился автор этих строк. Не очень отличалось мое детство от жизни десятков соседских ребят, босиком бегавших по лужам после грозового дождя, собиравших «билетики» от дешевых конфет, обложек папирос и пивных ярлыков. Это были меновые знаки разного достоинства. Но действительными ценностями считались лодыжки – выжаренные и выбеленные на солнце кости от вареных свиных ножек, продававшиеся парами. Но покупать их находилось охотников мало. Главное – это была игра в лодыжки. Любили и другие игры. Например, поход в конопли, которые представлялись нам заколдованным лесом, где живут чудовища… Так жил мальчонка провинциального города, не барчук и не пролетарий, сын страхового агента и внук фантазера – деда по матери Николая Павловича Пинского, охотника и рыболова, уходившего на добычу на недели в окрестные леса и луга. О нем я написал впоследствии стихи. О нем и о бабке Варваре Степановне Пинской, круглолицей молодой старухе, не утерявшей с годами своего обаяния, голубизны своих доверчивых глаз, энергии своих вечно деятельных рук.
Мать я помню плохо. Она заболела, когда мне было лет шесть, и к ней меня не пускали, так как опасались заразы. А когда я ее видел, она лежала всегда в жару, с красными пятнами на щеках, с лихорадочно сиявшими глазами. Помню, как возили ее в Крым. Меня взяли тоже. Бабушка не отходила от больной, а я был предоставлен самому себе.
На этом кончается детство. Потом идет ученичество. Оно не было красочным. Средняя школа давно описана хорошими писателями. Разницы здесь немного. Разве что наш француз отличался париком, а немец – толщиной. Но вот математик, он же и директор, запомнился тем, что преподавал геометрию, распевая теоремы, как арии. Оказывается, это было отголоском тех далеких времен, когда учебники еще писались стихами и азбуку учили хором нараспев.
И все же главным моим воспитателем был дед Николай Павлович. Это он мне рассказывал чудесные случаи из его охотничьих приключений, не уступавшие ничуть по выдумке Мюнхгаузену. Я слушал, разинув рот, понимая, конечно, что этого не было, но все же могло произойти. Это был живой Свифт, живой Рабле, живой Робин Гуд. Правда, о них я тогда не знал еще ничего. Но язык рассказов был так своеобразен, присловья и прибаутки так цветисты, что не замечалось того, что, может быть, это и не иноземные образцы, а просто родня того Рудого Панька, который так же увлекался своими воображаемыми героями.
Отец играл меньшую роль в моем росте. Будучи страховым агентом, он все время колесил по уездам, редко бывая дома. Но одно утро я запомнил хорошо. Был какой-то праздник, чуть ли не наш именинный день. Мы с отцом собирались к заутрене. Встали раным-рано, сели на крылечке дожидать первого удара колокола к службе. И вот, сидя на этом деревянном крылечке, глядя через конопляник на соседнюю слободу, я вдруг понял, как прекрасен мир, как он велик и необычен. Дело в том, что только что взошедшее солнце вдруг превратилось в несколько солнц – явление в природе известное, но редкое. И я, увидав нечто такое, что было сродни рассказам деда, а оказалось правдой, как-то весь затрепетал от восторга. Сердце заколотилось быстро-быстро.
– Смотри, папа, смотри! Сколько солнц стало!
– Ну что ж из этого? Разве никогда не видал? Это – ложные солнца.
– Нет, не ложные, нет, не ложные, настоящие, я сам их вижу!
– Ну ладно, гляди, гляди!
Так я и не поверил отцу, а поверил в деда.
Учение кончилось, вернее оборвалось: уехав летом 1909 года в Москву, я скоро перезнакомился с молодежью литературного толка; а так как стихи я писал еще учеником, то и в Коммерческом институте мне было не до коммерции, и в Университете, куда я поступил вольнослушателем, – не до вольного слушания. Мы стали собираться в одном странном месте. Литератор Н. Шебуев издавал журнал «Весна», где можно было печататься, но гонорара не полагалось. Там я познакомился со многими начинающими, из которых помню Вл. Лидина; из умерших – Н. Огнева, Ю. Анисимова. Но не знаю, каким именно образом случай свел меня с писателем С. Бобровым, через него с поэтом Борисом Пастернаком. Пастернак покорил меня всем: и внешностью, и стихами, и музыкой. Через Боброва я познакомился и с Валерием Брюсовым, Федором Сологубом и другими тогдашними крупными литераторами. Раза два бывал в «Обществе свободной эстетики», где все было любопытно и непохоже на обычное. Однако все эти впечатления первого знакомства заслонило вскоре иное. Это была встреча с Владимиром Маяковским. Здесь не место воспоминаниям: о Маяковском я написал особо. Но со времени встречи с ним изменилась вся моя судьба. Он стал одним из немногих самых близких мне людей; да у него не раз прорывались мысли обо мне в стихах и в прозе. Наши взаимоотношения стали не только знакомством, но и содружеством по работе. Маяковский всегда заботился о том, как я живу, что я пишу.
Возвращаясь несколько назад, хочу рассказать о первых своих шагах в литературе. Увлекаясь поэзией с малых лет, я обычно читал те стихи, которые помещались в сборниках, так называемых «Чтецах-декламаторах». Они издавались со множеством имен авторов, так или иначе известных в то время. Публика привыкала к именам Башкина и Мазуркевича, поэтов мало прославившихся, но часто печатавшихся. Мне нравились в этих сборниках стихи. А.К. Толстого, очень популярного тогда поэта-русофила, обращавшегося к темам Древней Руси, к славянским сюжетам. В его стихах воспевалась удаль и молодечество наших дедов, богатырские подвиги предков. В них, однако, по-своему трактовались и смешные стороны старинных дьяков и бояр, иногда прямо обличающие взяточничество и лихоимство; сквозь эти давние повадки просвечивало порой обличение современных поэту порядков. Легкие, плясовые ритмы стихов А. К. Толстого, их необычное содержание вызывали желание самому попробовать писать нечто похожее, веселое, буйное и задевающее. Так началась тяга к славянщине, к летописям, к истории слова. Немало сделало чтение гоголевского «Тараса Бульбы», «Страшной мести», навсегда ставших для меня образцами поэзии. Пушкина я воспринимал недостаточно чутко; Лермонтов казался мрачным и недоступным; да и Гоголь пленял пока еще только фантастичностью своих описаний. Все это относится к годам юности; однако нужно сказать, что именно тогда происходило становление моего литературного вкуса и понимания читаемого, хотя я по-прежнему декламировал самому себе строчки Мазуркевича о том, что: «Так солгать могла лишь мать, полна боязни, чтоб сын не дрогнул перед казнью!» Меня увлекало это придуманное и приукрашенное геройство, как нравится всем юношам преувеличенное и приумноженное чувство гражданского подвига.
Другим характерным ощущением было расставание с понятием о боге. Уже сознавая, что божества всех времен созданы человеческой фантазией, я все еще не мог представить, что остается взамен от этого понятия. Бога нет – это ясно; но что же есть? Человек – это я вижу и знаю; но человек ведь смертен и, значит, преходящ, как все земное. А что же не преходит века и века? Ведь должно же быть нечто, не уничтожаемое временем! Эти размышления и сомнения создавали те стихи, которые характерны для начала моего творчества. Это были богохульные, с точки зрения религии, произведения, но это все-таки были стихи о боге, и они могут вызвать недоумение у читателя. «Торжественно» (1915), «Объявление» (1915), «Скачки» (1916), «Откровение» (1916) и целый ряд других стихотворений свидетельствуют о борениях и сомнениях незрелого еще разума, но полного искреннего желания разобраться в неведомом.
К этому надо добавить славянские тексты летописей, проглатываемых мною, как белка проглатывает раскушенный орех, – а ведь в этих текстах были заложены основы поэзии. Так создавались стихи о запорожцах-ворогах («Звенчаль», 1914), о смерти Андрия Бульбы («Песня Андрия», 1914), о старине и родине, расступавшейся перед мысленным взором необычайными просторами своих сказаний, вымыслов, преданий, подлинных событий. Так формировался вкус и симпатии.
Об этом я должен рассказать читателю, которому иначе не все будет ясно, особенно в некоторых стихах первого тома, моих ранних вещах. В них главным для меня был поиск своего стиха, своего способа высказаться. Отсюда – недомолвки и нелогические возгласы стиха, которому нащупывался путь в будущее. Мне хотелось своих слов, своих, неизбитых выражений чувств – и вот рождались и слова, и отдельные сочетания их, непохожие на общепринятые: «леторей», «грозува», «шерешь», «сумрова», «сутемь», «порада», «сверкаты», «повага», «дивень», «лыба», – все слова из летописей и старинных сказок, которые хотелось обновить, чтобы наряду с привычными, обиходными – зазвучали они, забытые, но так сильно запоминаемые своими смысловыми оттенками. Так прошел первый период учебы у летописей, у старинного говора орловско-курских речений, которыми в совершенстве владел мой дед.
Потом подошла империалистическая война. В 1915 году меня забрали в армию. Попав в полк, я в солдатской среде стал лицом к лицу с народным характером и настроением. Там не было «патриотов», да и самое слово-то было почти ругательным. К патриотизму призывали командиры среднего состава, обучавшие солдат, да генералы во время смотров. В самой же серошинельной массе это слово произносилось разве что издевательски. Почему так случилось? Во-первых, потому, что официальный язык газет и плакатов был чужд сердцам солдат; а во-вторых, потому, что и слова-то такого в обиходном разговоре не существовало. Царская война была непопулярна в народе, с фронта поступали известия о недостаче снарядов, обмундирования, продовольствия. Ходили слухи об измене среди высших чинов. Фамилия Мясоедова все чаще упоминалась в солдатском разговоре. Какие уж тут патриотические чувства! Империя готова была рушиться. Защищать ее охотников становилось все меньше. А понятия «родина», «отечество» связывались именно с царизмом, с дворянским и капиталистическим строем. Среди солдат отсутствовали героические настроения в защиту того, что явственно упало в своем бывшем величии.
Видимо, поэтому и стало у меня в стихах появляться сознание этого «солдатского» настроения.
Меняем прицел небосвода
на сумерки: тысячу двадцать!
Не сердцу ль чудес разорваться,
а линией черного года?
Так писал я тогда в стихотворении «Боевая сумрова» (1915), представляя будущее, которое придет в результате обстрела времени, в результате разрушения черного года войны. Конечно, это было мало понятно даже и самому автору. Но солдатам как-то было доступно. Может быть, только потому, что в их среде нашелся поэт. А может быть, и потому, что сердцем они чувствовали гнев и ненависть к переживаемому и надежду на будущее, когда разорвется чудо грядущего дня. Но всего не объяснишь в прозе. Тогдашние стихи мои о войне, во всяком случае, не восхваляли ее.
Серп на ущербе притягивает моря,
и они взойдут на берег, шелками хлюпая.
Вот волн вам, их ропот покоряя,
привидится эскадра белотрубая.
Герб серба сорвала слишком грубая рука.
Время Европу расшвырять!
Это стихотворение называлось «Об 1915 годе». О чем оно? О предельной нелепице происходящего; о современниках, которым придется увидеть рушащиеся в огне здания, бесконечные бедствия войны, когда в моря выйдут эскадры изрыгать тяжелые снаряды, когда из-за ничтожного повода, спровоцированного на сербской земле, поднимется вся Европа, вовлекая в борьбу и нас, и Америку, и все народы. Читатель может спросить: но откуда же это все можно видеть в спотыкающихся от волнения, неразборчивых словах? Да, видеть этого, к сожалению, а вернее, к счастью, вновь нельзя. Но почувствовать тем сердечным волнением, которое пережил пишущий, мне кажется, можно. Если, разумеется, читатель внимателен к автору, к его усилиям передать неповторимое.
Война была в разгаре. В городе Мариуполе мы проходили обучение в запасном полку. Затем нас отправили в Гайсин, ближе к австрийскому фронту, чтобы сформировать в маршевые роты. Я подружился со многими солдатами, устраивал чтения, даже пытался организовать постановку сказки Льва Толстого о трех братьях, за что сейчас же был посажен под арест. Из-под ареста я попал в госпиталь, так как заболел воспалением легких, осложнившимся вспышкой туберкулеза. Меня признали негодным к солдатчине и отпустили на поправку, а на следующий год переосвидетельствовали и вновь послали в полк. Там я прослужил до марта 1917 года, когда был избран в Совет солдатских депутатов от 34-го стрелкового полка. Начальство, видимо, решило избавиться от меня и дало направление в иркутскую школу прапорщиков. Февральская революция не прошла для нас даром. На фронт наш полк идти отказался, и я с командировкой в Иркутск отправился на восток. «…Серая солдатская шинель выучила и образовала», – писал я позже о тех днях. И не поехал я в школу прапорщиков, а сел с молоденькой женой в вагон и двинулся до Владивостока, наивно полагая поехать будущей зимой на Камчатку.
Но Первая мировая война шла к концу. Началась Октябрьская революция. В ней нам, молодежи тех лет, увиделась перемена всего, что до сих пор считалось незыблемым и неопровержимым. Как же было не задохнуться от счастья, не колотиться сердцу от того, что мечталось и ожидалось. И стихи о революции писались, как рапорт народу:
Была пора глухая,
была пора немая,
но цвел, благоухая,
рабочий праздник мая.
Это был мой «Первомайский гимн» – гимн новому. Хлебников еще в апреле 1917 года писал о том, что:
Мы, воины, строго ударим
Рукой по суровым щитам:
Да будет народ государем
Всегда, навсегда, здесь и там!
И вот теперь народ стал действительно государем своей судьбы. Все солдатские сердца отозвались бы на этот призыв. А солдатских сердец были миллионы. Именно солдатских, а не генеральских и адмиральских, не лиц высшего командного состава, лишившихся своих приварков и казенного довольствия.
По солдатской литере проехал я всю Сибирь и докатил до самого океана. И тут, на Дальнем Востоке, куда я добрался к осени 1917 года, уже начинается писание стихов, не требующих разъяснений и уточнений. Хотя и в них встречаются вещи, не совсем совпадающие с обычным представлением о стихосложении. Остались следы поисков и звука и смысла, по-своему ощущенного и высказанного. А без этого и нету никакого творчества. Если все уже известно и слышано, то какая же новость в поэзии! Об этом отличии стиха от прозы замечательно сказал свыше ста лет тому назад великий русский свободный ум – А. И. Герцен:
«Досадно, что я не пишу стихов, – говорил он в повести «Поврежденный» (1851), описывая природу средиземноморского побережья. – Речи об этом крае необходим ритм, так, как он необходим морю, которое мерными стопами во веки нескончаемых гексаметров плещет в пышный карниз Италии. Стихами легко рассказывается именно то, чего не уловишь прозой… Едва очерченная и замеченная форма, чуть слышный звук, не совсем пробужденное чувство, еще не мысль… В прозе просто совестно повторять этот лепет сердца и шепот фантазии».
Так понимают чуткие умы лучших людей поэзию. У них мы учились и будем учиться.
Приехав во Владивосток, я пошел в Совет рабочих и солдатских депутатов, где получил назначение помощника заведующего биржей труда. Что это было за заведование – вспомнить стыдно: не знающий ни местных условий, ни вновь нарождавшихся законов, я путался и кружился в толпах солдатских жен, матерей, сестер, в среде шахтеров, матросов, грузчиков порта. Но как-то все же справлялся, хотя не знаю до сих пор, что это была за деятельность. Выручила меня поездка на угольные копи. Там я раскрыл попытку владельца копей прекратить выработку, создав искусственный взрыв в шахте. Вернулся во Владивосток уже уверенным в себе человеком. Начал работать в местной газете, вначале литсотрудником, а в дальнейшем, при интервентах, даже редактором «для отсидки» – была такая должность. Но взамен я получил право печатать стихи Маяковского, Каменского, Незнамова. Когда приехал во Владивосток Сергей Третьяков, нами был организован маленький театрик – подвал, где мы собирали местную молодежь, репетировали пьесы, устраивали конкурсы стихов. Но вскоре эти затеи приостановились. Началась интервенция, газета подвергалась репрессиям, оставаться, хотя бы и номинальным редактором, было небезопасно. Мы с женой переселились из города на 26-ю версту, жили не прописавшись, а затем получили возможность выехать из белогвардейских тисков в Читу, бывшую тогда столицей ДВР – Дальневосточной республики.
Оттуда при содействии А.В. Луначарского я был вызван в Москву как молодой писатель. Здесь и возобновилось мое прерванное на ряд лет знакомство с Маяковским. Он знал, что на Дальнем Востоке я читал его «Мистерию-буфф» рабочим Владивостокских временных мастерских, знал, что печатал отрывки из «Человека» в газете, что читал лекции о новой поэзии во Владивостоке, – и сразу принял меня как родного. Затем началась работа в Лефе, в газетах, в издательствах, которую опять-таки возглавлял Маяковский, неотступно, как пароход баржу, буксируя меня всюду с собою. Я объездил с ним города Союза – Тулу, Харьков, Киев; совместно с ним выпустил несколько агитационных брошюр.
Неизменная товарищеская заботливость со стороны Владимира Владимировича продолжалась до конца его жизни. Благодаря ему было издано много моих книг. Позже я написал о нем поэму, чтобы хоть отчасти восполнить свой долг перед ним. Без него мне стало труднее. И, несмотря на знаки внимания со стороны товарищей по литературе, я так никогда и не оправился от этой потери. Это невозвратимо и неповторимо.
На этом, собственно, и заканчивается моя автобиография. Все остальное лишь варианты главного.
Николай Асеев
1957 – 1962
Москва
Стихотворения
Москве
Константину Локс
И ты передо мной взметнулась,
твердыня дремная Кремля, —
железным гулом содрогнулась
твоя священная земля,
«Москва!» – и голос замирает,
и слова выспреннего нет,
взор опаленный озирает
следы величественных бед;
ты видела, моя столица,
у этих древних алтарей
цариц заплаканные лица
и лики темные царей;
и я из дальнего изгнанья,
где был и принят и любим,
пришел склонить воспоминанья
перед безмолвием твоим…
А ты несешь, как и когда-то,
над шумом суетных шагов
соборов сумрачное злато
и бармы тяжкие снегов.
И вижу – путь мой не случаен,
как грянет в ночь Иван: «Прийди!»
О мать! – дитя твоих окраин
тоскует на твоей груди.
1911
Грозува
Как ты подымаешь железо,
так я забываю слова:
куда погрохочет с отвеса
глухая моя булава?
Как птицы, маячат присловья,
но мне полонянна – одна:
подымет посулы любовья
до давьего дневьего дна.
По крыльям железной жеравы
стекает поимчивый путь,
добычит лихие забавы
ее белометная грудь.
Ветров перемерявши шелком
беззвучии твоих глубину,
я вызвежжусь на небе желклом,
помолньями в мир полыхну —
Чтоб ты, о печале Роксано,
вершала могучий потуст,
ничьею рукой не касанна,
ничьих не касаема уст.
1912
Москва









































