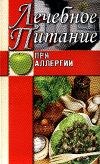Текст книги "Похороны кузнечика"

Автор книги: Николай Кононов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
3
Будучи объектом болезни, став воплощением молчаливого страдания, бабушка мнилась мне средоточием мучений, на которые не могла нам пожаловаться, и поэтому ее муки казались мне непомерными, их удельный вес и выталкивающую силу я определить не мог. Ведь я не мог приложить к ее телу никаких утоляющих усилий – ни развеять боль, которую она, очевидно, переживала, ни умерить страх, который, как мне чудилось, она испытывала, ни остудить внутренний жар, который, вероятно, снедал ее плоть.
Договор молчания, что она властно, не оставляя времени на раздумья, дала нам подписать. В конце концов, если можно так выразиться, жестоко нам навязала, не оставлял нам ни одного пункта, в чьем исполнении мы могли бы быть свободны.
Мы с самого начала были обречены на не так, ибо ни одно наше действие не могло быть одобрено, воспринято, оценено или отвергнуто.
Сила этого договора простиралась на все пространство жизни – на все бытовые поступки, обреченные сразу на то, чтобы стать фикциями. На любые мысли, замыкаемые сразу в капсулы стыда, жалоб, сплетен, сетований.
Нам с мамой было необходимо искать некий баланс, и это равновесие требовало столько усилий, что совершенно определенно было опрокинутым. И любое неосторожное деяние, несвоевременное отвлечение от бремени договора чудилось низвержением в пропасть, куда следом должны были устремиться все обломки наших усилий, которые мы прикладывали неумело, не вовремя, нецелесообразно и хаотично.
И низвержение всего этого представало огромной холодной карой, что будет довлеть над нами всю оставшуюся жизнь.
Но все-таки мы, а мы тайно догадывались об этом, были господами положения, так как могли говорить, но не в силу нашего желания, а в силу невозможности все свести к языку жестов и прикосновений, на котором общались с бабушкой, пытаясь в стихающем мимическом хаосе ее лица угадать слабый намек на желание.
«Ну, сколько это может продлиться?» – пробивалась во мне все время эта фраза.
Ведь мы ни о чем на самом деле не договаривались.
Разве это любовь с ее компромиссом и обоюдной нежностью?
Что останется с нами?
Невыполненные пункты и параграфы.
Наказание за рассеянность, неточность и нелюбие?
В конце концов наша жизнь в эти немногие дни перестала быть движением, она стала блужданием, ощупываньем и принюхиваньем; из нее исчезали вчера, сегодня и завтра, все превратилось в дурную сумеречную пунктуальность.
Ведь любое возможное деяние было искажено возможностью нарушить какой-нибудь иной пункт или параграф этого всепроникающего, всеобъемлющего, всемерного договора.
Вот все стало невозможным.
В доме поселились постоянное осуждение, неостывающая укоризна, образовавшие в итоге нестерпимую муку, требовавшую новых и новых жертв для утоления ничем не обнаруживаемой боли в теле бабушки, достоверно пленившей и нас с мамой.
Внутри нас воет ветер, колеблющий сердечный пыл.
Ветер, порождающий тревогу и смятение.
Мы помрачены, и временами мама темнеет, как небеса перед дождем, и уже не может демонстрировать свою легкую доброту и только ей присущую невесомую безмятежность.
Это особенно заметно за обедом. Она начинает вдруг смотреть не на солонку, из которой только что брала щепотку соли, чтобы в третий раз рассеянно посолить один и тот же огурец, разрезанный вдоль и по разрезу исполосованный насечками, чтобы пошел сок. Она смотрит, зрит сквозь столешницу, за нее, куда-то в подпол или еще ниже.
А что там, лимб...
Взгляд ее делается стеклянным, твердым, непроницаемым, апатичным, тускло отражающим бессмысленно горящий, несмотря на день, абажур.
Ее лицо тут же мрачнеет, словно по нему начинают скользить тени, показывая, какую пору, в отличие от текущего времени суток, она переживает сейчас.
И я ничем не могу утешить ее или отвлечь.
Мне начинает казаться, что мама связана с бабушкой некой незримой, но определенно существующей крепкой пуповиной, по которой к ней бегут эти токи помраченности, так ею старательно скрываемые.
Мама напоминает мне женщину на раннем сроке беременности, когда о повороте в жизни, об этом ее внутреннем удвоении мы догадываемся, перехватив особенный взгляд женщины, обращенный вглубь себя, вовнутрь, в сторону плаценты.
Мне страшно, что в эти мгновения мама делается какой-то другой.
Не чужой, но другой, не обращенной к завтра, тревожному, но осененному изменением в жизни, а словно устремляется во вчера, во вспять, в наоборот.
Мне чудится, что она и в себе нашла некую точку – такое оплодотворенное зерно эрозии, тлена и замкнутости, и она тоже понуро принимает этот закон молчания, и она болезненно поражена этим процессом, ведущим к безусловной гибели...
Я задаю ей глупые вопросы – про то, как она познакомилась, например, с молодым и бравым танкистом-старлеем, моим будущим отцом, на «дешевых» танцах в Доме офицеров.
Она пошла туда, превозмогая высокомерное призрение к подобным люмпенским забавам, впервые в жизни, чтобы развлечь подружку Владилену, Владю, Владьку, оставленную женихом.
– Знаешь, – тихо говорит она словно сама с собою, – в таком замечательном бледно-зеленом платье с вышивкой ришелье по кармашкам, я его потом в некоторую нелучшую минуту искромсала, папа очень сердился, но где-то в шкафу есть лоскутки...
Когда она говорит так, хотя бы чуть-чуть не молчит, оживший взор ее возвращается в бессмысленный мир глупых солонок, разрезанных вдоль крепких огурцов, чайных чашек и невымытой посуды, в сутолоку атрибутов болезни, тогда и мне начинает казаться, что она счастливо возвращена здоровой и невредимой из неприятной и опасной области вечерней помраченности, меланхолии и безумия, из разрушающей ее дурной бесцельности суеты и хаоса.
Мне неприятно, что она все время съезжает в этот ночной кювет, глядит в этот колодец, холодающий, Боже мой, и в ней самой. Он словно остужает ее лицо, прокладывая влажные, как мне кажется, складки от крыльев ее носа к уголкам губ.
4
Я изредка выходил во двор, присаживался на скамеечку, и кто-то спрашивал меня: «Ну как?» – и любой мой ответ казался мне самому бестактным от того, что нейтральных слов нет, нет таких слов, которые показали бы, что мы с мамой ничего такого не ждем, а просто живем, и нам так и положено, и продлиться это может сколь угодно долго, хотя в слове «долго» мне чудилась какая-то провокация, неприятная жесткость, и следовало бы говорить просто «продлится», и это, в сущности, нормально – так болеют, и это вот длится, и большое спасибо за ваше любопытство, и женишка вам, Королиха, хорошего, и все такое...
Двухдневная иллюзия прочности этого положения.
Хаос равных друг другу впечатлений заполняет мой ум.
Они, не задевая, бестолково теснятся на заднем плане, образуют жидкое горячее летнее время, перемешиваются, испаряются, не оставляя никаких следов.
На переднем плане моей души, если она у меня тогда была, ничего не происходит.
Там пусто.
Нельзя вспомнить, холодны или горячи были щи в тарелке, или это вообще была окрошка, пахнущая стертой серебряной ложкой.
Когда же приходил бесполезный врач – до еще более бесполезной тети Муси или позже.
Но все они вместе, эти неважные качества, составляют иллюзию поправимости, межеумочной прочности этого хорошо обустроенного, загнанного вглубь хаоса.
Только вот если бы не подозрение, что его концентрация делается все более и более несносной, жгучей, что вот-вот все бытовое мнимое здравомыслие заместится емким единственным смыслом, смыслом смерти, и все вокруг потребует других поступков, действий – крупных, скорых, решительных и безошибочных.
В десятый раз мы с мамой обсуждаем – давать ли бабушке ложечку питья или нет, так как в последний раз эта попытка кормления окончилась еле слышным полукашлем и хрипом, глубоким и редким, как в замедленном туманном кино.
– И если мы нарушим дыхание, – размышляет вслух мама, – то точно уж, связь между еще работающими сердцем и легкими (как излагала нам основы физиологии у бабушкиного изголовья тетя Муся) прервется наверняка, подобно жалкому телеграфу, – ее тихую речь я продолжаю мысленно, – совершенно заваленному снежной склеротической шелухой, но еще сигналящему нам тщедушную морзянку жизни с помощью, допустим (совершенно забыл биологию), молекул углекислоты.
Ведь грудь ее еще, я вижу это, мерно подымается и опадает, чуть дрожа к концу выдоха...
Страх и трепет.
Страх обрывающегося поверхностного дыхания, вызывающего ответный трепет сердца, и все это уже в тени небытия, где в проекции нет ни того, ни другого, и даже того, во что я столь крепко уверую позже.
И мама, молча сидя рядом, уже не в силах погладить, как в первые дни болезни, побелевший лоб бабушки, взять ее руку в свою, так как уже никакого ответа получить невозможно – ниточка сил связывает лишь сердце и легкие, легкие и сердце...
Баба Магда гудит что-то немыслимое, пугающее нас своим детским простодушием, мы в испуге переглядываемся:
– Что, Лизочка-покойница за хлебом пошла? – сидя в той же комнате, где Лизочка со всей очевидностью тихо отходит, но не за хлебом, конечно.
Почему она упомянула хлеб, думал я позже.
Входит ли хлеб в святые дары?
Глупый вопрос.
Я прохожу через комнату, где лежит бабушка.
Почему-то нельзя мысленно перевести ее лежание в непредставимый пласт отсутствия, небытия...
5
В комнате светло.
Свет – это хаос разорванных и разрозненных мгновений.
Они теснят и попирают друг друга, так как наступает необратимое.
В этом его бесстыдстве читается: «уже поздно».
Комната наполнена светом. Это особенный свет, в нем нет талой домашней прирученной силы, обволакивающей все.
Он, обычно могущий складывать и обобщать тени предметов в дневные вещи, когда сочился сквозь занавески, он, способный воссоединять вечером электрические тени вещей в быт, который мы, здесь родившись, не почитали нищенским и жалким, ведь он ласково и любя смягчал наши лица в зеркалах, он скучал в пыли, ленился на вытоптанных половицах, кис в стаканчиках посеревшей соли между оконными рамами.
Я никогда не думал, что он светит, чтобы было видно.
Чтобы просто были – и то, и это, и те. Чтобы, видимые, они дарили нам флогистон всего наличия, чтобы они царствовали в своих вещных субстанциях светящимися зримыми ипостасями.
Круг от моей рабочей лампы с раскрытой книжкой в нем.
Сноп легкого карманного фонарика-жука, растущий сквозь тьму.
Омертвляющая синька ртутного цилиндра, налитая по верхнюю риску в коридоре учреждения.
Они для других целей: длить рабочий день, внедряться в заповедники чужой жизни, наблюдать, блюсти, подсматривать и бдить.
Живой свет никогда еще не был для меня фикцией бесцеремонной подсветки – театральной, безвременной, извлеченной из обыденного распорядка дня с дорогими багряным восходом, полуднем, багровой закатной зарей и сумерками.
Даже в невнятном феврале я всегда мог догадаться о наступлении полудня, лишь только бегло взглянув на мраморную фигурку слоника на узкой диванной полочке.
Он поблескивал в рассеянных лучах каким-то бодрым пляжным божком, вбирая зимнюю белизну загара, не белея при этом мраморным тельцем ни на йоту; а к концу дня – такого краткого и ровного, что о его окончании я узнавал только по стрелкам часов, ибо сумрачное три пополудни не разнилось ничем от мраморного утра, – наш слоник, наш пляжник словно бы уменьшался, съеживался, замерзал, являл обычную мраморную холодность, которая, истолченная, так сладко исходила шипением в школьном кислотном душе на уроках природоведения.
Всем радостям – свое время суток.
Свет всегда нес в себе функцию радости и изнеможения, он отуплял и укачивал, урезонивал и смирял, но никогда, никогда не уязвлял, не порочил, не выставлял ничего напоказ, ни разу не колол глаза, не слепил, укрупняя все ничтожество нашей жизни.
Господи, но что он сделал с бабушкой?
Как все это, боже мой, получилось?
Он незаметно стал вязким жирным гримом, прилипнув к коже ее лица, к шее, он обтянул резиновыми перчатками кисти ее рук, и с них, восковых, подобно глетчеру, сползли все следы ее возраста.
Он падает так, что не оставляет теней.
Хотя он слаб, зыбок и уныл, в нем все белеет.
Глядя на его труды, хочется сказать: о, это слишком, умерь старания, все видно и так.
Он словно бы все время требует: смотри, смотри, я стараюсь, чтобы ты все видел, чтобы ты ничего не упустил.
Он словно говорит мне: теперь-то ты не подберешь облегчающую формулу сравнения, теперь-то тут нет ни пыла, ни жара, только холодная неотвязная конкретность этого зрелища, всего зримого и видимого – незабываемого и без твоих прикосновений, они ведь исчезают самыми первыми из твоего разграбляемого арсенала памяти.
Хмарь, не поддающаяся сквозняку, новый многоликий сумрак.
Так бывает перед грозой, когда помрачены нижние края небес и бестенный свет, словно в последний раз, накаляет притихшую зелень: выявляет скрытые характеры ольхи, тополя, сирени, их вес, податливость смолкающему ветру, почти телесную трепетность и отзывчивость. В образовавшейся тишине, в кратком безветрии явно проступают эти качества, напрямую связавшие плотность и влажность кроны со словами, с именами пород, которыми нарекли эти сгустки света и движения.
Все стало ясно и выпукло, зримо и полновесно.
Но этот новый свет являл мне не тень и синеву, не морщины и отечность, а другое, теперь главенствующее в облике бабушки качество итогового нарастающего изменения, не сводимого к каким бы то ни было одиночным признакам, совершенно иначе формуя образ существа, лежащего здесь, заставляя узнавать его в совершенно ином вязком свете, источником какового было совершенно очевидно, ясно, пугающе и дико – оно само. Это существо.
И в этом страшном свойстве была вся ее новая, чужая, бесконечно далекая от меня сущность.
На что была похожа эта светозарность?
На зеленеющее какое-то время после щелчка тумблера томление экрана.
На нудную красноту остывающего металла.
На опасное уныние безумца на лавочке городского сквера, усевшегося рядом со мной.
На восковой лик меланхолии...
Свет угрюмой замкнутости, высокомерного безразличия не был светом в смысле свечения, пылания, выявляющего нечто, по чему можно было бы узнать о том, что кроме меня в этой комнате есть еще другой, что он так тлеет тут.
Нет, свет был не истечением, а кишением. Он был попранием нормы, разрушением облика, проницанием и заполнением, вечным укором и порицанием. Он происходил из арсенала страстного подглядывания, болезненного любопытства. Он был тем, что не может быть подвержено жалости, так как скрадывал приметы. К нему не вязались какие бы то ни было усилия. Его нельзя было перевести в пласт поправимого. Направить в русло отзывчивых усилий и соболезнования.
Он язвил меня своей ровной силой, перебарывающей не только детали и частности, но и подминающей все условности текущего: полуденного жара, подступающего обеденного времени, в конце концов, сумерек, протискивающихся по-пластунски в эту нашу комнату.
Его выразительность непереносима.
Я должен все время отворачиваться, так как это близко к отвращению анатомического театра с плотской какофонией жил, разрезов, вывороченных пластов клетчатки и фартуков эпидермы. Выразительность совершенно бесплодная в своем грузном отвращающем высокомерии, которое... О... только отступи мы на шаг и отвернись, сменится печалью, в свою очередь такой же непрочной, как и радость.
Мы с мамой придвинулись чересчур близко.
Мы вдвинулись в кишение и хаос.
Мы потеряли из вида спасительные детали, а вместе с ними и жалость.
Это роение – абсолютно чуждое и безобразное – нас не касается.
Мы уже не тратим, ужаснувшись, на него своих сил и чувств.
– Ганя, сколько еще это может продлится? – мама читает мои мысли. – Еще неделю? Я не выдержу. Я ненавижу это тление, пролежни, вонь. Я и ее уже ненавижу... Я уже не могу дождаться. Это ужас, что я это говорю тебе. Господи, к чему все эти испытания?
6
...Этой семейной темы я никогда раньше от нее не слышал, видимо, бабушка поведала ее маме не так давно, в один из редко случавшихся просветов, когда со дна ее уже отдыхающей памяти всплывали, подобно болотным мутно-зеленым пузырькам, всякие стародавние случаи: полусны, полу-были, перемешанные между собой, взбитые в один неправдоподобный коллоид, где в суспензию ущерба и жалоб иногда подмешивалась какая-то хрусткая живая примета, крупинка смысла, заставляющая поверить во все повороты и лакуны сюжетной и временной путаницы.
Вот во время первой, или, как еще говорила бабушка, империлистической едут они всей семьей на телеге через какие-то осенние широкие поля, луговины и рощи по старой узкой польской дороге, я вижу этот пробор в лесной шевелюре с высоты птичьего полета, по краям небес полыхают зарницы дальних разрывов; девочки – Магда и Лизочка – рисуют при этом на привалах в блокнотиках остренькими колкими карандашиками всякие пейзажи, Магдочка, конечно, талантливее; глубже в Россию бегут они, и дальше следовала чересполосица снегов, жары, убитого или павшего мерина с кайзеровским клеймом на боку, луж спирта, разлитых по земле в центре Смоленска, мужиков, припавших к этим лужам, мешочка маленьких золотых и крупных серебряных монет – ими, полновесными, в пути, расплачивалась их мать. Тут бабушка (мама, похоже, копирует ее манеру речи) себя обрывает, делает большие глаза, прикладывает палец к устьицу чуть вытянутых губ и показывает в сторону дальней маленькой комнаты, где сидела в одиночестве баба Магда, действительно, ставшая скаредой и скопидомкой. Ну и там другие случаи...
Впрочем, ничего такого неправдивого в этих историях не было, как оказалось в дальнейшем.
А что касается мешанины из снов и яви, то в разгромленной монтажной своего сознания среди обрывков кинолент в полном развале и хаосе бабушка рассматривала на мерцавшем экранчике своего ума лишь те, до которых могла дотянуться, те, что попадались под руку. И как хорошо, что ей еще хоть что-то попадалось, как славно, что ей еще что-то этакое было по силам выудить – вроде бы вполне дельное и целесообразное, а не просто стоять, покачиваясь кошмарной полуодетой уткой средь бела дня у большого замутненного зеркала и с явным недоверием глядя в свое тусклое отражение, которое мнилось ей, наверное, какой-то старой незнакомой женщиной с раздражающим молочно-мутным бессмысленным блеском широко распахнутых очей.
О, как хорошо, что у нее, той отраженной, хватало гордости в конце концов, гордо вскинув брови, отойти куда-то за пространство стекла, то есть разминуться с бабушкой, словно с соседкой по нашей коммунальной кухне, не разговаривают с которой уже лет десять. Бог знает из-за чего.
Может быть, младенец, если б не поленились вовремя его расспросить, пребывавший в свои баснословные года в темной тесной утробе, мог бы поведать о том, как он был там плавал сперва щучкой, потом толкался зверьком, а до всего этого трепетал ворсистым шариком – дышал жабрами, повиливал хвостиком, перебирал щетинками, смотрел дюливиальные мультики во сне, трепыхая ластами и тем сгустком, бутоном лепестков, что еще нельзя поименовать телом?
Может быть, если б заговорил...
Ну а бабушке предстояло замолчать, погрузиться в такой же дородовой густой сумрак, и она загодя выбалтывала маме последнее, что помнила, освобождаясь от мишуры, каковая и составляла весь смысл ее утекающего нынешнего бытия, чтобы подготовиться к важной запредельной жизни икринки, например.
Недаром я застал ее как-то стоящей у зеркала и смотрящей за стекло с напряжением вуалехвоста, подплывшего к самому бортику аквариума.
По отражению ее взора с такой молочной мутной пленочкой, смазавшей давнее слово «карие», применяемое когда-то для наименования бабушкиных чудных очей, по тому отражению, по которому можно догадаться о том, что человек, попавший в лес, уже не смотрит выше густой листвы, откуда доносится пенье пеночки, а вслушивается, проницая прозрачным взором беспрепятственно не только эту сень с поющей птичкой, но и легкий лесной воздух над нею и еще выше, где уже стоят такие тяжелые густые июльские плотно прогретые облака; так вот, по тому, видимому мною, отражению я впервые поймал мысль о том, что, наверное, бабушке осталось не так долго вслушиваться в чуть хриплое дыхание того уже чужого, неузнаваемого ею человека, повторявшего ее облачную позу перед стеклянной преградой.
Так вот, история, пересказанная мамой, восстановила, суммировав, слова обеих сестер, обеих бабушек, такой печальный заснеженный голодный сюжет:
«1921, скажем, год, январь, умер отец Магды и Лизы, во двор нашего саратовского дома, заваленного сугробами по пояс, вошла цыганка, ее позвали в дом помянуть покойного. Она сказала молодой Магде:
– Ой, а у тебя, девушка, судьба какая плохая... всех переживешь, умрешь последней».
И еще что-то про ее дивную косу, но точный речевой оборот цыганки в маминой передаче я не помню.
Волосы у бабы Магды были действительно замечательные. Густые, немного вьющиеся, как говорят – шепчущие, с узкой неседеющей пегой прядью. И все это, в сущности, оказалось правдой. И вот вокруг нее, как сумрачные планеты, вращаются уже восемь семейных детских и взрослых смертей, и новая, уже сгущающаяся из розового света этой комнаты, отбрасывает на нее еще одну уже вполне внятную тень. Немудрено, что насупившаяся постаревшая душа перепутала их все, сплотила их в одно смутное и неизвестно с кем бывшее событие, похожее на облако. (Это по поводу фразы: «Что, покойница Лизочка за хлебом пошла?»)
Иногда, а именно в то время суток, что явно не предназначено чтению, баба Магда начинает что-то подчеркивать, упорно стоя под тусклой лампой, в газетном столбце стародавнего номера «Известий».
Свернутый вдесятеро, затертый номер она всегда аккуратно носит в кармане халата вместе с толстым красным карандашом, по-учительски выделяя им что-то, явно уже не прочитывая строк, перескакивая в каком-то хмуром задоре со слова на слово, минуя целые абзацы, фиксируя ход своего безумного взора линиями красного грифеля толстого карандаша, на чьем боку вдавлено золотом: Тактика.
И этот военный термин, это слово, так кстати возникшее, объясняет странную на первый взгляд моторику ее судорожного поведения, сонную прострацию, перемежаемую редким бодрствованием.
Ведь чтобы проявиться здесь, снова среди нас, легко подчинив пережитый в глубине бредового сна отрезок жизни идее гнездящейся повсюду порчи, ей достаточно повернуть крошечный шпенек на коробочке слухового аппарата. Он висит плоским медальоном на ее шее. Превратив таким механистическим образом эту обнаруженную сумму жизненных моментов в жалкую стратегию затянувшейся, длящейся в устойчивой синильной фазе жизни.
Ведь все видимое, ограниченное домашним комнатным горизонтом, сузилось для нее до размера туманного ореола сороковаттной лампочки. И кажется, вольфрамовая, сияющая желто-горячим светом слеза скоро совсем станет красным догорающим червячком, перед тем как издать сухой тихий древесный щелчок, стать взрывом, как в кино задом наперед, внезапно гаснущим светом сознания, чтобы заслонить все существовавшее этой последней вспышкой.
И молочному старчеству, читаемому в глазах бабы Магды, так с руки, так по-детски выпуклы и явны все моменты ущерба, как-то связанные с деньгами, облигациями, сбер-книжками, что везде ей слышится зловеще-шелестящее слово «завещание».
Отчего-то:
– Никогда нельзя делать завещание на двухлетнего ребенка. Все достанется государству, – басит она, угрюмо глядя в нашу сторону.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?