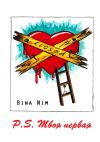Текст книги "Пойди туда – не знаю куда. Повесть о первой любви. Память так устроена… Эссе, воспоминания"
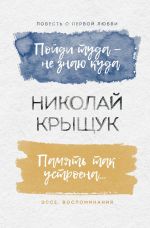
Автор книги: Николай Крыщук
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Теория точек
Литературное отступление из ненаписанных воспоминаний о Самуиле Лурье
К слову…Еще где-то в начале наших встреч мы с Саней уговорились, что будем оставаться на «Вы». Все уже не раз перепьют друг с другом на брудершафт, изфамильярничаются вдребезги, а мы останемся, как в первый день знакомства. Идея была правильная. Меня часто коробило тыканье со стороны людей ему не близких, а то и неприятных. Исключение – друзья юности.
Письма из Пало-Альто. Жили в одном городе, поэтому письма были редкостью. Разве что прислать любопытное видео, актуальную цитату, обменяться текстами или о чем-нибудь напомнить. Пошли письма уже из Пало-Альто. Интонация общения С.Л., попутных замечаний и рассуждений, настроение, каждодневная борьба с болезнью в пользу жизни и литературы в них хорошо видны. А также пробившаяся в слово мелодия отношений, которая до того старалась обойтись без слов. Фрагменты из писем С.Л. пройдут сквозь этот текст.
… завтра у меня начнется химия, и какое-то время, говорят, мне будет трудновато общаться, в том числе и письменно. Так что не волнуйтесь, если возникнет пауза. Я и это письмо откладывал до наступления полной ясности. Полная – не наступила, но все-таки можно оценить шансы.
Они не так плохи. В частности, сегодня выяснилось, что мозг пока не затронут. На что никто особо не надеялся, потому что мне досталась особо коварная разновидность: распространяется очень быстро и первым делом бросается в голову. Таким образом, лечение начинается вовремя, и шансы есть…Хотя не очень большие: выздоравливают 20 процентов. Из остальных многие получают возможность провести в терпимом и рабочем состоянии года два. Это не так мало, как мы с Вами понимаем.
О прозе. Природа игры и природа совести таинственны сами по себе. А уж то, как они сплетались и были завязаны узлом в Самуиле Лурье, вообще трудно поддается описанию. Артистизм был и в составе его деликатности, и в тонком ритуале обольщения, и в умении, не обидев, сказать в глаза трудную правду или, напротив, вложить пощечину в лукавый комплимент.
Всё, в чем не было умного изящества, представлялось ему не просто свидетельством бесталанности, но следствием бессовестности и небрежного отношения к жизни. Про себя говорил: «главная в жизни страсть – чтобы текст был хороший». Какая связка, заметьте: страсть – текст. Связка, знакомая всякому истинному поэту (строки Пастернака и Мандельштама просятся и в эту строку). Об одном известном литераторе С.Л. как-то сказал, что было явной автохарактеристикой: пишет статьи и прозу, а живет, как трагический поэт.
Итак, страсть, совесть, смысл, игра – природа одна. К примеру, С.Л. любил футбол и знал в нем толк. Любил изобретательность, ум, смелость, комбинацию. Быть может, несколько литературно. Потому и судил по тем же правилам, что и беллетристику. Красиво играют, техника, остроумные передачи, но как только подходят к воротам – забыли, зачем пришли. Озираются, как эскимосы в парной.
Наши тоже: столько накрутят литературы, и неплохой, неплохой, ничего не имею против. И так называемый интеллект. Только не помнят, ради чего бежали.
Тема прозы для Лурье – особая, поскольку находится внутри авторской претензии. Фрида Кацас, в советские еще времена, заказывая внутреннюю рецензию на рукопись Лурье, просила подчеркнуть, что мы имеем дело с прозой. Думаю, это была их совместная с автором просьба.
В предисловии к книжке своего аватара С.Гедройца Самуил Лурье в легкой, как и полагается, манере заметил: «Он, видите ли, старается писать критику – прозой». А вторая книжка С.Гедройца «Гиппоцентавр» носит вполне прозрачный подзаголовок: «Опыты чтения и письма».
Чуть ли не на второй-третий день нашего знакомства я от него услышал: интересно, кто может заставить меня прочесть хоть страницу бессюжетной прозы? И в эти же дни: я не могу писать прозу: «Он вошел, прикрыл за собой дверь, сел на стул спиной к окну…» Нет, нет! Из стыда не смогу.
В 90-е годы Самуил Аронович предложил мне напечатать в «Неве» повесть «Короток твой дар, милая…», которую слышал до этого в устном исполнении. Мгновенно поставил в номер. Но – ни слова о тексте. На следующий день я спросил, значит ли это что-то? Он ответил: не поверите, всю ночь из-за этого не спал. С тем же вопросом: почему ничего не сказал? Дело в том, что две недели назад я уничтожил текст, один к одному похожий на Ваш. Свой уничтожил, а Ваш печатаю. Не знаю, как объяснить.
Этот разговор, как многие, многие, остался без завершения. Уничтоженная им проза, что легко вывести из ее сравнения с моей, была бессюжетной. Но главное, скорее всего, в другом: Лурье прельщала и ему же претила исповедальность. Особенно в ее душевном изводе. Ахматовское «Весь настежь распахнут» – точно не про Лурье. Потому и к мемуарам относился с опаской – слишком много автора. На соображение, что без этого нельзя написать ни строчки, отвечал молчанием. Про себя говорил: как мемуарист – я ноль. И действительно не написал ни строчки. Думаю, просто отрезал от себя этот соблазн.
Мемуарист должен быть кем-то вроде тайного агента, писать честный, анонимный отчет о своих наблюдениях. Только факты. Но все хотят быть свободными художниками, то есть толковать о своем и о себе. Таков примерно ход его рассуждений. Помня об этом, пишу, изымая из текста всё, что касается наших долгих отношений, всё, что может показаться чувствительностью. Песня умирает в горле.
Речь Сани не закавычиваю. Как он расстраивался, когда устно или письменно его цитировали! Как будто, стало быть, ручаются, а при этом всё вранье. За точное воспроизведение речи не ручаюсь, пишу, как помню. И только о литературе.
По поводу прозы: это были, конечно, мучения больше автора, чем критика. Прозу свою он все же изобрел, блистательную. Вернее, попал в нее, сразу, как будто с ней родился. И она с годами менялась, как свойственно прозе, а отнюдь не критике. Это был, я думаю, в нашей прозе-критике «случай Жуковского». Автор скрыт за чужими текстами и персонажами. О Лурье, читателю известно меньше, чем об С.Гедройце. Зато уж тут исповедальность небывалая, какая возможна только в лирических стихах.
Не раз сталкивался с резким неприятием некоторых эссе Лурье. Таких, например, как о Блоковской «Клеопатре» («Самоучитель трагической игры») или о Тютчеве («Тютчев: послание к N.N.»). В последнем, как мы помним, речь о том, что «грамматика Тютчева упорно, ценою тончайших ухищрений уклоняется от употребления глагола „любить“ в первом лице единственного числа». Клевета на гения! Как можно!? Но ведь это о себе, пытался возражать я. О Блоке и Тютчеве, разумеется, но еще и о себе. Ответ: вот пусть о себе и пишет.
Что сказать? А Пушкин не оклеветал ли Сальери? А Жуковский не украл ли произведения Шиллера и Грея? А Тынянов, обнаруживший в Грибоедове или приписавший ему собственные черты? Есть замысел, есть жанр. В угоду им сжигается много жизненного материала. Самуил Лурье изобрел жанр собственного имени. Так или иначе, с этим теперь придется считаться. Если же в основе доказательства лежит грамматика, – тем более.
…Медицина здесь – человечна. Я ведь в университетской клинике, принимающей больных любого уровня достатка со всей округи. Областная для бедных как была в 19 веке клиника Московского университета. И здесь все заточено на одну идею: чтобы человеку было как только можно легче, потому что он – каждый – заслуживает сострадания и заботы. Так жаль наших родителей. И всех, всех. А как я все это переживаю, дорогой Коля, про это напишу как-нибудь отдельно.
…Лечение выдерживаю. Живу практически на курорте. Замечательная природа, погода, еда. Видеозапись, где мы поем про Кейптаунский порт, меня тоже немножко тронула.(Видеозапись Даниила Коцюбинского с дня рождения Леонида Дубшана. – Н.К.)Текст про Кармен я оборвал где пришлось – потому что Андрей(Андрей Арьев, соредактор журнала «Звезда» – Н.К.) действительно задержал из-за него номер. Послал ему, посылаю и Вам, хотя тема раскрыта лишь процентов на 60. Но это было просто физическое упражнение для отравленной головы, чисто личная медитация. Впрочем, если такое приличное состояние, как сейчас, продлится еще хоть несколько дней, – может, и допишу (хотя бы для себя).
Проза (продолжение). Но было и еще в отношении Лурье к прозе противоречие – не противоречие, – особенность. К так называемой серьезной прозе относился с подозрением, предпочитая ей беллетристику. Недолюбливал Пруста и Музиля. Над многоумным Умберто Эко издевался: «… через каждые, предположим, десять страниц герой романа должен перекусить, или прогуляться, или справить нужду, и не машинально, а с чувством. Цитируя чьи-нибудь стихи (оставим ему на эти случаи т. н. книжную, как бы чужую память), афоризмы. Вообще, размышляя как можно глубже. Чтобы читатели устыдились испытываемой ими скуки. Чтобы поняли: их кормят отборной философской прозой – с подливкой из утонченнейших пейзажей, между прочим, – и нечего тут.
…Выделить – копировать – вставить. Выделить – копировать – вставить. И опять перерыв: телефонный разговор, или сновидение, или с прислугой поболтать – мало ли стилистических средств».
Легко разоблачая механику подобных текстов, охотно признавался, что подобная неприязнь и непонимание – его недостаток: столько достойных людей перед этими писателями преклоняется.
Из Штатов попросил меня прислать что-нибудь из прозы. Я послал рассказ. В ответ получил: «Большое спасибо за текст. Мне в нем нравится все, что проза. А беллетристика (логика событийной комбинации) не увлекает, жаль. В последнем романе Вы этот внутренний конфликт, мне кажется, преодолели».
Тяга к беллетристике («логике событийной комбинации») внятно ощущалась в его собственной прозе. Первая проба повествовательности была, конечно, в «Литераторе Писареве». Но и во всех вещах последнего десятилетия это стремление чувствовалось, вплоть до «Изломанного аршина» и «Меркуцио». Однако природа его дара была все же в другом.
Он умел дать эмблему судьбы, в которую были заключены и характер героя, и его эпоха, и поэтика. Чего стоит одна строчка о Данте, который всегда был повернут к эпохе в профиль. Несомненное родство с прозой и стихами Мандельштама, отчасти с прозой Герцена (и о том, и о другом пойдет речь в беседе, фрагменты которой я приведу ниже). Как и Мандельштам, по определению Берковского, Лурье «намеренно сокращает дистанцию между культурным фоном и фигурой, помещенной на этом фоне, – поэтому связь того и другого ощущается более конкретной и конкретнее становится сам фон». И, конечно, он также в своих историко-культурных опытах «действует не как теоретик, а как поэт».
И еще Берковский о Мандельштаме и, как мне видится, о Лурье: «Мандельштам работает в литературе как на монетном дворе. Он подходит к грудам вещей и дает им в словах „денежный эквивалент“, приводит материальные ценности, громоздкие, занимающие площадь, к удобной монетной аббревиатуре».
Бытует мнение, что для Лурье после Гоголя, Достоевского, Тургенева и Толстого литература как бы не существует. И другое, принадлежащее, кажется, Виктору Топорову: Лурье не признает литературы после Бродского. Оба суждения, мне кажется, критики не выдерживают. Но резон в них все же есть.
Нужно еще подумать и сообразить, почему Лурье за долгую литературную жизнь не откликнулся почти ни на одно из достойных имен (о прозаиках средней руки писал). Но ни строчки о Трифонове, например, Шукшине или Казакове. И С.Гедройц писал хвалебно по большей части о книгах исторических и документальных, о мемуарах и исследованиях.
Чехов. Были, конечно, свои пристрастия и антипатии. Так практически ничего не написал о Чехове. Только о том, что герои его, мечтающие о счастливой жизни через триста лет, через пятнадцать столкнулись бы лоб в лоб с большевиками. Я не раз говорил ему полушутя, что у него остается долг перед Чеховым. Чаще всего отмалчивался. Однажды только сказал совершенно в Чеховской, между прочим, манере: если бы понял, зачем Старцев поехал по записке Котика на кладбище, непременно написал бы.
Санина жена Эля рассказала, что незадолго до смерти он попросил читать ему вслух всего Чехова. В конце сказал, что и на этот раз ничего не получилось. Так и не сумел полюбить.
…на людей, подвергающихся лечению вроде моего, время от времени накатывает fatigue (мед. термин здешний) – смесь хандры и лени, по-русски обломовщина. Руку не поднять, шагу не шагнуть, слова не вымолвить, не то что написать. Это я так прошу прощения за паузу в переписке…Мыслей у меня стало мало. Наблюдаю жизнь белок, галок и соек. Сойки – синие. Галки – черные. Белки тоже чаще черные, но есть и серые, и светло-дымчато-коричневые. Белки между собой перемяукиваются, а не только перещелкиваются. И галок нисколько не боятся. Дела мои объективно нехороши, а субъективно – неплохи. К зиме, надо думать, эти линии сойдутся и выберут общее продолжение.
… Живу как большая больная собака – от кормежки до кормежки, в промежутке полусон. О работе можно думать (скорей мечтать) в начале третьей недели после сеанса химии, когда наступает просветление, – но тут-то и наступает время сеанса следующего. Все рассчитано чуть ли не по часам. Но вот как раз сейчас передышка, и я строю разные мелкие планы – как разберусь со старыми текстами, и т. п. Однако дети считают, что я должен, не поддаваясь болезни, жить интенсивно, – и вот, например, сегодня повезут в оперу Сан-Франциско на «Фальстафа». В сущности, все похоже на обыкновенную мирную старость. Только наступившую слишком внезапно.
Уместность и правда. Сын филологов, запойный читатель в детстве и юности (а что еще было делать, говорил, в сталинской коммуналке?), он ощущал художественный уровень «золотого века» как норму и одновременно эталон. Чувство уместности и правды, вплоть до бытовых мелочей и психологического обоснования даже незначительных сюжетных ходов, было развито в нем чрезвычайно. Лурье проверял произведение, возвращая его в плотность исторической и бытовой повседневности. Недаром в «Иронии и судьбе» уделяет столько времени изучению Придворного Календаря 1772 года, показывая, почему Петруша был отправлен именно в Оренбург и почему отправился в дорогу не ранее 2 декабря: иначе не мог бы встретиться в Оренбургской степи с Пугачевым, который объявился там лишь в конце 1772 года. Так же подробно выясняет денежные обстоятельства Макара Девушкина. Сверяет бытовую подлинность событий в «Медном всаднике» с документами и воспоминаниями и не без удовольствия указывает Пушкину на ошибку. Всё по-честному: ведь предупреждает автор в предисловии, что «происшествие, описанное в сей повести, основано на истине», а подробности «заимствованы из тогдашних журналов». Надо проверить. «Тут единственная в МВ недостоверность, по-современному сказать – лажа. Разумею встречу с беззаботным перевозчиком. Неоткуда было ему взяться, – нелепо было и звать, – и лодок целых не осталось. И чрезмерная все-таки беззаботность (если только это не был Харон): такие волны, такой ветер, и хоть глаз выколи, ни единого ориентира. Как бы ни был нужен гривенник». В эссе «Гоголь, Башмачкин и другие» Лурье внимательно читает «Полный месяцеслов», чтобы изобличить шутку Гоголя, заставившего родителей назвать своего сына Акакий. Всё это не из педантизма, понятно, а из желания понять игру автора, его замысел и проблему героев в ее реальности, что часто приводило к опрокидыванию распространенных трактовок.
Редакторские катакомбы. При этом С.Л. был не только уникальным читателем, но и внимательным, терпеливым и благодарным редактором. Больше четверти века проработал в не лучшем из советских журналов. Не только пробивал, порой удачно, рукописи сквозь заслон редакции и цензуры, но и радовался малейшему проблеску таланта. Однако и ад этих лет не поддается воображению. Читатель от Бога, болезненно реагирующий на неверное слово и фальшивую интонацию, десятилетиями, изо дня в день ежедневно шел на пытку, погружаясь в пыльные тексты с вредоносным запахом, сквозь которые ухмылялся автор, пребывающий в сложной, эмбриональной позе неузнанного гения.
Вряд ли таким представлялось мученичество человеку, прочитавшему в юности собрание сочинений Александра Блока. Но для него, умевшего радоваться красивой шутке, выученным наизусть дворикам и переулкам Петербурга, дождю, свежему огурцу, наконец, идея гибели не была посторонней. А служение и долг всегда представлялись доблестью. Разумеется, он мог найти место поспокойнее. Хотя бы сотрудником Всесоюзного музея А. С. Пушкина в Ленинграде, где до «Невы» проработал год. Но в журнале Лурье, так или иначе, мог служить литературе. А снобизма в нем не было.
Редактура – чудовищно трудное ремесло, о чем не подозревает разве что безграмотный «офисный планктон» и самоуверенные авторы. Чудовищное ремесло и редчайший дар. Отчасти противоположный авторству, поскольку предполагает любовь к чужим текстам. А за ними может никогда не встать не только гений, но и способный старатель. Потенциальные обитатели психушек, пораженные экземой иждивенчества, косноязычные тугодумы, самовлюбленные болтуны.
И к каждому надо обратиться душой, превратиться хоть на миг в них. Это непременно, непременно, каким бы мерзким и неопрятным ни казался или не являлся автор. Слова Щепкина, пущенные по миру Гоголем: «Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит», гуманные по отношению к автору, изувечивают мозг и душу редактора. Ведь это процесс серьезный, полный, человеческий, о нем невозможно забыть к вечеру и стряхнуть с себя утром. Удивительно, что Самуил Лурье сумел сохранить в этих условиях и себя и свой дар. Его почти не тронули сырость и слепота редакторских катакомб, в которых он провел большую часть жизни.
… совсем-совсем не чувствую смысла делать что бы то ни было. Ну да ничего. Вся жизнь так проходила. Очень остро хочется не то чтобы алкоголя, а – свободы выпить, которая в одиночестве радует лишь до первого глотка.
… К счастью, я успел – за часы до начала последнего курса – дописать текст. Хотя и не придаю ему значения. Но доволен, что написал его. Посылаю – потому что все время хотел послать, – и прошу прощения за то, что он такой длинный; на экране читать трудно. Когда писал, думал и про Вас, и про Олю, и про Ваших детей. И про своих, само собой. (Судя по дате написания, речь идет о повести «Ватсон» – Н.К.).
Личный счет в Гамбурге. Чувство, что С.Л из числа имеющих право, было, я думаю, у всех. Ему верили не просто как литературному мэтру, но как полномочному представителю правды, минеру с безукоризненным чутьем, который за верность художественного текста ручается жизнью, а против мошенничества хоть в искусстве, хоть в частных отношениях, хоть в политике восстанет с пикой и ружьем, что, пусть и не в такой романтической форме, случалось не раз.
Я был свидетелем реализации этого его свойства – осадить хама, противостоять подлости, сказать коллеге правду в глаза о его тексте (свойство Блока), пойти на риск – на протяжении пятидесяти лет. Никакой паузы, никакой рефлексии – мгновенный ответ. Равно: что в словесной перепалке, что в застольном разговоре, что в начальственном кабинете, что в уличной драке.
Когда мы в редакции «Невы» в первое утро августовского путча писали вместе заметки для «Невского времени», он, прочитав мою, попросил: давайте я припишу от руки. И написал что-то вроде: «Я, Самуил Лурье, подтверждаю, что эти строки были написаны при мне в 12. 16, восемнадцатого августа 1991 года в редакции журнала „Нева“…» и так далее. Страничка эта, разумеется, сохранилось, но пишу не дома, поэтому цитирую по памяти. В этом, согласитесь, был жест обреченного декабриста. Так мы в то утро себя и ощущали.
Он мог писать положительные, даже восторженные рецензии на средние произведения из чувства благодарности. Из чувства солидарности с какой-то мыслью и настроением автора. Бывал в этом именно жанре чувствителен и экстазен. Порой оценки, особенно в маске Гедройца, были просто шокирующие. На прямые вопросы отвечал коротко: я так больше не думаю. Но никогда, разумеется, не писал в угоду общему мнению, имиджу автора, а уж тем более ради выгоды. Пишу об этом из честности, хотя смешно об этом говорить. Один известный критик посоветовал Лурье не особенно своевольничать и настаивать на своем, когда предложение поступает от «Литературной газеты» (в то время очень популярной и высоко гонорарной). Потом, мол, свыкнутся, где-то что-то можно себе и позволить. Саня рассказывал об этом с усмешкой, исполненной изумленного удивления, которую всегда вызывали у него добрые советы наглого конформиста. Писал за деньги кандидатские и докторские диссертации, а в «Литературной газете» так и не напечатал ни строчки.
Эмоционален, да, но при этом ответствен и честен по самому высокому классу. Только честность, это не эталон из твердого материала. Это процесс, в который иногда вмешивались не столько обстоятельства, сколько чувства. Естественно. Однако круглосуточный, пожизненный процесс, вот, что главное. Интуитивный и опасный. Слово «авторитет» в нем отсутствовало. В одной из статей я сказал про него: «Должно быть, у этого человека есть личный счет в Гамбурге». Ему понравилось.
Замечательно, что счет этот предъявлялся не в лекционном жанре, не в специальной беседе под диктофон, а в случайном разговоре, мгновенной реакцией на реплику. Как-то я, подавляя в себе недовольство ретроспективностью, умственной понятийностью стихов Тарковского, сказал Сане, перечитав в очередной раз какой-то сборник, что все-таки он хороший поэт. Да, это так, ответил он, третий том хорош. Но вот интересно – а, где два первых?
Мы оба вышли из блоковского семинара Максимова, и отсылка к трехтомнику Блока, к его «трилогии вочеловеченья» для меня был понятен. Диалектическая триада, если применять ее к художественному творчеству, подразумевала непосредственное проживание в тексте возрастных и духовных этапов развития поэта. С некоторой осторожностью их можно выделить не только в трилогии Блока, но и в стихах Пушкина, например, Цветаевой, Пастернака, Бродского. Тарковский начал сразу как бы с этапа завершающего, предстал перед читателем не просто зрелым стихотворцем, но зрелой личностью. Вся жизнь предшествующая в синхронном письме отсутствует и только окликается, вызывается памятью.
…Я чувствую себя неплохо. Как если бы взял и выздоровел. И не знаю, что делать. Такой вариант не рассматривался. Но, по-видимому, это состояние временное. (То есть как у всех людей.) Очень скучаю. Вернее, не чувствую ни к чему интереса. Не пью, не курю, мало и неохотно ем, не читаю, не пишу, практически ни с кем не разговариваю. Не знаю, считать ли это времяпровождение жизнью. Пытаюсь думать о Смерти (не о своей, а о принципе). Но на нее, как на Солнце – в упор не взглянуть. Притом что она так нагло возвышается посреди горизонта и буквально лезет в глаза. Столько умов прошло, и умели ведь писать, – но про нее ничего толкового не придумали и нам не сообщили. Хотя вся литература (не говоря о прочей культуре) – антисмерть. Но не сравнялась еще по высоте. Простите мне этот вздор.
Целое больше суммы частей. Года четыре назад из Струг, в дачной праздности и чтении, я написал ему, что читаю несколько дней кряду Бродского, и, к сожалению, а отчасти и к ужасу своему понял, что, при всей энергии и богатстве, приемы его в принципе исчисляемы, дно достижимо. Саня ответил в тот же день: «Я тоже перечитывал в июне Бродского. И думал теми же самыми словами. Про то, что сумма приемов конечна и они в известной степени предсказуемы. И еще про то, что когда в стихотворении не выражен жест и/или он слабо мотивирован – получается вместо лирики эссеистика. Что на это сказать (ведь это так грустно)? Что целое в некоторых случаях (каков и этот) все-таки гораздо больше суммы частей. Что И. Б., к счастью, все еще не глупей нас – хотя уже много моложе. (И уже, в отличие от нас, не поглупеет, счастливчик такой.) Что так ведь со всеми: с Пастернаком, Цветаевой, Мандельштамом, не говоря уже об Ахматовой и Блоке. С Набоковым. С Платоновым. Даже, наверное, со Львом Толстым (хотя – финал „Карениной“! Хотя – „Хаджи-Мурат“!) Что непредсказуемых и неисчерпаемых писателей в русской литературе я вообще знаю только двоих: Салтыкова и Чехова. Притом что первый бесконечно сильней, и „Господа Головлевы“ – по-моему, лучшее произведение, написанное на русском языке. (Хотя – см. предыдущие скобки.)Что мне ли (или так: об этом ли) мне печалиться, когда невыносимо удручает монотонность собственной внутренней речи. И что чем дольше живешь, тем меньше любишь, в чем и заключается смысл смерти».
В письме этом всё замечательно, и много примечательного. Об отношении к Чехову я уже говорил. А при этом он один из двух «непредсказуемых и неисчерпаемых писателей». Пристрастие к Салтыкову-Щедрину и утверждение, что он «бесконечно сильней» Чехова. Последняя, недописанная работа Самуила Ароновича «Обмокни» посвящена именно Салтыкову. Его самого уже стали называть современным Щедриным. И да, и нет. На мой взгляд, фактура его текста богаче. Его эссе просятся в сравнение с лирическими стихами, с которыми Салтыков-Щедрин порвал еще в молодости. И не только как с жанром, но и как с душевным состоянием. Про «Господ Головлевых» я говорил ему, что при всей силе многих сцен и самого типа Иудушки Головлева, все же весь роман – развернутая иллюстрация к щедринской, несколько нравоучительной публицистике. Вопросов нет, могучий Щедрин таков, но можно ли при этом говорить о неисчерпаемости? Саня оставался непроницаем.
С Львом Толстым, вернее, с выделенными текстами тоже не так просто. Финал «Карениной», конечно, потрясает. Но все же это, (как бы сказать?) не главный что ли Толстой, не собственно Толстой. Это скорее его зашаг в сюрреализм. Для реалиста оправдан тем, что рассказ ведется о героине в состоянии полубезумия. Такое случалось и у Пушкина. В «Пиковой даме», например. В сне Германна «тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком». Замечательно. Но и это ведь не главный Пушкин.
«Хаджи-Мурат». В самом начале эссе «Куст» Лурье задается вопросом: «Спрашивается: из-за чего так мучился (хотя бывало и наслаждение)? Возился дольше, чем с „Карениной“. Что не ладилось, не клеилось? Почему вдохновение так долго не ловилось после первого сеанса? Ведь еще тогда, в „Репье“, все самое важное из нынешнего „Хаджи-Мурата“, все незабываемое уже существовало».
А дело было в том, что не ладился, не клеился сам образ Хаджи-Мурата. В воспоминаниях, написанных к тому же о разной поре его возраста, образ дробился, и старый писатель впервые в жизни не мог сложить его в целую личность. «А надо ему было, судя по всему (точней – судя по направлению движения), не более, не менее, как душу Хаджи-Мурата, его личную бессмертную сущность. Имелись же на бумаге только наружность и приемы поведения, притом поведения в чуждой среде (а наружность – глазами врагов). Плюс краткая биография, верней – досье, составленное из отрывочных сведений, мелькнувших в прессе. Ну и заключительные часы, минуты, секунды. Мало, казалось Толстому, – мало, мало!»
Так и не сложилось.
При этом Лурье пишет об этой повести Толстого, как о несомненном шедевре. Почему?
Ответил: понимаете, есть там, например, такая сцена. Хаджи-Мурат въехал во двор. На крыше старик занимается какой-то починкой. Хаджи-Мурат о чем-то спросил его, тот ответил. И всё. Никогда мы этого старика больше не увидим. Никакого отношения к сюжету он не имеет. А в памяти остался навсегда, и никуда уже из нее не уйдет. Вот так выпукло показать, а не рассказать, не отделаться в минуту простоя сюжета небрежным мазком – умел только он.
Да, но ведь, как мы помним, «целое в некоторых случаях…все-таки гораздо больше суммы частей». Тогда что здесь целое, а что часть? Старик на крыше, как производное хищного глаза гения, или неумение сложить в целое образ? Пусть первое. Но такого у Толстого с избытком и в «Детстве», и в «Казаках», и в «Анне Карениной», и в «Войне и мире». И все же – «Хаджи-Мурат».
Совершенство без доблести, сколько могу судить, Лурье не волновало, скорее, вызывало душевную усталость, похожую на отчаянье. Но попытка «Хаджи-Мурата», предпринятая стариком, в то время почти его ровесником, подвиг мечты и воображения – вот это да, это вызывало восхищение. Так он проигрывал и подготавливал свою старость. Теперь мы знаем, что и в ожидании собственного, назначенного уже ему врачами конца, сквозь боль писал до последнего дня.
А вот начало эссе «Куст»: «Странен, отчасти забавен, почти что жалок взрослый человек (не обязательно с длинной белой бородой! не обязательно в длинной белой блузе! вообще не обязательно собственной персоной Лев Толстой), задумчиво так составляя среди распаханных полей букеты из сорняков: „красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки; наглые маргаритки; молочно-белые, с ярко-желтой серединой „любишь-не любишь“ со своей прелой пряной вонью; желтая сурепка с своим медовым запахом“ и т. д.
Смешно в 68 лет мечтать, даже – что напишете новое замечательное, – даже если вы действительно Лев Толстой».
Лурье мечтал. Само слово «мечтать» Саня в письмах употреблял редко. Но, то и дело: если получится… когда встретимся, то… хорошо бы еще успеть… Только в последнем письме этих слов нет.
… Какая-то, знаете, напала напасть: стало трудно не то что писать (даже письма), а даже и читать (даже самую дешевую беллетристику). Как рукой – словно какая-то сила физически не пускает буквы в мозг, отводит глаза от текста, текст – от ума. Если это наказание, то очень обдуманное. Боюсь, не бывать мне больше литератором (ничего, положим, страшного, но ничего не делать целыми днями – непривычно, странно и крайне унизительно). И вряд ли осуществится предполагаемая Вами переписка. (Я предложил что-то вроде «Переписки из двух углов», опыт, который мы произвели в первом нашем и единственном номере возрожденного журнала «Ленинград» – Н.К.). А впрочем, как знать. Авось это состояние пройдет когда-нибудь. (Страшно и подумать, что будет, если нет.) В любом случае, мой номер – второй: либо сумею ответить, либо не сумею. Главное – спорить не о чем. Перед лицом столь наглого торжества всенародно-государственной подлости хочется только соглашаться друг с другом и благодарить судьбу за то, что есть с кем согласиться; за то, что несколько таких людей, как мы, еще живы. Мы, реально последние из тех, кто чувствовали смысл в словах: чтоб не пропасть поодиночке.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?