Текст книги "Хлопок одной ладонью"
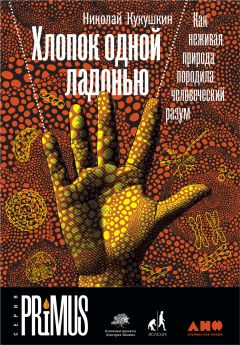
Автор книги: Николай Кукушкин
Жанр: Биология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
КСТАТИ
Мало того, что многие люди упускают неслучайность отбора, они обычно недооценивают сложность явлений, которые могут быть совершенно случайными.
Дебора Нолан, профессор статистики в Университете Калифорнии в Беркли, проводит на лекциях следующий эксперимент. Она делит студентов на две группы и выходит из аудитории. Одна из групп студентов должна 100 раз подбросить монету и записать результат: орел или решка. Другая группа монету не подбрасывает, а придумывает результат от балды. Нолан возвращается в аудиторию, смотрит на два результата и безошибочно угадывает, какой из них настоящий, а какой фальшивый.
Как она это делает? Очень просто: она ищет, в каком из вариантов самая длинная последовательность только из орлов или только из решек. Этот вариант и будет настоящим. Когда человек пытается представить случайность, ему кажется, что решка пять раз подряд – это слишком невероятно. Но если подбросить монету 100 раз, то почти всегда в получившейся последовательности орлов и решек будут повторения по шесть, семь, а то и восемь одинаковых результатов.
Я беззастенчиво украл эту идею и провожу этот эксперимент каждый семестр на лекции про происхождение жизни. Работает великолепно. Мне всегда кажется, что вот на этот раз наверняка не сработает, но пока такое случилось только один раз, и то по моей невнимательности. Студент, которому досталась «фальшивая» роль, поленился и записал уж совсем невероятный результат, в котором было по 15 орлов и решек подряд. Если бы я учел такой вариант, то без труда отсеял бы и эту фальшивку, но по привычке радостно ткнул в самую длинную последовательность.

Время против жизни
Читатель, возможно, уже обратил внимание, что все мои описания эволюции всегда содержат временной компонент: «постепенно», «рано или поздно», «в один прекрасный день». На этой ноте стоит вернуться к нашей затянутой автомобильной метафоре. Я предложил считать изменчивость топливом, наследственность колесами, а отбор водителем. Но у машины нет двигателя! «Двигатель эволюции» – это такая звонкая фраза, что ею обзывают и изменчивость, и наследственность, и отбор, и вообще все что угодно. (Британские ученые обнаружили, что двигатель эволюции – костяной член!) Но мне кажется, что двигатель у эволюции один: время.
Именно природой времени определяется тот принципиальный факт, что ничто не вечно. Не вечен камень с его уникальной формой, которая рано или поздно исчезнет без следа. Не вечен морской огурец, которому рано или поздно придется отдать концы или эквивалентные части тела. Не вечна молекула РНК, какой бы ни была ее последовательность. Что такое время? Это направление движения событий от порядка к хаосу, от сингулярности, предшествующей Большому взрыву, к гомогенному супу теплоты, в который Вселенная рано или поздно превратится. Что такое жизнь? Это противостояние хаосу, сохранение порядка вопреки беспорядку, размножение морского огурца вопреки его смерти, копирование РНК вопреки ее распаду. Время по определению ведет к исчезновению, а жизнь по определению исчезновению противостоит. Время протирает жизнь сквозь сито отбора и тем самым насыщает ее «хорошими идеями». Это и есть двигатель эволюции.
После Дарвина
Если отрешиться от личности Дарвина, то с точки зрения Космоса его теория – это жизнь на Земле, осознающая саму себя.
В середине XIX в., когда вышел труд «Происхождение видов», даже в окружавшем Дарвина образованном обществе идея биологической эволюции, то есть изменения видов со временем, была необычной и по религиозным соображениям рискованной. Дарвин, конечно, не первым догадался, что виды могут меняться. Но он сумел обосновать эту идею так, чтобы окружающие в нее не просто поверили, а увидели прямо у себя перед глазами.
Сама идея, что виды могут изменяться, сегодня уже давно не вызывает сомнений у ученых и даже вошла в бытовое сознание. Эволюцию можно наблюдать. Она видна в одомашнивании диких животных: например, в превращении волка в собаку за несколько тысяч лет сожительства с человеком. Она видна в геологической летописи: например, превращение плавника в руку восстановлено по ископаемым скелетам в мельчайших деталях. Эволюция ясно видна в лаборатории, где микроорганизмы и даже человеческие клетки эволюционируют прямо под микроскопом, а метод под названием «направленная эволюция» – это рутина биотехнологического производства.

С сегодняшней точки зрения интересно в теории Дарвина другое. Она не просто объясняет, как одни виды могут происходить из других: она объясняет, как все виды могут происходить из одного. Неважно какие: человек, птица, улитка, гриб, – все они в интерпретации Дарвина вдруг оказываются родственниками, параллельными ветвями одной и той же истории, начинающейся из одной точки. По Дарвину, все существующие виды – нынешние лидеры одной и той же бесконечной гонки за право не вымирать.
Теория Дарвина как бы добавила к человеческой картине мира дополнительное измерение. Раньше мы могли мыслить только текущим моментом, тремя измерениями пространства, в которых существует мир вокруг нас. Полтора века назад мы обнаружили, что у природы есть четвертое измерение – временнóе. От каждого из нас, как и от каждого живого существа на планете, в прошлое тянется нить, ведущая к началу времен. Только в этих четырех измерениях все вокруг и становится понятным.
Появление теории эволюции – это принципиальная отметка в истории человечества. Раньше люди были высшей формой жизни, а теперь они – одна из многих ее ветвей. Раньше мир был статичным: все многообразие существ просто существовало в той форме, которую ей когда-то дал Создатель. Теперь мир стал динамичным: не только за человеком, но за каждым живым существом, каждым их свойством и признаком в прошлое протянулась нить причинно-следственных связей, ведущая через тысячи поколений, через континенты и эпохи и в конечном итоге сходящаяся вместе с другими нитями к общему, единому первоисточнику всего живого. Эта совокупность равноценности и единства – переворот в отношениях человека и природы.
Британский биолог Ричард Докинз так описал значимость этого переворота:
«Разумная жизнь на той или иной планете достигает зрелости, когда ее носители впервые постигают смысл собственного существования. Если высшие существа из космоса когда– либо посетят Землю, первым вопросом, которым они зададутся, с тем чтобы установить уровень нашей цивилизации, будет: „Удалось ли им уже открыть эволюцию?“»22
Сам факт того, что мы, люди, своим умом дошли до «четырехмерной природы», это триумф. Но триумф не столько нашего вида, сколько всей жизни на Земле. Его бы не произошло без бактерий, его бы не произошло без растений, его бы не произошло, если бы черви не умели копать или если бы рыбы жили на суше. Наше существование – результат непрекращающейся череды событий, последовательно происходивших с каждым из наших предков за миллиарды лет, прошедшие с зарождения жизни.
В конечном итоге теория Дарвина – о том, что наша судьба неотделима от судьбы наших предков. Мне кажется, это-то и убило Роберта Фицроя.
3. Зачем все усложнять
А эту сложную машину
Я сделал сам из ячменя.
Даниил Хармс
Вплоть до середины XIX в. люди в основном думали, что болезни вызываются либо просто магическими способами, либо «дурным воздухом», либо «дурной кровью». Из-за «дурного воздуха», например, в Нью-Йорке улицы с 1811 г. стали прокладывать по сетке, чтобы воздух лучше проходил и народ был здоровее. Из-за «дурной крови» в Средние века всё лечили пиявками, которые эту дурную кровь якобы высасывали.
Когда в XIX в. из работ Луи Пастера и Роберта Коха выросла микробная теория инфекционных заболеваний, человечество вдруг осознало, что их мир наводнен полчищами мелких, невидимых, но очевидно гадких существ. И вот они-то и вызывают, оказывается, все болезни.
Поднялась паника. Газеты конца XIX – начала XX вв. пестрят сообщениями о всяких «убийцах микробов», чудо-препаратах, несущих смерть паразитам. Бактерии изображались отвратительными бесформенными злодеями, которых сознательные граждане заливали литрами хлорки. И. И. Мечников видел в гнилостных бактериях причину человеческого старения.
Человечество навалилось на микробную гадину и вскоре одержало крупную победу. Пенициллин, открытый в 1920-е гг. Александром Флемингом (якобы по случайности, а на самом деле, скорее, по наблюдательности1), был в этой войне как бы атомной бомбой. По крайней мере, так казалось изначально. Массовое производство пенициллина началось в 1943 г., во время Второй мировой войны, и тогда этот препарат считался панацеей от всех болезней2. Но уже к концу 1940-х гг. появились первые пациенты, чьи инфекции на пенициллин не реагировали3, 4. Им приходилось давать новые антибиотики, более сильные или как-нибудь иначе действующие.
В тот момент ученые открывали один антибиотик за другим, поэтому экзистенциальной проблемы не было. Но с 1950-х гг. темпы открытий замедлились, и с 1983 г. не было открыто ни одного принципиально нового класса антибиотиков широкого спектра действия (впрочем, отчасти это может быть связано и с интересами фармацевтических компаний, которым гораздо выгоднее вкладываться в хронические заболевания типа рака или болезни Альцгеймера). Старые антибиотики тем временем неуклонно теряли эффективность, так что весь накопленный «ядерный арсенал» постепенно приходил в негодность.
Раньше пациенту, устойчивому к одному антибиотику, всегда можно было предложить другой, более сильный. Сегодня речь идет уже об устойчивости к антибиотикам, сильнее которых нет ничего. Миллионы людей (особенно в Африке и Азии) погибают не потому, что от их инфекций нет лекарств, а потому, что эти лекарства больше не работают. Всемирная организация здравоохранения сегодня обсуждает неминуемое наступление «постантибиотиковой эры»5, 6 и в промышленно развитых странах. Человечеству в ближайшем будущем придется либо изобретать принципиально новые способы борьбы с бактериями, либо жить с реальностью смертельно опасных царапин и осложнений от хирургических операций.
Как же так получилось? Казалось бы, в войне человека, самого сложного существа на планете, с микробами, самыми простыми существами, у нас не должно быть затруднений в век космических кораблей и искусственного интеллекта. Тем не менее, проведя почти столетие в отступлении, сегодня микробы наносят нам ответный удар. Что пошло не так? Почему мы их снова боимся?
По-моему, мы недооценили микробов, потому что с самого начала неправильно поняли, что они из себя представляют.
Республика с фашистскими наклонностями
Словом «микроб» вообще-то давно уже пользуются только продавцы биодобавок – те самые, у которых в ходу слово «протеин». Раньше так обозначали все маленькое и примитивное, но современные биологи обычно называют конкретный тип микроорганизма: например, бактерии, археи, инфузории, дрожжи (но не вирусы, такие как возбудители гриппа или ОРВИ: те вообще стоят особняком от всего живого). Сегодня мы знаем, что микробы настолько разные существа, что объединять их в одну категорию – это как объединять человека и кустик клубники в категорию «макроб».
Микробов от «макробов», впрочем, отличает один принципиальный признак: их организм состоит из одной независимой клетки, тогда как человеческий и клубничный – из множества клеток, работающих заодно. Так что корректнее называть эти две категории одноклеточными и многоклеточными.
На уроке биологии клетка обычно описывается как кирпич (или его младший брат – «кирпичик»). Мы привыкли думать о клетках как о деталях, потому что сами из них состоим. С многоклеточной точки зрения микроорганизмы кажутся, соответственно, кирпичами на колесах. Это детали, плавающие сами по себе, неодушевленные пузыри на границе живого и неживого.
Но если смотреть на нашу планету из космоса, то становится понятно, что клетки – это прежде всего не детали, а организмы.
Во-первых, микробов очень много. По биомассе бактерий, например, в 30 раз больше, чем животных. Большинство организмов на планете состоит из одной клетки.
Во-вторых, многоклеточные в масштабах вечности – относительно недавнее изобретение, тогда как бóльшая часть истории жизни – это история одиночных клеток.
В-третьих, весь фундамент нашей многоклеточной жизни был заложен нашими одноклеточными предками и другими микроорганизмами, без которых сегодняшнего человека не представить. Одноклеточные придумали дыхание, хищничество, половое размножение и многое другое, что мы считаем базовыми свойствами собственного организма. Они придумали, как добывать пищу, заложили основу для отношений между мужчинами и женщинами, первыми вдохнули в атмосферу кислород и первыми вышли из моря на сушу.
В общем, как ни крути, а типичный организм – это клетка.
Что вообще такое организм? Можно сказать, что это машина для выживания генов. Но под такое описание подходит, например, любой белок – тоже машина, которая помогает генам выживать. Отличие организма в том, что это не просто машина, а машина, внутри которой гены живут. Если с ней что-то происходит, то это одинаково затрагивает все гены, ее населяющие.
Организм – это транспортное средство, на котором гены едут из точки А в точку Б. Точка А – это родители организма, а точка Б – его дети. В этих точках гены перепрыгивают в новые транспортные средства и продолжают ехать вперед. Это движение и есть выживание гена. Как читатель помнит, ген не материальный объект, а фрагмент информации, поэтому он выживает путем переезда из одного материального носителя в другой, из одного поколения в следующее.
Особенность взаимоотношения генов со своим транспортным средством состоит в том, что они его никогда не покидают. Гены всегда удваиваются внутри организмов, а новые организмы всегда, так или иначе, отпочковываются от старых. С самого начала времен и до наших дней гены, то есть собственно живая субстанция планеты, взаимодействуют с миром исключительно изнутри этих машин, на которых они плывут сквозь время.
Почему это так принципиально? Потому что это формализует общественные отношения между независимыми генами. Если организм на плаву, то все гены у него внутри выживают. Если он по какой-либо причине тонет, то все его гены прекращают существовать, независимо от того, насколько они были полезными поодиночке.
В этом и состоит суть организма как явления. Главное его свойство не столько в том, что он помогает генам выжить, а в том, что он замкнут и генам из него просто так не выйти[6]6
Из этого общего правила есть довольно важное и распространенное исключение: горизонтальный перенос генов. Это как раз движение генов не из поколения в поколение, а из клетки в клетку. Оно бывает у бактерий и архей, которые таким образом обмениваются информацией с окружающими клетками. У эукариот горизонтальный перенос генов встречается реже, то есть организм у них организменней, режим строже, гены сидят за железным занавесом.
[Закрыть]. Организм вынуждает свои гены к сотрудничеству на благо общего дела – у них просто нет иного выбора. Теперь они не просто гены, они – часть генома.
Эта идея организма с геномом напоминает одну печально известную политическую систему. Посмотрите на итальянский герб времен Муссолини: прутья, связанные ремнями в пучок («fascis» по-латыни, отсюда и слово «фашизм»), а из пучка торчит топор. Этот древний символ, на мой взгляд, великолепен в своей экспрессивности. Один прут сломать легко, а связку прутьев сломать трудно. И вообще, сейчас топором получишь!

Клеточная мембрана – главный элемент строения клетки, герметично изолирующий ее ДНК от окружающего пространства, – это как раз и есть такой фашистский ремень, связывающий гены в плотный топор, воюющий с миром за выживание. Идея организма состоит в том, что есть «свои гены», а есть «чужие гены». Организм работает на все свои гены в равной степени, и ни на чьи другие. Смысл клетки в том, что она замкнута в капсулу, которая умеет делиться, удваивая содержащиеся в ней гены, и никакие другие. При этом если гибнет клетка, гены гибнут коллективно. Ровно то же самое можно сказать и про наш многоклеточный организм.
КСТАТИ
Клеточная мембрана – непрерывный тонкий слой, отделяющий содержимое клетки, или цитоплазму, от окружающего мира, – это блестящее в своей простоте и элегантности инженерное решение.
Основу мембраны составляют липиды. Липид – форма органического вещества, к которой также относятся жиры. Мембранные липиды сложнее, чем жиры, откладываемые в жировой ткани и преобладающие в пище, но обладают отчасти похожими свойствами. Жиры, как известно, не любят воду в силу своей химической природы: если смешать масло с водой, они разбегутся в разные стороны и образуют два слоя. Но липиды в клеточной мембране отличаются раздвоением личности. Одна часть молекулы мембранного липида (ее иногда называют «хвост»), как и типичный жир, воду не любит. Но этот «хвост» прикреплен к «голове», которая, наоборот, стремится окружить себя водой (в химии это называется гидрофобностью и гидрофильностью, то есть водобоязнью и водолюбием).
Что произойдет, если такие молекулы смешать с водой? Головам будет хорошо, а хвостам некомфортно. Хвосты будут лихорадочно искать место без воды. Пытаться сгрудиться в каплю, в которой этой воды не будет. Но головы не хотят быть в середине жировой капли, они хотят быть в воде.
Как решить такую проблему? Нужно сгрудиться не в каплю, а в плоский слой, в котором головы плотно прижаты друг к другу и не пропускают воду. Такой слой можно замкнуть в шарик – мицеллу, а можно прижать к другому такому же слою так, чтобы головы смотрели наружу с двух сторон, а хвосты мирно отдыхали в своем маслянистом пространстве посередине. Двойной слой липидов, или липидный бислой, и составляет основу клеточной мембраны. Красота тут в том, что в основе такой настолько космически сложной и навороченной машины, как клетка, лежит механизм уровня учебника химии за седьмой класс: гидрофобность липидов. Целостность и неделимость организма как явления объясняется процессами, которые происходят при взбалтывании масла с водой.

Так что клетка – это не просто деталь организма, а его архетип. Во многом корректнее думать о людях как об одноклеточных, состоящих из множества клеток, чем о бактериях – как об отдельно взятых деталях многоклеточных. И все-таки наши с бактериями организмы различаются очень сильно. В этом и кроется наше недопонимание микробов.
Текучие когти
Потеря антибиотиками способности лечить инфекции происходит не из-за порчи самих антибиотиков. «Ядерный арсенал», который в данном случае приходит в негодность, не испаряется и не теряет химическую активность. Все дело в устойчивости, которую рано или поздно вырабатывают к любому антибиотику бактерии. «Устойчивость» здесь означает не устойчивость человека к инфекции, а устойчивость инфекции к веществу, которым ее пытаются убить.
Устойчивость к антибиотикам – это типичный дарвинизм. Сложно придумать более прямую демонстрацию эволюции в действии, работающую настолько безотказно и легко наблюдаемую в таких подробностях. Допустим, человек заразился стафилококком. У него в теле миллионы клеток этой бактерии. Ему дают антибиотик, который блокирует производство, допустим, бактериальной клеточной стенки. 99,99 % клеток стафилококка от этого погибают. Но бактерий такое количество, что часть из них по чистой случайности худо-бедно выживает.
Может оказаться, например, что у 0,01 % бактерий чуть отличается структура какого-нибудь клеточного фермента, да так удачно, что такой фермент может расщеплять антибиотик7. Это меньшинство бактерий продолжит кое-как размножаться, причем среди их потомства преимущество получат те, у которых фермент еще лучше расщепляет антибиотик. Человек чувствует себя выздоровевшим, потому что почти весь стафилококк погиб, и перестает принимать антибиотик. Но в это время выжившие стафилококки размножаются с новой силой и снова заполняют организм. Человек начинает снова принимать антибиотик, но теперь тот работает гораздо хуже, потому что весь его стафилококк состоит из потомства самых устойчивых клеток. Он эволюционировал.
Печальная в мировом смысле проблема состоит в том, что этот эволюционировавший стафилококк не просто сидит внутри своего носителя-человека, а заражает окружающих, проникает в больницы, в канализацию, в почву и постепенно замещает собой стафилококков, не обладающих устойчивостью к антибиотику. Cам факт принятия антибиотика автоматически создает отбор на устойчивость. А отбор, в свою очередь, создает эволюцию – не только в пределах организма пациента, а вообще во всем мире. Что бы мы ни кидали в бактерий, рано или поздно они наэволюционируют себе решение проблемы, и кидание потеряет смысл.
Мы, люди, ассоциируем себя с собственным организмом. Когда мы говорим «я», мы имеем в виду материальный объект, обладающий голосом, цветом волос, а также генами. Бактериям же в целом наплевать на собственные организмы. Они у них всегда максимально простые, дешевые и одноразовые. Бактерии мыслят группами, штаммами, ветвями генетического древа. Если бы они могли сказать «я», то они бы имели в виду не организмы, обладающие генами, а гены, плывущие сквозь время на сменных организмах.
На заре эпохи антибиотиков мы думали, что война с бактериями – это война с чем-то маленьким и примитивным. На самом деле это война с чем-то вечным и почти бессмертным.
Если воспринимать бактерию таким образом, то она кажется гораздо страшнее, чем толпа очень-очень простых человечков. Это аморфная, текучая масса генов, расфасованных по клеткам, которая способна решить любую проблему, что бы вы с ней ни делали. Это жидкий робот Т-1000 из «Терминатора-2», просачивающийся в любую щель. Это сказочный змей, у которого из отрубленной головы вырастают две.
Такой альтернативный способ смотреть на бактерии любопытен даже лингвистически. Русское название «бактерия» – это калька с латинского слова bacteria. Но bacteria – это множественное число, единственное число от которого – bacterium. То есть само слово «бактерия» по идее означает «много бактериумов».

Мы неправильно поняли микробов, потому что мы приняли бактерию за бактериумов. Бактерия – существо множественного числа. Мы же – существа-единицы. Этим различием мы обязаны многим своим предкам, но прежде всего первым эукариотам, жившим среди бактерий порядка 2 млрд лет назад8, примерно на полпути от происхождения жизни до нашего времени.
Два кита или три черепахи?
Раньше считалось, что существует два типа клеток: один примитивный, другой продвинутый. Первые из них – скучные пузыри без интересной формы, многоклеточности, сложного поведения и вообще каких-либо признаков того, что мы, люди, считаем показателем крутизны в живом организме. Это прокариоты. Второй тип – эукариоты – организмы с гораздо более сложными клетками, зачастую состоящие из большого их количества, как, например, в нашем случае. У эукариотических клеток, в отличие от прокариотических, есть ядро, или «карион» (κάρυον) по-древнегречески (не спрашивайте, почему ученым прошлого было мало латыни). Слово «эу» (εὖ) означает «настоящий», а приставка «про-» (πρό-) – что-то вроде «недо-». Ну, все понятно: вот настоящие, правильные клетки с ядрами, а вот всякий ширпотреб.
Когда в 1970-е гг. появились методы секвенирования, то есть «чтения» генов, эта иерархия пошатнулась.
Принципиальную роль в этом сыграл Карл Вёзе, американский микробиолог, который первым придумал использовать сравнения генов для реконструкции эволюционной истории. Секвенирование позволило сравнивать организмы не просто по принципу «похоже / непохоже» или «сложно / просто», а математически. Проанализировав различия в ДНК, можно сопоставлять время эволюционного расхождения нескольких групп. В общих чертах принцип состоит в том, что мутации в генах происходят более-менее регулярно, если усреднять промежутки времени масштабами в миллионы лет (из этого правила, правда, есть масса исключений, что сильно затрудняет жизнь эволюционным биологам). В целом чем больше у двух видов различается один и тот же генный участок, тем дольше они существуют независимо друг от друга, то есть тем древнее время их эволюционного расхождения. Если у меня где-то в геноме записано АААГА, у мыши АААГГ, а у таракана ЦЦЦГЦ, то с тараканом мы разошлись раньше, чем с мышью, потому что наши последовательности сильнее отличаются.
Если брать не три вида, а тысячи, и не пять «букв», а длинные отрезки генома, то теоретически можно подобным образом узнать, какими именно родственными связями кто с кем связан, то есть восстановить всю последовательность эволюционных событий, породивших разнообразие сегодняшних видов. Используя этот метод, Карл Вёзе первым рассчитал масштабное древо жизни, не полагаясь на видимые признаки и интуицию.
К сегодняшнему дню это древо рассчитано эволюционными биологами в мельчайших деталях, хотя хватает на нем и спорных участков. Без таких знаний о родственных связях между живыми организмами представить современную науку просто невозможно. Но даже то самое первое древо Вёзе, описывающее жизнь на Земле в самых общих чертах, коренным образом изменило наше представление о системе природы. Последовательности ДНК, которые Вёзе отсеквенировал, разделились при анализе не на две ветви – эукариот и прокариот, как можно было предположить, – а на три. Эти ветви получили название доменов, то есть групп, стоящих выше царств (вроде царства животных или царства растений) и даже надцарств (есть и такие).
КСТАТИ
Система природы Карла Линнея включала знаменитые шесть рангов: царство, класс, отряд, семейство, род, вид. Но с развитием биологии природа в эти ранги перестала влезать. К шести рангам вскоре добавился седьмой – тип, сидящий между царством и классом. Затем стали возникать промежуточные ранги, такие как «надтип», «подцарство» или «инфракласс», – это, например, сумчатые, которые больше, чем отряд опоссумов, но меньше, чем класс млекопитающих. Сегодня все эти ранги чаще называют просто «группами», поясняя, какая из групп в пределах какой находится. На самом деле какого-то определенного количества рангов в природе нет и быть не может. Каждое эволюционное изменение – это новое разветвление древа жизни. Каждый раз, когда два вида расходятся в разные стороны от общего предка, все их дальнейшее потомство можно считать двумя независимыми группами. Соответственно, на каждой развилке древа жизни можно в принципе придумывать новые группы, хотя на практике мы пользуемся только определенными, традиционными развилками. Человек – одновременно эукариот, животное, позвоночное, млекопитающее и примат, – но это всего лишь 5 рангов, тогда как при желании между каждыми двумя можно вставить еще 20. Как на карте при разном увеличении прорисовываются разные детали, так и эволюционное древо может иметь разную детализацию, а вместе с тем и разное количество рангов.
Оказалось, что такого домена, как «прокариоты», просто нет. Прокариоты – это не единая группа, а два разных варианта живых организмов, столь же далеких в эволюционных координатах друг от друга, как человек от йогурта. Внешне они выглядят очень похоже, но сравнение их генов показывает, что они развивались независимо друг от друга миллиарды лет. Одна из этих групп – бактерии. Другая группа раньше считалась подгруппой бактерий под названием «архебактерии». Вёзе поднял ее статус до отдельного домена, и «бактерии» от названия отвалились. Новоиспеченный домен археи встал в один ряд с бактериями и эукариотами9.
Сегодня многие эволюционные биологи хотят пересмотреть и «тройное» деление жизни. Они считают, что эукариоты – мы с вами – появились не одновременно с двумя другими доменами жизни, а существенно позже. Бактерии и, вероятно, археи к моменту их возникновения уже давно существовали, причем в планетарных масштабах и количествах. Эукариоты же произошли в пределах архей. Следуя такой версии, формально все растения, грибы и животные принадлежат к одному их странному семейству8, 10.
Так что возможно, в мире всего два типа клеток, как и считалось раньше, до Карла Вёзе. Только эти два типа – не прокариоты и эукариоты, а бактерии и археи. Мы же, эукариоты, по-видимому, произошли от архей. Однако, как мы вскоре увидим, бактерии тоже сыграли ключевую роль в появлении нашего домена. История эукариот гораздо сложнее и интереснее, чем просто «третий тип клетки».

Задача этой книги – объяснить чудо человеческого существования. Я не первый, кто интересуется происхождением человека и ищет ответы на вопросы о себе в своем эволюционном прошлом. Но фраза «эволюция человека» обычно означает его происхождение от обезьяны, то есть события последних сотен тысяч, в лучшем случае нескольких миллионов лет. На мой взгляд, истоки человеческой сущности нужно искать гораздо раньше, в событиях далекого, океанического прошлого, и из всех таких моментов, определивших траекторию человеческой родословной, важнейшим я считаю происхождение домена эукариот.
Чтобы понять человека, нужно понять эукариогенез. А чтобы понять эукариогенез, нужно понять нечто на первый взгляд совершенно нечеловеческое: фотосинтез.
Фотосинтез
Синтез значит «сборка», «соединение». Если спросить у большинства людей, что синтезируется в фотосинтезе, они уверенно ответят «кислород». Фотосинтез – это такое слово, от которого просто пахнет свежим воздухом.
Кислород в процессе фотосинтеза действительно возникает. Но суть фотосинтеза в другом.
Возьмем, к примеру, бутерброд с икрой (главный деликатес постсоветского пространства). Он состоит из булки, масла и рыбьих яиц. Из чего сделана булка? Из пшеницы. То есть булку сделал фотосинтез. Из чего сделано масло? Из молока, а оно – из травы, которую ест корова. То есть масло тоже сделал фотосинтез. Из чего сделана икра? Из лосося-мамы, а та – из других, мелких рыб, а те – из водорослей, которыми они питаются. То есть и икру в конечном итоге тоже сделал фотосинтез.
Фотосинтез – это не синтез кислорода. Фотосинтез – это синтез еды. Это главный источник пищи на планете, который кормит практически все живое.
Чтобы сделать еду, нужно откуда-то достать атомы углерода, из которых эта еда, углеводы, жиры и так далее, будет состоять. Углерод в природе чаще всего встречается в форме углекислого газа, и за редкими исключениями именно углекислый газ – первичный источник всего углерода в пище, которую потребляют живые организмы.
Но самое сложное в фотосинтезе – где взять энергию. В энергии смысл любого питательного вещества. Чтобы она там была, ее надо туда вложить. Это происходит, когда из углекислого газа выковываются кольца углеводов и цепи жиров. В ходе этого процесса энергия запасается в структуре их молекул и в дальнейшем используется как самим фотосинтезирующим организмом, так и тем, кто его съест. Но где взять изначальную энергию для синтеза еды из углекислого газа, если не из других питательных веществ?

Читатель уже знает ответ: на Солнце.
Солнце – это застывший во времени и пространстве термоядерный взрыв. Из него постоянно извергается свет и жар, которые долетают по прямой линии до нашей планеты в форме фотонов. Фотоны – как бы куски энергии света. Бóльшая часть из них отражается атмосферой или отскакивает от поверхности земли и улетает обратно в космос, рассеиваясь по бесконечному пространству. Но некоторые попадают точно на поверхность растения. Они пролетают сквозь прозрачное восковое покрытие, сквозь клеточную стенку и мембрану растительной клетки, сквозь мембрану ее хлоропласта – внутриклеточной станции фотосинтеза – и наконец ударяются о специально предназначенную для этого молекулярную антенну, которая и придает зеленому листу его цвет. Это хлорофилл, ловец фотонов.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































