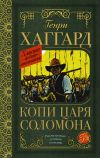Текст книги "Круг царя Соломона"
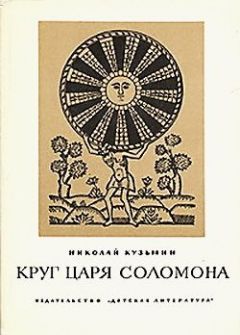
Автор книги: Николай Кузьмин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
На базаре
Базарный день у нас в пятницу. В этот день на улицах города полно мужиков в белых валенках и нагольных овчинных тулупах. Они толпятся у казенки, льют себе в бородатые пасти прямо из горлышка водку и, чавкая, закусывают городским калачом. Захмелев, они начинают плутать по городским улицам и ищут помощи у встречных: «Сделай милость, малец, скажи, как пройти на базар?» Отвечаешь с торопливой готовностью и оттого немного пискливо: «Идите все прямо, а после женского училища святого Иосифа поверните направо к собору, а за собором и будет базар». Он уйдет, а ты спохватишься – а ну-ка он неграмотный и не сумеет прочитать вывеску училища святого Иосифа. И побежишь за ним следом, да так и добежишь до базара.
На улице иней, морозно, невысокое зимнее солнце, розовые дымы из печных труб. На базарной площади стоят подряд сани с поднятыми оглоблями. Накрытые дерюжными попонами мохнатые, побелевшие от инея лошади жуют сено. Пахнет щепным товаром,[4]4
Щепной товар – изделия из дерева, деревянная посуда.
[Закрыть] кожей, воблой, горячими калачами, морозцем. На снегу – корчаги, горшки, кувшины, плошки, квашни, кадушки, корыта, лопаты, метлы, оси, колеса, оглобли. На своем рундуке знаменитый на весь уезд пекарь Андрей не успевает отпускать связки своих знаменитых баранок. На прилавке у мясника привычная, но каждый раз вызывающая содрогание картина ада: телячьи и бараньи головы с прикушенным языком и остекленевшими глазами и еще всякое гадкое, на что тошно смотреть.
А вот и пестрый ларь с книжками и лубочными картинками. Здесь я прилипаю надолго. В кармане у меня медяшка, которую я волен истратить на что хочу. У картинной выставки, развешанной на веревочках, всегда толпа народу. Картинки на все вкусы; вот душеспасительные: «Ступени человеческой жизни», «Изображение святой горы Афонской»; есть охотничьи сюжеты: «Охота на тигра», «Охота на медведя», «Охота на кабанов»; есть на нежный девичий вкус: модная песня «Чудный месяц плывет над рекою», красавица с голубком, нарядные детки на ослике со стишками:
Маленькие дети
Вздумали кататься
И втроем решили
На осла взобраться.
Ваня сидел правил,
Играл Петя во рожок.
Ослик их доставил
Скоро на лужок.
Вызывает горячее сочувствие «Отец-бур и его десять сыновей, вооруженные для защиты родины против англичан». Герои пестро разодеты в разноцветные куртки и брюки – красные, синие, желтые; у каждого ружье и лента с патронами через плечо. Тут же изображены президент Трансваальской республики Крюгер с седою бородой воротником и генерал Кронье, «геройски защищавшийся в течение 11 дней с 3000 буров против 40000 англичан».
Но более всего потрясает своим драматизмом картина «Волки зимой», изображающая нападение волчьей стаи на проезжающих. Безымянный поэт описывает ужасы этого события в стихах эпически торжественных. Он начинает мирной картиной зимней природы и заканчивает строфами скорбными, как панихида:
И если путникам случится
Среди голодной стаи очутиться
На коне или в повозке без защиты,
Их следы будут сокрыты
Под глубокой снежной пеленой
И обречены на вечный покой.
Перечитав все подписи под картинками, перехожу к рассмотрению книжек: «Житие Евстафия Плакиды», «Как солдат спас жизнь Петра Великого», «Два колдуна и ведьма за Днепром», «Разуваевские мужики у московской кумы», песенки, сонники, гадательные листы с кругами царя Соломона. Есть и такие, которые мною уже прочитаны: «Анекдоты о шуте Балакиреве», «Гуак, или Непреоборимая верность».
После долгих колебаний делаю наконец выбор: плачу две копейки и уношу с собой «Путешествие Трифона Коробейникова по святым местам», в котором заманчивые названия глав – «О пупе земли», «О птице Строфокамил» – сулят читателю блаженные минуты диковинных откровений.
Я стал ходить в школу, и мне купили резиновые калоши. Ну и натерпелся я с ними мучений! Калоши тогда были у нас внове. Фасон у них был не теперешний, а высокий, выше щиколотки. А в школе настоящие ребята ходили в сапогах, штаны в заправку, и калош не носили – калоши были признаком барства, изнеженности. Мальчиков в калошах встречали насмешками, гиком, песенкой:
Эй, извозчик, подай лошадь!
Иль не видишь: я в калошах? —
дескать, такому щеголю не пристало ходить пешком, а надо ездить на извозчике.
Во избежание позора я, не доходя до училища, снимал проклятые калоши и прятал в сумку, а в прихожей украдкой совал их за ларь.
После уроков приходилось пережидать всех и уходить последним, чтобы достать калоши из тайника, сложить в сумку, а перед самым домом надеть их на ноги и явиться домой в калошах.
– Где ты их так изнутри загваздал? – удивлялась мать.
Так продолжалось все три года, пока я был в начальной школе. Впрочем, зима у нас морозная, зимой все ходят в валенках. В «градском» училище мои калоши вышли из подполья и зажили нормальной жизнью. Здесь калоше-носителей было большинство. Я вспоминаю, как два ученика заспорили у вешалки из-за калош: чьи – чьи? Дело кончилось дракой. В спор пришлось вмешаться инспектору. Помню, как один из претендентов упорно уверял: «С места не сойти, это моё калоши!»
Это странное «моё» и осталось в памяти. В наших местах иногда говорят «мое» вместо «мои»: «Мое – труды, твое – деньги».
Вера отцов
Однажды отец получил письмо с иностранной маркой из Турции. В письме стояло:
Боголюбивый благодетель
Василий Васильевич!
Мир Вам и спасение от Господа Нашего Иисуса Христа! Честь имеем поздравить Ваше Боголюбие с душеспасительным постом и с наступающим великим Праздником Рождества Христова и Новым Годом! Да оградит Господь Вашу драгоценную жизнь миром и благословит телесным здоровьем и изобилием всех земных благ, а равно и прочими своими Небесными дарами к душевному спасению.
Письмо было с Афона, из православного монастыря, за подписью самого настоятеля, с печатью, на которой было изображено всевидящее око. В конце письма выражалась надежда, что «Ваше Боголюбие не оставит без воспоминаний и нашу худость и нужду, за что воздаст Вам своею милостью Милосердный Господь, который и за чашу поданную холодной воды обещал подающему награду». Далее сообщался адрес и разъяснение, как посылать деньги и посылки («например: муку, крупу и другие тяжеловесные ящики и тюки»).
Подумать только! Где-то за морем, в далекой Турции проведали о боголюбивом портном Василии Васильевиче и вот потрудились написать письмо и прислали картинку с изображением святой горы Афонской. Это о ней поется:
Гора Афон, гора святая,
Не знаю я твоих красот,
И твоего земного рая,
И под тобой шумящих вод!
И где только они сумели разыскать наш адрес?
Отец расчувствовался и послал монахам денежным письмом три рубля. Афонские же письма и потом приходили не раз, но оказалось, что их получали многие жители города. Выяснилось, что получали эти письма те же, кто получал газету. Похоже, что монахи разузнавали адреса через газету и письма рассылали без разбору, а не только самым благочестивым.
Отец всегда вставал раньше всех в доме. Умывшись, он становился столбом перед иконами, шептал молитвы, клал поклоны. Потом у икон молились мать и бабушка. Следили, чтобы и дети не забывали молиться. Если кто торопился и чересчур быстро управлялся с религиозными обязанностями, тому говорили: «Что же это, одному кивнул, другому моргнул, а третий и сам догадался? Иди перемаливайся!»
Посты в семье соблюдались строго. «Оскоромиться», то есть съесть что-нибудь мясное или молочное в постный день, считалось большим грехом. Кроме постоянных постных дней – среды и пятницы, были многодневные посты перед большими праздниками: перед рождеством, успеньем, петровым днем, а самый длинный, семинедельный великий пост – перед праздником пасхи.
Дни ранней весны, великопостные звоны, молитва Ефрема Сирина, переложенная Пушкиным в стихи, распускающаяся верба, стояние со свечками на ночной службе «двенадцати евангелий», ручьи на улицах и полуночная заутреня на пасху…
Черная, теплая ночь, гул колоколов, колокольня в разноцветных фонариках, внутри церкви тысячи огней в подсвечниках и паникадилах, зажигаемые священником сразу с помощью «пороховой нитки», веселые плясовые напевы пасхальных богослужений – во всем этом была своя поэзия, поэзия весны и евангельских образов, она трогала душу.
Летом привозили из Нижне-Ломовского монастыря чудотворную икону Казанской божьей матери. Встречали ее за городом в поле. Жаркий день. Между нив и лугов движутся толпы народа, колышутся в воздухе на высоких древках хоругви, духовенство в парчовых праздничных ризах, в экипажах – местное начальство и барыни под кружевными зонтиками.
При встрече – молебен с акафистом под открытым небом. Чудотворная в богатом золотом окладе, несут ее на белых полотенцах именитые бородачи из местного купечества. Некоторым счастливцам удается на ходу, согнувшись в три погибели, поднырнуть под икону – сподобиться благодати.
«Заступнице усердная, мати господа вышнего… Не имамы иные помощи, не имамы иные надежды, разве тебе, владычице…» – поет хор. Толпа на коленях, бабы плачут: «Ты нас заступи, на тебе надеемся и тобою хвалимся…»
Потом монахи целый месяц ходили с чудотворною по городу из дома в дом, служили молебны, кропили стены святой водой и собирали дань в монастырскую кружку.
Еще помнится: всенощная летом – столбы ладанного дыма освещены косыми лучами солнца, желтыми, синими, зелеными от цветных стекол в окнах храма, хор поет «Свете тихий», раскрыты настежь все двери, ликующий визг касаток врывается снаружи.
Я пел в церковном хоре дискантом, запомнил через это множество молитв и псалмов и поэтому сейчас разбираюсь в церковнославянской печати. Из священного писания самое большое впечатление произвело «Откровение Иоанна Богослова» – жутко было (страшнее «Вия»!) читать эти мрачные фантазии о конце мира.
Затем наступила критическая пора первых сомнений в бытии божием, а потом крушение веры отцов и таимый от родных атеизм, который мы, юные безбожники, несли в себе с гордостью, как знак посвящения в тайный орден свободомыслящих.
Но в реальном училище, даже в старших классах, нас еще гоняли, построив парами, в церковь к обедне, заставляли говеть, исповедоваться и причащаться под наблюдением надзирателей, да еще требовали представления от попа справки об исповеди и причащении. Эта религия из-под палки не могла уже вернуть нас «в лоно церкви», скорее наоборот, ожесточала и толкала на протест.
Мы были в последнем классе реального училища, когда во время великопостного говения мои друзья Леня Н. и Ваня Ш. открылись мне, что они сговорились выплюнуть причастие («тело и кровь Христову»), и сделали это. Я внутренне похолодел, представив всю опасность их поступка: за это им грозило не только исключение из училища, но церковный суд и заточение в монастырь за кощунство. Вместе с тем я завидовал им, их героизму: «Почему же вы мне раньше не сказали? И я бы мог…» – «Ну, ты в хоре, у всех на виду, тебе это было бы трудно».
Они были потом убиты на войне. Но среди моих школьных сверстников столько убитых, что я не имею разумных оснований думать, что этих бог особенно покарал, припомнив их греховный поступок.
Счастье
Счастье, какое оно?
На пороге нашего дома была прибита подкова, а на притолоке двери наведен копотью крещенской свечи черный крест. Подкова приводила в дом счастье, крест защищал от напастей. Черный таракан, выползший из своей темной щели и торопливо перебегающий по освещенному месту, считался вестником счастья. Счастье таилось повсюду. Его искали в веточках сирени: цветок о пяти лепестках приносил счастье. У детей искали примет счастливой судьбы: много родинок – к счастью, двойная макушка – к счастью, косичка на шее у мальчика – к счастью. Бабушка, качая внучат в зыбке, пела:
Если вырастешь большой,
Будешь в золоте ходить…
Эти маленькие счастливцы рано умирали. Детские гробики в нашем быту появлялись часто. Доброжелательная соседка, любуясь младенцем на руках у матери, восклицала: «Да какой же хороший, да пригожий, да нарядный, чистый андел! Кума, отложи-ка ты ему это платьице на смерть!»
В кошельке у отца лежал сдвоенный орех – «чтобы деньги водились». Найденная на дороге подкова порождала сладкие надежды. На что? Да мало ли было таких нечаянных случаев! Моя двоюродная сестра Наташа была счастливая – она часто находила на дороге медные монетки, а один раз нашла затоптанный в пыли платок, а в нем завязанные в узелке рубль бумажкой и семьдесят четыре копейки мелочью. Наш дальний родственник из Кирсанова, Ширяев, получил нежданно-негаданно в наследство парикмахерскую со всем оборудованием. А однажды на моих глазах счастье привалило Еньке Макарову. Мы играли втроем на заросшем кустами пустыре: Енька с братом и я. Енька побежал под бузину и кричит: «Чур одному!» Смотрим – узел, а в нем мануфактура! Енька отнес узел матери, а Макариха говорит: «Только, чур, ребята, молчок, а то греха не оберешься». Я побожился, что не скажу, а Макариха потом из этой материи Еньке с братом рубашки сшила.

В городе нашем часто устраивались лотереи-аллегри, на которых обычно главной приманкой были выигрыши: самовар и корова. Отец не пропускал ни одной лотереи. Он входил в азарт, терял голову, вынимал билет за билетом и, проиграв до копейки все, что было в кармане, с ошалелым и смущенным видом приходил домой и выгружал из карманов выигрыши: карандаши, английские булавки, пуговицы к кальсонам, маленькое круглое зеркальце, губную гармошку, копеечный перстенек.
На ярмарке он забывал себя у тира с призами или у балагана, где метали кольца на гвозди, под которыми стояли выигрыши – гармоника, лампа, гипсовая кошка. Я стою рядом, а он торопливо бормочет: «Подожди-ка, я еще разок попробую», кидает и кидает кольца и никак не может оторваться.
Над площадью стоит ярмарочный шум и гам, солнце печет нещадно, дудят в дудки их счастливые обладатели, гудят шарманки у каруселей. Меня тянет поскорее попасть в ряды, где бабы сидят у заткнутых тряпицами корчаг и продают сыченую брагу, к прилавкам, где из больших стеклянных кувшинов разливают в стаканы малиново-розовый и ярко-желтый от фуксина лимонад, где торгуют маковками и косхалвой, в сладкой замазке которой можно на полдня завязить зубы и лишиться дара речи. А отец все свое: «Подожди, потерпи малость, сейчас выиграем…» Мальчишками мы мечтали о цветке папоротника, о кладах, зарытых в земле, о корчагах с червонцами. Мне как-то попалась в руки карта нашего уезда, на которой были кружками и квадратиками отмечены археологически интересные пункты – курганы и городища. Этот листок, вырванный из какого-нибудь сборника трудов земских статистиков, казался мне полным заманчивых обещаний, не меньше, чем пиратские документы из «Золотого жука» или «Острова сокровищ». Один кружок указывал совсем не дальнее место – при слиянии Сердобы и Хопра у села Куракина. Там жил мой приятель по школе Федя Щегольков, которому я и доверил тайну документа. Целую зиму мы строили планы раскопок и намечтали невесть чего. Какие сокровища таило в себе древнее городище?
Мы едва дождались каникул, и вот наша экспедиция в пути. В Куракине мы вооружились лопатами и отправились на раскопки. Мы нашли место, указанное на карте. Оно выглядело просто и буднично и совсем не походило на таинственный «Остров сокровищ»: поросший мелким ивняком берег, на песке – коровьи и овечьи следы.
Мы стали копать наудачу: в одном месте, другом, третьем – ничего!
Принялись копать снова и снова, и хоть бы на грошик счастья! Мужик с противоположного берега заметил нашу работу и крикнул: «Ребята, да разве в песке червей копают? Ступайте, вон в назьме за ригой их сколько хошь». Он подумал, что мы копаем червей для рыбной ловли.
Мы смутились, бросили лопаты и полезли купаться в Хопер. Вода была уже теплая. Мы долго плавали, плескались, валялись на солнышке в песке и не знали тогда, что это и было счастье.
Фотограф Пенский
В «чистой горнице», где находится большое трюмо, перед которым мама примеряет платья на заказчицах, стоит круглый столик, покрытый ручной вязки гарусной накидкой, и на нем покоится пузатый семейный альбом с фотографиями. С его страниц глядят знакомые дяди в непривычных для них крахмальных манишках и при галстуках и тетки в праздничных платьях, отделанных аграмантом и плисом. У всех напряженные лица и выпученные глаза. Вот брат отца – дядя Паша в папахе, в черкеске с газырями, с кинжалом и шашкой – в форме Осетинского конного дивизиона, в котором он служил на сверхсрочной службе военным писарем. Тетя Наташа, сестра матери, монашенка – в апостольнике, с четками в руках. Тетя Поля с барышней, у которой она служила В няньках. Знакомый приказчик Алексей Агафонович Суров увековечил на снимке и себя, и супругу, и все свои меховые вещи: на нем серая каракулевая шапка и хорьковая шуба с кенгуровым воротником шалью, жена в плюшевой ротонде с воротником под куницу, в руках у нее муфта с хвостиками.
Но мне всего интересней фотографии молодых отца с матерью. У отца пробиваются усы, прическа с начесом на лоб, он в вышитой сорочке и сюртуке. Мать в белом подвенечном платье, с кружевной наколкой и восковыми цветами в волосах. На фоне – наше знакомое стеганое одеяло, потому что фотография снята не в ателье, а во дворе, и снимал ее приятель отца – фотограф Пенский.

Всегда и всюду опаздывающий злодей Пенский не попал, как обещал, на свадьбу приятеля, а заявился спустя полгода. Мать была беременна, и беременность была уже заметна. Но ей, портнихе, одевавшей своими руками стольких невест к венцу, так мечталось сфотографироваться в свадебном уборе, что она кое-как натянула на располневший живот свое белое подвенечное платье и предстала в таком виде перед объективом.
Пенский и потом не раз приезжал в наш город открывать собственную фотографию, и в моей памяти эти приезды остались в сиянии особого праздничного блеска.
С близоруким прищуром добрых своих глаз, борода вразлет на обе стороны, одетый элегантно и небрежно, рассеянный и веселый, появлялся праздничный Пенский в мастерской у отца. В Кирсанове он работал ретушером в фотографии. Про него говорили, что он мог бы стать «настоящим» художником, если бы не его «слабость». Может быть, он действительно был учеником Академии художеств; в ту пору многие даже из окончивших академию, убоявшись превратностей судьбы на шатком и неверном пути художника, избирали более надежную карьеру мастера «фотографической живописи».
Пенский привозил всем разные подарки, а детям горы сладостей, игрушки, книжки. Мы его любили и с сестрой разыгрывали для него диалоги «Афоньки нового» и «барина голого»
– Афонька новый!
– Что, барин голый?
– Подай чаю!
– Сейчас накачаю.
– Чего, чего говоришь?
– Сейчас подаю.
И так далее.

Пенский умирал со смеху, слушая эти нехитрые представления, и заставлял нас повторять их много раз.
Он останавливался в «номерах для приезжающих» вдовы Поповой и каждый день с утра приходил к отцу, садился у катка, покуривал, строил планы.
– Заказал, Вася, афиши в типографии Бернштейна в три краски, с раскатом: сверху красный цвет, посередке лиловый, внизу синий. Отлично будет.
– Все на шик, все на выхвалку, – говорит отец неодобрительно. – Ну, а как теперь насчет «от лукавого»?
Отец выразительно щелкает себя по глотке.
– Дал зарок, Вася, а ну ее к дьяволу! Пора за ум взяться.
– Ну, смотри держись! А то знаешь, как свинья зарекалась кой-чего есть, да не вытерпела. А ты бы, пока заказов у тебя нет, снял нас на карточку.
– Подожди, Вася, дай распаковаться.
Скоро на заборах в городе появились напечатанные тремя красками афиши Пенского. В них доводилось до сведения почтеннейшей публики, что в ближайшее время откроется

Снимки кабинетные, визитные и т. д.
Увеличение портретов с раскраской в натуральные цвета.
Изящные паспарту с художественными виньетками.
Цены умеренные. Негативы хранятся два года.
Пенский весь в хлопотах. Он снимает помещение, закупает тес для ателье, торгуется с плотниками. Но хозяйские радости тешат его недолго и скоро надоедают ему.
В шляпе набекрень, с запахом дорогих папирос и коньяку заявлялся он вдруг, нагруженный кульками со снедью, бутылками, конфетами, пряниками, орехами. Отец смотрел с осуждением на это мотовство:
– Не выйдет из тебя хозяин, Виктор Степанович, – собираешь крохами, а тратишь ворохами.
– Брось ворчать, Вася, попразднуем!
– Что за праздники? Иваны Бражники? Или алырники-именинники да лодыри с ними?
– Ну, ну, возьми папиросочку!
– Папиросы Дюбек, от которых сам черт убег? Нет, уж я лучше своего расейского. – И отец закуривал козью ножку.
Не встречая у отца сочувствия, Пенский шел в мастерскую к матери, где у большого стола под лампой-«молнией» сидели за работой девушки, и, становясь в позу, декламировал:
Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей —
Вот арфа золотая…
Он высыпал конфеты и орехи из своих кульков на стол:
– Вот вам гостинец, а вы мне за это спойте.
– Да что спеть-то?
– Ну небось сами знаете, мою любимую: «Жену ямщика».
Все делают вид, что даже и не замечают гостинцев, рассыпанных на столе, а бойкая насмешница Даша Казанцева говорит без улыбки, не поднимая глаз от работы: «Ой, батюшки светы, эдакая страсть да к ночи! Лучше мы вам споем чего повеселее!»
– Нет, нет, не надо веселого! «Жену ямщика», ну пожалуйста!
Пенский ложится в углу на кушетку и закрывает глаза в предвкушении сердцещипательной песни. Певицы перемигиваются и начинают вдруг громко и визгливо:
Зачем ты, безумная, губишь
Того, кто увлекся тобой?
Ужели меня ты не любишь?
Не любишь, так бог же с тобой!
Пенский вскакивает, морщась, как от боли:
– Не надо, не надо, ради бога!
Он укладывается снова, закуривает папироску, заводит глаза, и вот Даша запевает низким грудным голосом:
Жгуч мороз трескучий,
На дворе темно.
Серебристый иней
Запушил окно.
– Вот это хорошо, вот за это спасибо, – бормочет Пенский.
Дремлет подле печки,
Прислонясь к стене,
Мальчуган курчавый
В старом зипуне.
Песня длинная, жалобная; мелодия в ней тоскливая, монотонная, заунывная, как вой зимней вьюги. Стук в сенях – появляется вестник:
Вот мужик плечистый
Сильно дверь рванул,
На пороге с шапки
Иней отряхнул.
……
Минута патетическая, у певиц на глазах слезы. Бородатый Пенский рыдает в три ручья, закрыв лицо рукой и по-детски всхлипывая.
«А мой муж?» – спросила
Ямщика жена,
И белее снега
Сделалась она.
«Да, в Москву приехав,
Там он захворал,
И господь бедняге
По душу послал».
Песня кончена. Пенский пытается закурить намокшую от слез папироску и с досадой бросает ее. Девочки смущены и горды действием своего искусства: от их пения плачет большой бородатый мужчина.
После этого Пенский исчезает надолго. Иногда он появляется, шумный и пьяный, со своими кульками и бутылками и пропадает снова, пока не растрясет все свои капиталы по трактирам.
А потом, похудевший и полинявший, приходил он к отцу занять денег на обратный билет в Кирсанов. Артистическое ателье художественной фотографии В. С. Пенского так никогда и не было открыто в нашем городе.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?