Читать книгу "Повести и рассказы"
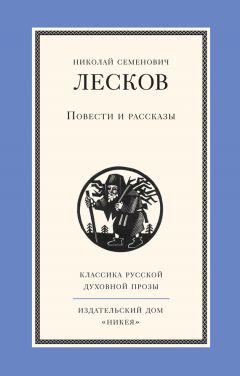
Автор книги: Николай Лесков
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава двенадцатая
Я тогда ни за что не хотел, чтобы Сакен допускал, будто я простил и скрыл полученную мною пощечину из-за того, чтобы мне можно было на службе оставаться. Ужасная глупость! Не все ли это равно? Теперь это кажется смешно, а в тогдашнем диком состоянии я в самом деле полагал немножко свою честь в таких пустяках, как постороннее мнение… Ночей не спал: одну ночь в карауле не спал, а потом три ночи не спал от волнения. Обидно было, что товарищи обо мне нехорошо думают и что Сакен обо мне нехорошо думает! Надо, видите, так, чтобы все о нас хорошо думали!..
Опять из-за этого всю ночь не спал и на другой день встал рано и являюсь утром в сакенскую приемную. Там был только еще один аудитор, а потом и другие стали собираться. Жужжат между собою потихонечку, а у меня знакомых нет – я молчу и чувствую, что сон меня клонит, – совсем некстати. А глаза так и слипаются. И долго я тут со всеми вместе ожидал Сакена, потому что он в этот день, как нарочно, не выходил: все у себя в спальне перед чудотворной иконой молился. Он ведь был страшно богомолен: непременно каждый день читал утренние и вечерние молитвы и три акафиста, а то иногда зайдется до бесконечности. Случалось, до того уставал на коленях стоять, что даже падал и на ковре ничком лежал, а все молился. Мешать ему или как-нибудь перебить молитву считалось – Боже сохрани! На это, кажется, даже при штурме никто бы не отважился, потому что помешать ему – все равно что дитя разбудить, когда оно не выспалось. Начнет кукситься и капризничать, и тогда его ничем не успокоишь. Адъютанты у него это знали, – иные и сами тоже были богомолы, – другие притворялись. Он не разбирал и всех таких любил и поощрял.
Как только, бывало, он покажется, штабные сейчас различали, если он намолился и тогда в хорошем расположении, и все бумаги несли, потому что, намолившись, он добр и тогда все подпишет.
На мою долю как раз такое счастие и досталось: как Сакен вышел ко всем в приемную, так один опытный говорит мне:
– Вы хорошо попали; нынче его обо всем можно просить; он теперь намолившись.
Я полюбопытствовал:
– Почему это заметно?
Опытный отвечает:
– Разве не видите – у него колени белеются, и над бровями светлые пятнышки… как будто свет сияет… Значит, будет ласковый.
Я сияния над бровями не отличил, а панталоны у него на коленях действительно были побелевши.
Со всеми он переговорил и всех отпустил, а меня оставил на самый послед и велел за собою в кабинет идти.
«Ну, – думаю, – тут будет развязка». И сон прошел.
Глава тринадцатая
В кабинете у него большая икона в дорогой ризе, на особом возвышении, и трисоставная лампада в три огня горит.
Сакен прежде всего подошел к иконе, перекрестился и поклонился в землю, а потом обернулся ко мне и говорит:
– Ваш полковой командир за вас заступается. Он вас даже хвалит – говорит, что вы были хороший офицер, но я не могу, чтобы вас оставить на службе!
Я отвечаю, что я об этом и не прошу.
– Не просите! Почему же не просите?
– Я знаю, что это нельзя, и не прошу о невозможном.
– Вы горды!
– Никак нет.
– Почему же вы так говорите – «о невозможном?» Французский дух! Гордость! У Бога все возможно! Гордость!
– Во мне нет гордости.
– Вздор!.. Я вижу. Все французская болезнь!.. Своеволие!.. Хотите все по-своему сделать!.. Но вас я действительно оставить не могу. Надо мною тоже выше начальство есть… Эта ваша вольнодумная выходка может дойти до государя. Что это вам пришла за фантазия!..
– Казак, – говорю, – по дурному примеру напился пьян до безумия и ударил меня без всякого сознания.
– А вы ему это простили?
– Да, я не мог не простить!..
– На каком же основании?
– Так, по влиянию сердца.
– Гм!.. Сердце!.. На службе прежде всего долг службы, а не сердце. Вы по крайней мере раскаиваетесь?
– Я не мог иначе.
– Значит, даже и не каетесь?
– Нет.
– И не жалеете?
– О нем я жалею, а о себе нет.
– И еще бы во второй раз, пожалуй, простили?
– Во второй раз, я думаю, даже легче будет.
– Вон как!.. Вон как у нас!.. Солдат его по одной щеке ударил, а он еще другую готов подставить.
Я подумал: «Цыц! Не смей этим шутить!» – и молча посмотрел на него с таковым выражением.
Он как бы смутился, но опять по-генеральски на-петушился и задает:
– А где же у вас гордость?
– Я сейчас имел честь вам доложить, что у меня нет гордости.
– Вы дворянин?
– Я из дворян.
– И что же, этой… noblesse oblige… [174]174
Благородное происхождение обязывает (фр.).
[Закрыть] дворянской гордости у вас тоже нет?
– Тоже нет.
– Дворянин без всякой гордости?
Я молчал, а сам думал:
«Ну да, ну да: дворянин, и без всякой гордости, – ну что же ты со мной поделаешь?»
А он не отстает – говорит:
– Что же вы молчите? Я вас спрашиваю об этой – о благородной гордости?
Я опять промолчал, но он еще повторяет:
– Я вас спрашиваю о благородной гордости, которая возвышает человека. Сирах велел «пещись об имени своем».
Тогда я, чувствуя себя уже как бы отставным и потому человеком свободным, ответил, что я ни про какую благородную гордость ничего в Евангелии не встречал, а читал про одну только гордость сатаны, которая противна Богу.
Сакен вдруг отступил и говорит:
– Перекреститесь!.. Слышите: я вам приказываю, сейчас перекреститесь!
Я перекрестился.
– Еще раз!
Я опять перекрестился.
– И еще… до трех раз!
Я и в третий раз перекрестился.
Тогда он подошел ко мне и сам меня перекрестил и прошептал:
– Не надо про сатану! Вы ведь православный?
– Православный.
– За вас восприемники у купели отреклись от сатаны. и от гордыни и от всех дел его и на него плюнули. Он бунтовщик и отец лжи. Плюньте сейчас.
Я плюнул.
– И еще!
Я еще плюнул.
– Хорошенько!.. До трех раз на него плюньте!
Я плюнул, и Сакен сам плюнул и ногою растер. Всего сатану мы оплевали.
– Вот так!.. А теперь. скажите, того. Что же вы будете с собой делать в отставке?
– Не знаю еще.
– У вас есть состояние?
– Нет.
– Нехорошо! Родственники со связями есть?
– Тоже нет.
– Скверно! На кого же вы надеетесь?
– Не на князей и не на сынов человеческих: воробей не пропадает у Бога, и я не пропаду.
– Ого-го, как вы, однако, начитаны!.. Хотите в монахи?
– Никак нет – не хочу.
– Отчего? Я могу написать Иннокентию.
– Я не чувствую призвания в монахи.
– Чего же вы хотите?
– Я хочу только того, чтобы вы не думали, что я умолчал о полученном мною ударе из-за того, чтобы остаться на службе: я это сделал просто…
– Спасти свою душу! Понимаю вас, понимаю! Я вам потому и говорю: идите в монахи.
– Нет, я в монахи не могу, и спасать свою душу не думал, а просто я пожалел другого человека, чтобы его не били насмерть палками.
– Наказание бывает человеку в пользу. «Любяй наказует». Вы не дочитали. А впрочем, мне вас все-таки жалко. Вы пострадали!.. Хотите в комиссариатскую комиссию?
– Нет, благодарю покорно.
– Это отчего?
– Я не знаю, право, как вам об этом правдивее доложить. я туда неспособен.
– Ну, в провианты?
– Тоже не гожусь.
– Ну, в цейхвартеры! Там, случается, бывают люди и честные.
Так он меня этим своим разговором отяготил, что я просто будто замагнитизировался и спать хочу до самой невозможности.
А Сакен стоит передо мною – и мерно, в такт головою покачивает и, загиная одною рукою пальцы другой руки, вычисляет:
– В Писании начитан; благородной гордости не имеет; по лицу бит; в комиссариат не хочет; в провиантские не хочет и в монахи не хочет! Но я, кажется, понял вас, почему вы не хотите в монахи: вы влюблены?
А мне только спать хочется.
– Никак нет, – говорю, – я ни в кого не влюблен.
– Жениться не намерены?
– Нет.
– Отчего?
– У меня слабый характер.
– Это видно! Это сразу видно! Но что же вы застенчивы – вы боитесь женщин… да?
– Некоторых боюсь.
– И хорошо делаете! Женщины суетны и. есть очень злые, но ведь не все женщины злы и не все обманывают.
– Я сам боюсь быть обманщиком.
– То есть. Как?.. Для чего?
– Я не надеюсь сделать женщину счастливой.
– Почему? Боитесь несходства характеров?
– Да, – говорю, – женщина может не одобрять то, что я считаю за хорошее, и наоборот.
– А вы ей докажите.
– Доказать все можно, но от этого выходят только споры, и человек делается хуже, а не лучше.
– А вы и споров не любите?
– Терпеть не могу.
– Так ступайте же, мой милый, в монахи! Что же вам такое?! Ведь вам в монахах отлично будет с вашим настроением.
– Не думаю.
– Почему? Почему не думаете-то? Почему?
– Призвания нет.
– А вот вы и ошибаетесь – прощать обиды, безбрачная жизнь. это и есть монастырское призвание. А дальше что же еще остается трудное? Мяса не есть. Этого, что ли, вы боитесь? Но ведь это не так строго.
– Я мяса совсем никогда не ем.
– А зато у них прекрасные рыбы.
– Я и рыбы не ем.
– Как, и рыб не едите? Отчего?
– Мне неприятно.
– Отчего же это может быть неприятно – рыб есть?
– Должно быть, врожденное – моя мать не ела тел убитых животных и рыб тоже не ела.
– Как странно! Значит, вы так и едите одно грибное да зелень?
– Да, и молоко, и яйца. Мало ли еще что можно есть!
– Ну так вы и сами себя не знаете: вы природный монах, вам даже схиму дадут. Очень рад! Очень рад! Я вам сейчас дам письмо к Иннокентию!
– Да я, ваше сиятельство, не пойду в монахи!
– Нет, пойдете, – таких, которые и рыб не едят, очень мало! Вы схимник! Я сейчас напишу.
– Не извольте писать: я в монастырь жить не пойду. Я желаю есть свой трудовой хлеб в поте своего лица.
Глава четырнадцатая
Сакен наморщился.
– Это, – говорит, – вы Библии начитались – а вы Библии-то не читайте. Это англичанам идет: они недоверки и кривотолки. Библия опасна – это мирская книга. Человек с аскетическим основанием должен ее избегать.
«Фу ты, Господи! – думаю. – Что же это за мучитель такой!»
И говорю ему:
– Ваше сиятельство! Я уже вам доложил: во мне нет никаких аскетических оснований.
– Ничего, идите и без оснований! Основания после придут; всего дороже, что у вас это врожденное: не только мяса, а и рыбы не едите. Чего вам еще!
Умолкаю! Решительно умолкаю и думаю только о том: когда же он меня от себя выпустит, чтобы я мог спать…
А он возлагает мне руки на плечи, смотрит долго в глаза и говорит:
– Милый друг! Вы уже призваны, но только вам это еще непонятно!..
– Да, – отвечаю, – непонятно!
Чувствую, что мне теперь все равно, – что я вот-вот сейчас тут же, стоя, усну, – и потому инстинктивно ответил:
– Непонятно.
– Ну так помолимся, – говорит, – вместе поусерднее вот перед этим ликом. Этот образ был со мною во Франции, в Персии и на Дунае. Много раз я перед ним упадал в недоумении и когда вставал – мне было все ясно. Становитесь на ковре на колени и земной поклон. Я начинаю.
Я стал на колени и поклонился, а он зачитал умиленным голосом: «Совет превечный открывая Тебе».
А дальше я уже ничего не слыхал, а только почудилось мне, что я как дошел лбом до ковра – так и пошел свайкой спускаться вниз куда-то все глубже к самому центру земли.
Чувствую, что-то не то, что нужно: мне бы нужно куда-то легким пером вверх, а я иду свайкой вниз, туда, где, по словам Гете, «первообразы кипят, – клокочут зиждящие силы». А потом и не помню уже ничего.
Возвращаюсь опять от центра к поверхности не скоро и ничего не узнаю: трисоставная лампада горит, в окнах темно, впереди меня на том же ковре какой-то генерал, клубочком свернувшись, спит.
Что это такое за место? Заспал и запамятовал.
Потихонечку поднимаюсь, сажусь и думаю: «Где я? Что это, генерал в самом деле или так кажется…» Потрогал его. ничего – парной, теплый, и смотрю – и он просыпается и шевелится. И тоже сел на ковре и на меня смотрит. Потом говорит:
– Что вижу?.. Фигура!
Я отвечаю:
– Точно так.
Он перекрестился и мне велел:
– Перекрестись!
Я перекрестился.
– Это мы с вами вместе были?
– Да-с.
– Каково!
Я промолчал.
– Какое блаженство!
Не понимаю, в чем дело, но, к счастью, он продолжает:
– Видели, какая святыня!
– Где?
– В раю!
– В раю? Нет, – говорю, – я в раю не был и ничего не видал.
– Как не видал! Ведь мы вместе летали. Туда. вверх!
Я отвечаю, что я летать летал, но только не вверх, а вниз.
– Как вниз!
– Точно так.
– Вниз?
– Точно так.
– Внизу ад!
– Не видал.
– И ада не видал?
– Не видал.
– Так какой же дурак тебя сюда пустил?
– Граф Остен-Сакен.
– Это я граф Остен-Сакен.
– Теперь, – говорю, – вижу.
– А до сих пор и этого не видал?
– Прошу прощения, – говорю, – мне кажется, будто я спал.
– Ты спал!
– Точно так.
– Ну так пошел вон!
– Слушаю, – говорю, – но только здесь темно – я не знаю, как выйти.
Сакен поднялся, сам открыл мне дверь и сам сказал:
– Zum Teufel! [175]175
К черту! (нем.)
[Закрыть]
Так мы с ним и простились, хотя несколько сухо, но его ко мне милости этим не кончились.
Глава пятнадцатая
Я был совершенно спокоен, потому что знал, что мне всего дороже – это моя воля, возможность жить по одному завету, а не по нескольким, не спорить, не подделываться и никому ничего не доказывать, если ему не явлено свыше, – и я знал, где и как можно найти такую волю. Я не хотел решительно никаких служб, ни тех, где нужна благородная гордость, ни тех, где можно обходиться и без всякой гордости. Ни на какой службе человек сам собой быть не может, он должен вперед не обещаться, а потом исполнять, как обещался, а я вижу, что я порченый, что я ничего обещать не могу, да я не смею и не должен, потому что суббота для человека, а не человек для субботы… Сердце сжалится, и я не могу обещания выдержать: увижу страдание и не выстою. я изменю субботе! На службе надо иметь клятвенную твердость и уметь самого себя заговаривать, а у меня этого дарования нет. Мне надо что-нибудь самое простое. Перебирал я, перебирал, что есть самое простое, где не надо себя заговаривать, и решил, что лучше пахать землю.
Но меня, однако, ждала еще награда и по службе.
Перед самым моим выездом полковник объявляет мне:
– Вы не без пользы для себя с Дмитрием Ерофеичем повидались. Он тогда был с утра прекрасно намолившись и еще с вами, кажется, молился?
– Как же, – отвечаю, – мы молились.
– Вместе в блаженные селения парили?..
– То есть. как это вам доложить.
– Да, вы – большой политик! Знаете, вы и достигли, – вы ему очень понравились; он вам велел сказать, что особым путем вам пенсию выпросит.
– Я, – говорю, – пенсии не выслужил.
– Ну, уж это теперь расчислять поздно – уж от него пошло представление, а ему не откажут.
Вышла мне пенсия по тридцати шести рублей в год, и я ее до сих пор по этому случаю получаю. Солдаты со мною тоже хорошо простились.
– Ничего, – говорили, – мы, ваше благородие, вами довольны и не плачемся. Нам все равно, где служить. А вам бы, ваше благородие, мы желали, чтобы к нам в попы достигнуть и благословлять на поле сражения.
Тоже доброжелатели!
А я вместо всего ихнего доброжелания вот эту господку купил… Невелика господка, да добра… Може, и Катря еще на ней буде с мужем господуроваты… Бидна Катруся! Я ее с матерью под тополями Подолинского сада нашел. Мать хотела ее на чужие руки кинуть, а сама к какой-нибудь пани в мамки идти. А я вызверывся да говорю ей:
– Чи ты с самаго роду так дурна, чи ты сумасшедшая! Що тоби такэ поднялось, щоб свою дытыну покинуты, а паньских своим молоком годувати! Нехай их яка пани породыла, та сама и годует: так от Бога показано, – а ты ходы впрост до менэ та пильнуй свою дытыну.
Она встала – подобрала Катрю в тряпочки и пишла – каже:
– Пиду, куды минэ доля моя ведэ!
Так вот и живем, и поле орем, и сием, а чого нэма, о том не скучаем – бо все люди просты: мать сирота, дочка мала, а я битый офицер, да еще и без усякой благородной гордости. Тпфу, яка пропаща фигура!
По моим сведениям, Фигура умер в конце пятидесятых или в самом начале шестидесятых годов. О нем я не встречал в литературе никаких упоминаний.
Под Рождество обидели
(Житейские случаи)
На этом месте я хотел рассказать вам, читатели, не о том, о чем будет беседа. Я хотел говорить на Рождество про один из общественных грехов, которые мы долгие веки делаем сообща всем миром и воздержаться от него не хотим. Но вдруг подвернулся неожиданный случай, что одного моего знакомого, – человека, которого знает множество людей в Петербурге, – под праздник обидели, а он так странно и необыкновенно отнесся к этой обиде, что это заслуживает внимания вдумчивого человека. Я про это и буду рассказывать, а вы прослушайте, потому что это такое дело, которое каждого может касаться, а меж тем оно не всеми сходно понимается.
Есть у меня давний и хороший приятель. Он занимается одним со мною делом. Настоящее его имя я называть вам не стану, потому что это будет ему неудобно, а для вас, как его ни зовут, – это все равно: дело в том, каков он человек, как его обидели и как он отнесся к обидчикам и к обиде. Человек, про которого я говорю, не богатый и не бедный, одинок, холост и хотя мог бы держать для себя двух прислуг, но не держит ни одной. И это делалось так не по скупости, а он стеснялся – какого нрава или характера поступит к нему служащий человек, да и что этому человеку делать при одиноком? Исскучается слуга от нечего делать и начнет придираться и ссориться, и выйдет от него не угодье, а только одни досаждения. А сам приятель мой нрава спокойного и уступчивого, пошутить не прочь, а от спора и ссор удаляется. Для своего удобства он устроил так, что нанял себе небольшую квартирку в надворном флигеле, в большом и знатном доме на набережной, и прожил много лет благополучно. Хозяйства он никакого дома не держит, а необходимые послуги ему делал дворник. Когда же нужно уйти со двора, приятель запрет квартирную дверь, возьмет ключ в карман и уходит. Квартира небольшая, однако в три комнатки и помещается во втором этаже, посреди жилья, и лестница как раз против дворницкой. Такое расположение, что, кажется, совсем нечего опасаться, и, как я говорю, много лет прошло совершенно благополучно, а вдруг теперь под Рождество случилась большая обида.
Здесь, однако, я возьму на минуточку в сторону и скажу, что мы с этим приятелем видимся почти всякий день и на днях говорили о том, что случилось раз в нашем родном городе. А случилась там такая вещь, что один наш тамошний купец ни за что не согласился быть судьею над ворами, и вот что об этом рассказывают. Давно в этом городе жили-были три вора. Город наш издавна своим воровством славится и в пословицах поминается. И задумали эти воры обокрасть кладовую в богатом купеческом доме. А кладовая была каменная, и окон внизу в ней не было, а было только одно очень маленькое оконце вверху, под самою крышей. До этого оконца никак нельзя было долезть без лестницы, да если и долезешь, то нельзя было в него просунуться, потому что никак взрослому человеку в крохотное окно не протиснуться. А воры, как наметили этого купца обокрасть, так уж от своей затеи не отстают, потому что тут им было из-за чего потрудиться: в кладовой было множество всякого добра: и летней одежды, и меховых шапок, и шуб, и подушек пуховых, и холста, и сукон – всего набито от потолка до самого до полу… Как смелому вору такое дело бросить? Вот воры и придумали смелую штуку.
Один вор, бессемейный, говорит другому, семейному:
– Я хорошее средство придумал: у тебя есть сынишка пяти годов – он еще маленький и тельцем мягок, – он в это окно может протиснуться. Если мы его с собой возьмем, мы с ним можем все это дело обдействовать. Уведи ты мальчишку от матери и приведи с собою под самое Рождество – скажи, что пойдешь помолиться к заутрене, да и пойдем все вместе действовать. А как придем, то один из нас станет внизу, а другой влезет на плечи, а третий этому второму на плеча станет, и такой столб сделаем, что без лестницы до окна достанем, а твоего мальчонку опояшем крепко веревкою и дадим ему скрытный фонарь с огнем да и спустим его через окно в середину кладовой. Пусть он там оглядится и распояшется, и пусть отбирает все самое лучшее и в петлю на веревку завязывает, а мы станем таскать да все и повытаскаем, а потом опять дитя само подпояшется – мы и его назад вытащим и поделим все на три доли с половиною: нам двоим поровну, а тебе с младенцем против нас полторы доли, и от нас ему сладких закусочек – пускай отрок радуется и к ремеслу заохотится. Отец-то вор – хорош, видно, был – не отказался от этого, а согласился; и как пришел вечер сочельника, он и говорит жене:
– Я ноне пообщался сходить в монастырь ко всенощной – там благолепное пение, собери со мной паренька. Я его с собой возьму – пусть хорошее пение послушает.
Жена согласилась и отпустила парня с отцом. А тогда все три вора в монастырь не пошли, а сошлись в кабаке за Московскою заставою и начали пить водку и пиво умеренно; а дитя положили в уголке на полу, чтобы немножечко выспалось; а как ночь загустела и целовальник стал на засов кабак запирать, они все встали, зажгли фонарь и ушли, и ребенка с собой повели, да все, что затевали, то все сделали. И вышло это у них сначала так ловко, что лучше не надо требовать: мальчонка оказался такой смышленый и ловкий, что вдруг в кладовой осмотрелся и быстро цепляет им в петлю самые подходящие вещи, а они все вытаскивают, и наконец столько всякого добра натаскали, что видят – им втроем уж больше и унесть нельзя. Значит, и воровать больше не для чего. Тогда нижний и говорит среднему, а средний тому, который наверху стоит:
– Довольно, братцы, нам на себе больше не снесть. Скажи парню, чтобы он опоясался веревкою, и потянем его вон наружу.
Верхний вор, который у двух на плечах стоял, и шепчет в окно мальчику:
– Довольно брать, больше не надобно… Теперь сам себя крепче подпояшь да и руками за канат держись, а мы тебя вверх потянем.
Мальчик опоясался, а они стали его тащить и уже до самого до верха почти вытащили, как вдруг – чего они впотьмах не заметили – веревка-то от многих подач о края кирпичной кладки общипалася и вдруг лопнула, так что мальчишка назад в обворованную кладовую упал, а воры, от этой неожиданности потерявши равновесие, и сами попадали… Сразу сделался шум, и на дворе у купца заметались цепные собаки и подняли страшный лай… Сейчас все люди проснутся и выскочут, и тогда, разумеется, ворам гибель. К тому же как раз сближалося время, что люди станут скоро вставать и пойдут к заутрене, и тогда непременно воров изловят с поликою. Воры схватили кто что успел зацепить и бросились наутек, а в купеческом доме все вскочили, и пошли бегать с фонарями, и явились в кладовую. И как вошли сюда, так и видят, что в кладовой беспорядок и что очень много покрадено, а на полу мальчик сидит, сильно расшибленный, и плачет.
Разумеется, купеческие молодцы догадались, в чем дело, и бросились под окно на улицу и нашли там почти все вытащенное хозяйское добро в целости, потому что испуганные воры могли только малую часть унести с собой… И стали все суетиться и кричать, что теперь делать: давать ли знать о том, что случилося, в полицию или самим гнаться за ворами? А гнаться впотьмах-то не знать в какую сторону, да и страшно, потому что воры ведь небось на всякий случай с оружием и впотьмах убьют человека, как курицу. У нас в городе воры ученые – шапки по вечерам выходили снимать и то не с пустыми руками, а с такой инструментиной вроде щипцов с петелькою, – называлась «кобылкою». (Об ней в шуйских памятях писано.) А купец, у которого покражу сделали, отличный человек был – умный, добрый, и рассудительный, и христианин; он и говорит своим молодцам:
– Оставьте, не надобно. Чего еще! Все мое добро почти в целости, а из-за пустяка и гнаться не стоит.
А молодцы говорят:
– То и есть правда: нам Господь дитя на уличенье злодеев оставил. Это перст видимый: по нем все укажется, каких он родителей, – тогда все и объявится.
А купец говорит:
– Нет, не так: дитя – молодая душа неповинная, он не добром в соблазн введен – его выдавать не надобно, а прибрать его надобно; не обижайте дитя и не трогайте: дитя – Божий посол, его надо согреть и принять как для Господа. Видите, вон он какой… познобившись весь, да и трясется, испуганный. Не надо его ни о чем расспрашивать. Это не христианское дело совсем, чтобы дитя ставить против отца за доказчика… Бог с ним совсем, что у меня пропало, они меня совсем еще не обидели, а это дитя ко мне Бог привел, вы и молчите, может быть, оно у меня и останется.
И так все стали молчать, а спрашивать этого мальчика никто не приходил, и он у купца и остался, и купец его начал держать как свое дитя и приучать к делу. А как он имел добрую и справедливую душу, то и дитя воспитал в добром духе, и вышел из мальчика прекрасный, умный молодец, и все его в доме любили. А у купца была одна только дочь, а сыновей не было, и дочь эта, как вместе росла с воровским сыном, то с ним и слюбилася. И стало это всем видимо. Тогда купец сказал своей жене:
– Слушай, пожалуйста, дочь наша доспела таких лет, что пора ей с кем-нибудь венец принять, а для чего мы ей станем на стороне жениха искать, Это ведь дело сурьезное, особливо как мы люди с достатками, и все будут думать, чтобы взять за нашей дочерью большое приданое, и тогда пойдет со всех сторон столько вранья и притворства, что и слушать противно будет.
Жена отвечает:
– Это правда, так всегда уже водится.
– То-то и есть, – говорит купец, – еще навернется какой-нибудь криводушник да и прикинется добрым, а в душе совсем не такой выйдет. В человека не влезешь ведь: загубим ведь мы девку как ясочку, и будем потом и себя корить, и ее жалеть, да без помощи. Нет, давай-ка устроим степеннее.
– Как же так? – говорит жена.
– А вот мы как дело-то сделаем: обвенчаем-ка дочку с нашим приемышем. Он у нас доморощенный, парень ведомый, да и дочь – что греха таить – вся она к нему пала по всем мыслям. Повенчаем их и не скаемся.
Согласились так и повенчали молодых; а старики дожили свой век и умерли, а молодые все жили, и тоже детей нажили, и сами тоже состарились. А жили все в почете и в счастии, а тут и новые суды пришли, и довелось этому приемышу, тогда уже старику, сесть с присяжными, и начали при нем в самый первый случай судить вора. Он и затрепетал, и сидит слушает, а сам то бледнеет, то краснеет, и вдруг глаза закрыл, но из-под век у него побежали по щекам слезы, а из старой груди на весь зал раздалися рыдания. Председатель суда спрашивает:
– Скажите, что с вами?
А он отвечает:
– Отпустите меня, я не могу людей судить.
– Почему? – говорят. – Это круговой закон: правым должно судить виноватого.
А он отвечает:
– А вот то-то и есть, что я сам не прав, а я сам несудимый вор и умоляю, дозвольте мне перед всеми вину сознать.
Тут его сочли в возбуждении и каяться ему не дозволили, а он после сам рассказал достойным людям эту историю, как в детстве на веревке в кладовую спускался, и пойман был, и помилован, и остался как сын у своего благодетеля, и всех это его покаяние тронуло, и никого во всем городе не нашлось, кто бы решился укорить его прошлою неосужденою виною, – все к нему относились с почтеньем по-прежнему, как он своею доброю жизнью заслуживал.
Поговорили мы об этом с приятелем и порадовались: какие у нас иногда встречаются нежные и добрые души.
– Утешаться надо, – говорю, – что такое добро в людях есть.
– Да, – отвечает приятель, – хорошо утешаться, а еще лучше того – надо самому наготове быть, чтобы при случае знать, как с собой управиться.
Так мы говорили (это на сих днях было), а назавтра такое случилося, что разве как только в театральных представлениях все кстати случается. Приходит ко мне мой приятель и говорит:
– Дело сделано.
– Какое?
– У меня неприятности.
Думаю: верно, что-нибудь маловажное, потому что он мужик мнительный.
– Нет, – говорит, – неприятность огромная: кто-то обидно покой мой нарушил. Вышел я всего на один час, а как вернулся и стал ключ в дверь вкладывать, а дверь сама отворилась… Смотрю, на полу ящик из моего письменного стола лежит и все высыпано… золотая цепочка валяется и еще кое-что ценное брошено, а взяты заветные вещи и золотые часы, которые покойный отец подарил, да древних монеток штук шестьсот, да конверт, в котором лежало пятьсот рублей на мои похороны и билет на могилу рядом с матерью…
Я и слова не нахожу, что ему сказать от удивления. Что это? Вчера говорили про историю, а сегодня над одним из нас готово уже в таком самом роде повторение. Точно на экзамен его вызвали. «Ну-ка, мол, вот ты вчера чужой душой утешался, так покажи-ка, мол, теперь сам, какой в тебе живет дух довлеющий?» Присел я молча и спрашиваю:
– Что же вы сделали?
– Да ничего, – отвечает, – покуда еще не сделал, да не знаю, и делать ли? Говорят, надо явку подавать…
И спрашивает меня по-приятельски: каков мой совет? А что тут советовать? Про явки ему уже сказано, а в другом роде – как советовать? Пропало не мое, а его добро – чужую обиду легко прощать…
– Нет, – говорю, – я советовать не могу, а если хотите, я могу вам сказать, как со мною раз было подобное и что дальше случилося.
Он говорит: пожалуйста, расскажите.
Я и рассказал, что раз со мною и с вором случилося.
Сделал я раз себе шубу, и стала она мне триста рублей, а была претяжелая. Так, бывало, плечи отсадит, что мочи нет. Я и взял с нею дурную привычку идучи все ее с плеч спускать и от того скоро обил в ней подол. Утром в Рождественский сочельник служанка говорит мне:
– Шуба подбилася: я по-портновски мех подшить не умею, посажу на игле, весь подол станет морщиться; дворник говорит, что рядом в доме у него знакомый портнишка есть – очень хорошо починку делает; не послать ли к нему шубу с дворником? Он к вечеру ее назад принесет.
Я отвечаю: «Хорошо». Девушка и отдала мою шубу дворнику, а дворник отнес ее рядом в дом, своему знакомому портнишке. А сочельник пришел с оттепелью, капели капали: вечером мне шуба не понадобилась – в пальто было впору. Я про шубу забыл и не спросил ее, а на Рождество слышу, в кухне какой-то спор и смущение: дворник бледный и испуганный, не с праздником поздравляет, а рассказывает, что моей шубы нет и сам портнишка пропал… Просит меня дворник, чтобы я подал явку. Я не стал подавать, а он от себя подал. Он подал явку, а шубы моей, разумеется, все нет как нет, и говорят, что и портного нет… Жена у него осталась с двумя детьми – один лет трех, а другой грудной… Бедность, говорят, ужасающая: и женщина и дети страшные, испитые, жили в угле, да и за угол не заплочено, и еды у них никакой нет. А про мою шубу жена говорит, будто муж шубу починил и понес ее, чтобы отдать, да с тех пор и сам не возвращается… Искали его во всех местах, где он мог быть, и не нашли… Пропал портнишка, как в воду канул… Я подосадовал и другую шубу себе сделал, а про пропажу забывать стал, как вдруг неожиданно на первой неделе Великого поста прибегает ко мне дворник… весь впопыхах и лепечет скороговоркою:
– Пожалуйте к мировому, я портнишку подсмотрел… подсмотрел его, подлеца, как он к жене тайно приходил, и сейчас его поймал и к судье свел. Он там у сторожа… Сейчас разбор дела будет… скорее, пожалуйста… подтвердить надо… ваша шуба пропала.









































