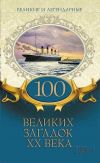Читать книгу "100 великих загадок современности"

Автор книги: Николай Непомнящий
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Итак, отметим важный факт: в конце августа 1922 года Анни впервые увидела человека, когда-то близко знавшего семью Анастасии. Перейдем теперь от версии доктора Грунберга к собственным запискам прусской принцессы Ирен, сестры императрицы Александры:
«В конце августа 1922 года, по просьбе советника Гэбеля и инспектора полиции доктора Грунберга, я согласилась приехать в Берлин, чтобы повидать загадочную женщину, называющую себя моей племянницей Анастасией. Доктор Грунберг доставил меня и госпожу Эрцен в свой деревенский дом под Берлином, где незнакомка жила под именем «мадемуазель Энни». Мой приезд был неожиданным, она не могла знать заранее, кто я, и потому не была смущена моим появлением. Я убедилась тотчас же, что это не могла быть одна из моих племянниц: хотя я не видела их в течение девяти лет, но что-то характерное в чертах лица (расположение глаз, форма ушей и т. д.) не могло измениться настолько. На первый взгляд, незнакомка была немного похожа на великую княжну Татьяну…
К великому разочарованию четы Грунберг, столь расположенной к незнакомке, я покинула их дом в твердом убеждении, что это не моя племянница; я не питала ни малейших иллюзий на сей счет.
До всем известных печальных событий мы прожили долгое время в такой близости, что довольно было бы любого малейшего намека, непроизвольно сделанного движения, чтобы разбудить во мне родственные чувства и рассеять мои подозрения».
Анни прожила у Грунберга еще какое-то время. Записи доктора чрезвычайно интересны для нас: они изобилуют бесчисленными подробностями из жизни нашей героини:
«Анастасия покинула нас, отправившись в госпиталь Вестенде, где ей сделали рентгеновский снимок поврежденной головы. Потом она поселилась у барона фон К., но это место ей не понравилось – можно только гадать, почему, – и она сбежала к госпоже Пойтерт. В декабре 1924 года в “Lokal Anzeiger” появилась заметка под названием “Легенды дома Романовых”: речь шла о ней. Они повздорили с госпожой П. из-за этой статьи, и Анастасия оказалась за дверью. Укрылась она у соседей по лестничной клетке, где я, наконец, и отыскал ее. В конце января она переехала ко мне…»
Доктор Грунберг был уже до крайности измучен пребыванием в его доме таинственной больной с отнюдь не ангельским характером и решился наконец просить совета у католического священника профессора Берга. Что же сам доктор думал об Анни после трех лет близкого знакомства? Бергу он написал очень просто: «В своих размышлениях я дошел до мертвой точки. Анастасия ни в коем случае не авантюристка. Мне представляется, что бедняжка просто сошла с ума и вообразила себя дочерью русского императора».
Профессор Берг посоветовал доверить Анни заботам госпожи фон Ратлеф. Та выглядела весьма удивленной, когда один из знакомых вдруг спросил ее:
– Вы слыхали? Говорят, одна из дочерей русского императора жива?
– Нет, никогда!
С не меньшим изумлением она прочла записку доктора Грунберга и, крайне взволнованная – да это и не удивительно, – отправилась навестить больную… Обратимся теперь к ее собственным воспоминаниям:
«Меня провели в гостиную. Через несколько минут открылась дверь и вошла молодая женщина – та, ради которой я приехала. Она была невысокого роста, чрезвычайно худа и выглядела ослабевшей. Одета бедно, словно старушка. Когда она подошла поздороваться со мною, я заметила, что у нее недостает многих верхних зубов: это еще больше старило ее.
Движения ее, осанка, манеры выдавали в ней даму высшего света. Таковы мои первые впечатления. Но что поразило меня более всего, так это сходство молодой женщины с вдовствующей императрицей. Говорила она по-немецки, но с явственным русским акцентом, и, когда я обращалась к ней по-русски, она вполне понимала меня, ибо, хотя она и отвечала на немецком языке, но ее реплики были абсолютно точны. У нее болел нарыв на руке, и я посоветовала ей лечь в больницу. Благодаря хлопотам господина С. нам удалось найти место в Мариинской больнице…
Поскольку я постоянно была при ней, через некоторое время она начала доверять мне; может быть, этому способствовала и обстановка, совершенно ей чуждая. Любой прямой вопрос ее пугал; она замыкалась в себе. Ее нелегко было вызвать на разговор, но затем уже следовало стараться не помешать ей, прерывая замечаниями. Если предмет беседы был ей интересен, она говорила вполне охотно. Так было почти всегда, когда речь заходила о ее детских годах: жизнь вместе с родителями, братом и сестрами, кажется, единственное, что ее интересовало, воспоминания переполняли ее в эти моменты… Она умела быть признательной за доброту и дружбу, которую ей выказывали. От всей ее натуры веяло благородством и достоинством, которые притягивали всех, кто знакомился с ней.
Сколько раз она повторяла мне:
– Я не знаю, чего Бог хочет от меня! Почему я одна осталась в живых? Почему не дано мне было умереть вместе со всеми? И ведь я умирала уже не раз, но люди зачем-то заставляли меня жить!»
Среди частых посетителей госпожа фон Ратлеф упоминает посла Дании. Это объясняется вполне очевидным образом: именно в Копенгагене доживала свой век вдовствующая русская императрица или, изъясняясь в терминах родства, бабушка Анастасии. Слухи о том, что в Берлине объявилась женщина, претендующая на высокий титул великой княжны, докатилась и до Дании. Императрица была взволнована: пусть даже один шанс из тысячи, что вся эта история окажется правдой, разве можно им пренебречь? Так, господин Зале, датский посланник в Берлине, неожиданно для себя сделался «разведчиком» по приказу брата вдовствующей императрицы. Дипломат стал частым гостем в Мариинской больнице. А тем временем в Копенгагене без нетерпения и даже с некоторой долей скептицизма ожидали его донесений.
Бывший камердинер Николая II Волков был единственным, кому удалось бежать из Екатеринбурга. С тех пор он безвыездно жил в Копенгагене при старой императрице. Когда в Дании прочли доклад господина Зале, ни у кого не возникло сомнений: кто лучше Волкова сможет обнаружить обман? Не теряя времени, Волков сел в берлинский поезд…
Нам известно три рассказа о встрече Анни со старым слугой. Первый из них принадлежит профессору Бергу – это его письмо Пьеру Жильяру:
«Я в деталях помню, как госпожа Чайковская встретилась у меня с бывшим слугой императорского двора. Волков говорил только по-русски, и поэтому я не слишком могу судить, о чем шла речь. Сначала он держался чрезвычайно холодно и даже с некоторой подозрительностью, но на следующий день, кажется, переменил мнение, ибо сделался отменно вежлив и был тронут до слез, когда пришло время отъезда».
Вторая версия представляет несомненный интерес, поскольку это уже воспоминания самого Волкова:
«До госпожи Чайковской я добрался не без труда. В мое первое посещение мне не позволили говорить с ней, и я принужден был удовольствоваться тем, что рассматривал ее из окна; впрочем, даже этого мне было достаточно, чтобы убедиться, что женщина эта не имеет ничего общего с покойной великой княжной Анастасией Николаевной. Я решил все же довести дело до конца и попросил о еще одной встрече с нею.
Мы увиделись на следующий день. Выяснилось, что госпожа Чайковская не говорит по-русски; она знает только немецкий…
Я спросил ее, узнает ли она меня; она ответила, что нет. Я задал ей еще множество вопросов; ответы были столь же неутвердительны. Поведение людей, окружающих госпожу Чайковскую, показалось мне довольно подозрительным. Они беспрестанно вмешивались в разговор, отвечали иногда за нее и объясняли всякую ошибку плохим самочувствием моей собеседницы.
Еще раз должен подтвердить, и самым категоричным образом, что госпожа Чайковская не имеет никакого отношения к великой княжне Анастасии Николаевне. Если ей и известны какие-то факты из жизни императорской фамилии, то она почерпнула их исключительно из книг; к тому же ее знакомство с предметом выглядит весьма поверхностным. Это мое замечание подтверждается тем, что она ни разу не упомянула какой-нибудь детали, кроме тех, о которых писала пресса».
Третья версия, самая многословная, принадлежит госпоже фон Ратлеф:
«…Больная не говорила с ним, она беседовала с господином Зале и профессором Бергом по-немецки; картина выглядела довольно странно. Единственное, что оставалось Волкову, это молча разглядывать ее. Прощаясь с нами, он сказал, что “не может утверждать определенно, что госпожа Чайковская не великая княжна!” (из записки профессора Берга).
Мы не могли не заметить, что эта встреча взволновала госпожу Чайковскую. Во все время свидания она пристально рассматривала Волкова, выглядела настороженной и даже несколько испуганной. В ней словно происходила какая-то скрытая от глаз работа. Она, казалось, изо всех сил старалась собрать воедино разбросанные и не желающие подчиняться ее воле воспоминания. Совершенно измучившись, она откинулась на подушки, воскликнув:
– Я никак не могу его вспомнить!
Она попросила Волкова прийти на следующий день: завтра она будет спокойнее! Когда он прощался, она любезно протянула ему руку и снова повторила свое приглашение.
Дня через два Волков появился вновь, на сей раз он сопровождал господина Зале. Они принесли несколько фотографий императорской фамилии. Господин Зале протянул их больной; она радостно принялась разглядывать снимки и тотчас же узнала среди прочих великого герцога Гессенского:
– Это же дядя, и его дети, и тетушка!
Разговор с Волковым начался тяжело. Старик никак не мог свыкнуться с мыслью, что дочь его государя не говорит по-русски. Когда он в который уже раз поделился со мною своими сомнениями, больная, услышав его слова, прервала беседу с датским посланником и обратилась ко мне, горячо умоляя меня ничего более не объяснять Волкову и не пытаться его ни в чем убедить. Ее гордость, ее самолюбие были чрезвычайно задеты недоверием этого человека. Она, впрочем, согласилась ответить на несколько его вопросов. Когда он спросил ее, не помнит ли она кого-то из прислуги (я забыла имя, но назван был кто-то из ее прежнего окружения), она немедленно отвечала:
– Он был специально приставлен к нам, к детям.
Он спросил ее, кроме того, помнит ли она матроса, бывшего лакеем у ее брата.
– Да, он был очень высокий. Звали его Нагорный, – ответила она, не сомневаясь ни минуты.
– Да, действительно, – сказал Волков, пораженный точностью ее ответов.
Он пришел на следующий день, уже один, ибо господин Зале должен был отправиться в Копенгаген. Больная чувствовала себя неважно, предыдущие разговоры до крайности утомили ее. Она спустилась к назначенному часу в приемную, но вынуждена была улечься на диван. Волков присел рядом и продолжил свой допрос (да простят мне подобное выражение).
– Вы помните Татищева?
Несколько мгновений она размышляла, затем произнесла:
– Он был адъютантом отца, когда мы были в Сибири.
Волков кивнул. Потом он достал портрет вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Она долго рассматривала его в необычайном волнении и наконец спросила:
– Как она себя сейчас чувствует? Странно, что бабушка не в трауре; сколько я помню, она всегда была одета в черное.
Она замолчала, чтобы немного отдохнуть. Мы с Волковым заговорили о чем-то, но она прервала нас:
– А ведь при брате состоял еще один моряк!
Волков кивнул, подтверждая ее слова. Она продолжала медленно, словно блуждая в глубинах памяти:
– Его звали… У него еще такая трудная фамилия… Деревенко.
– Да, – выдохнул Волков.
Она снова задумалась, борясь с ускользающими воспоминаниями.
– Но был, кажется, еще кто-то с такой же фамилией, – проговорила она наконец. – Это был доктор, правда?
Волков опять согласно кивнул. Он спросил, помнит ли она великую княгиню Ольгу Александровну.
– Да, – отвечала больная. – Это моя тетя. Она была очень привязана и к нам, и к маме.
Потом он спросил, что сталось с ее драгоценностями.
– Они были зашиты в моем белье и в одежде, – сказала она.
Затем она улыбнулась и не без лукавства произнесла:
– Ну что ж, теперь, когда он довольно порасспрашивал меня, посмотрим, как сам он сумеет сдать этот экзамен. Помнит ли он комнату в нашем летнем дворце в Александрии, в которой мама каждый год по приезде писала на оконном стекле алмазом из своего перстня число и инициалы, свои и папины?
– Да, – отвечал Волков. – Могу ли я не помнить этого? Я столько раз бывал в той комнате. – А вы помните Ивановский монастырь? – спросил он, в свою очередь.
– Это где-то в Сибири, – проговорила она. – Оттуда еще приходили странницы, и мы с мамой и сестрами пели с ними.
Волков был потрясен.
Ему нужно было уходить: она очень устала и начала жаловаться на головную боль. На глазах ее выступили невольные слезы. Он несколько раз поцеловал ей руку. Совершенно растроганный, сказал на прощанье: “Все будет хорошо!” и медленно вышел из комнаты. В дверях он обернулся еще раз: слезы катились по его щекам. Я вышла проводить его, и он сказал мне:
– Постарайтесь понять мое положение! Если я скажу, что это она, теперь, после того, как другие столько раз говорили обратное, меня сочтут сумасшедшим.
Я далека от того, чтобы осуждать кого-то, но один смелый голос был бы куда полезнее для больной, чем все намеки и робкие подтверждения, выслушивать которые был, видно, наш удел».
Похоже, в Копенгагене не слишком были уверены в обмане, ибо вдовствующая императрица, мучимая сомнениями, устроила вскоре новое испытание для Анастасии. Кровавой резни в Екатеринбурге избежал наставник цесаревича господин Жильяр, возможно ли было пренебречь его свидетельством? Позднее Жильяр вспоминал:
«23 июля 1925 года моя жена получила письмо от великой княгини Ольги Александровны, чрезвычайно нас огорчившее. Великая княгиня сообщала, что в Берлине появилась молодая женщина, называющая себя Анастасией Николаевной, и что, хотя все это представляется ей не слишком правдоподобным, ее встревожили сенсационные откровения, которыми та завоевывала своих поклонников. “Мы все просим вас, – прибавляла она в конце письма, – не теряя времени поехать в Берлин вместе с господином Жильяром, чтобы увидеть эту несчастную. А если вдруг это, и впрямь, окажется наша малышка! Одному Богу известно! И представьте себе: если она там одна, в нищете, если все это правда… Какой кошмар! Умоляю, умоляю вас, отправляйтесь как можно быстрее; вы лучше, чем кто бы то ни было, сумеете сообщить нам всю истину… Самое ужасное, что она говорит, что одна из ее тетушек – она не помнит, кто именно – называла ее “Schwibs”. Да поможет вам Бог. Обнимаю вас от всего сердца». В посткриптуме великая княгиня написала: «Если это действительно она, телеграфируйте мне, я приеду тотчас же».
В воскресенье, 26 июля, в 6 часов вечера, наш поезд прибыл на вокзал. Нас встречали и сразу же отвезли в посольство Дании, где нам надлежало остановиться. Посол, господин Зале, еще не вернулся из Копенгагена. Он приехал на следующий день после обеда и, не теряя времени, посвятил нас во все детали. Господин посол рассказал, что госпожа Чайковская – так звали больную – говорит только по-немецки, и что вот уже несколько недель за ней ухаживает некая госпожа фон Ратлеф, русская дама, родом откуда-то из балтийских провинций, и, как кажется, очень ей преданная. Мы тут же – уже вечерело – отправились в Мариинскую католическую больницу, заведение для неимущих, расположенную в одном из берлинских рабочих кварталов.
Опускались сумерки. Госпожа Чайковская – несколько дней назад ей сделали операцию локтевого сустава – лежала в постели и выглядела совершенно обессилевшей, ее лихорадило. Я задал ей по-немецки несколько вопросов, на которые она отвечала невнятными восклицаниями. В полном молчании мы с необычайным вниманием вглядывались в это лицо в тщетной надежде отыскать хоть какое-то сходство со столь дорогим нам прежде существом. Большой, излишне вздернутый нос, широкий рот, припухшие полные губы – ничего общего с великой княжной: у моей ученицы был прямой короткий нос, небольшой рот и тонкие губы. Ни форма ушей, ни характерный взгляд, ни голос – ничего не оставляло надежды. Словом, не считая цвета глаз, мы не увидели ни единой черты, которая заставила бы нас поверить, что перед нами великая княжна Анастасия: эта женщина была нам абсолютно незнакома.
На следующее утро мы снова отправились в Мариинскую больницу. Госпожа Чайковская чувствовала себя гораздо лучше, лихорадка уменьшилась; но, как и накануне, у меня сложилось впечатление, что она не узнает нас. Я хотел воспользоваться улучшением, чтобы расспросить ее поподробнее, но понял вскоре, что от нее совершенно невозможно добиться ничего нового. Видя безуспешность моих стараний, я показал ей на мою жену и спросил, знакома ли ей эта женщина, которую она, без сомнения, должна хорошо помнить. Больная долго разглядывала ее и – я продолжал настаивать – ответила, наконец, с некоторой долей сомнения: “Es ist meines Vaters jungste Schwester”. (Это младшая сестра моего отца.) Бедняжка приняла мою жену за великую княгиню Ольгу! Она, видимо, узнала накануне, что датский посол вернулся из Копенгагена, куда ездил с докладом о ней для вдовствующей императрицы и великой княгини Ольги, и, поскольку мы явились к ней вместе с господином Зале, она заключила, что дама эта могла быть только «ее тетя Ольга», прибывшая из Дании вместе с посланником.
Опыт, кажется, убеждает. Госпожа фон Ратлеф, правда, возразила, что больная только что перенесла операцию и ее бьет лихорадка, что, делая слишком поспешные выводы, мы рискуем допустить ошибку, которую трудно будет исправить. Мы, в свою очередь, выразили удивление тем, что больная не говорит по-русски. Госпожа Ратлеф отвечала, что врачи отметили множество повреждений черепа, которые бедняжка, вероятно, получила той страшной ночью в Екатеринбурге, и с ней произошел один из типичных случаев амнезии, столь часто встречающихся во время войны. А как же эти изменившиеся черты? Широкий рот, который едва ли может принадлежать великой княжне? Это все те же ужасные удары прикладом, изменившие всю нижнюю часть лица: у нее ведь не хватает семи зубов! Все это представляется весьма странным, но меня чрезвычайно смущают необычные откровения больной и особенно это словечко “Schwibs”, которым называла Анастасию Николаевну только великая княгиня Ольга и о котором мало кто знал. Кто же на самом деле это существо? Ключ к этой тайне мог бы дать только серьезный допрос, и мы, поддавшись просьбам людей, опекающих загадочную больную, решили вернуться в Берлин, когда госпоже Чайковской станет лучше»…
Это – рассказ бывшего воспитателя цесаревича. Выслушаем же теперь версию г-жи Ратлеф:
«…Я выполнила просьбу посланника и привела новых посетителей в комнату больной. Она вежливо протянула им руку, невзирая на страдания, которые причиняло ей каждое движение. Но появление гостей совершенно не тронуло ее, она так и осталась лежать, утопая в своих подушках. Посетители же были, казалось, чрезвычайно взволнованы печальной картиной, представившейся их глазам. Они долго сидели возле постели в полном молчании. Когда мужчины ненадолго покинули комнату, дама попросила у меня позволения взглянуть на ноги больной. Я устроила это так, чтобы бедняжка ни о чем не догадалась.
– У нее ноги совсем как у великой княжны, – сказала мне госпожа Жильяр.
– Наверное, нет смысла докучать больной вопросами, учитывая ее плохое состояние. Мы приедем опять, как только ей станет лучше, – пообещал господин Жильяр.
Больную раздражил этот визит:
– Какой-то незнакомый человек сидит у моей кровати и с усмешкой спрашивает меня, ем ли я нынче столько же шоколаду, сколько ела прежде! Он, видимо, хотел посмеяться надо мною: здесь, в Берлине, мне не доводилось пройти без вздоха мимо магазина с шоколадом, ибо я не могу ничего купить!..
Тем же вечером господин посланник, господин Жильяр с супругой и я собрались на совет. Все согласились с моим предложением как можно скорее перевезти больную в санаторий в Моммзене, где за ней ухаживал бы профессор Руднев, и через несколько дней, как и было условлено, мы отъехали…»
В конце сентября 1925 года больной стало получше. Наконец-то утихла лихорадка, она снова могла читать и играть с маленьким белым котенком по прозвищу Кики, подаренным госпожой Ратлеф. Вскоре вновь должны были приехать супруги Жильяр… Но предоставим лучше слово самой госпоже фон Ратлеф:
«Стоял ясный солнечный октябрьский день. Я ненадолго вышла из комнаты, а вернувшись, обнаружила у постели больной господина Зале в обществе того невысокого темноволосого господина, который уже навещал нас в Мариинской больнице. Больная всматривалась в его лицо с необычайным вниманием, я тотчас же заметила это. Она была столь взволнована, что у нее перехватило дыхание. Не без усилия она приняла спокойный вид и протянула ему руку со своей всегдашней вежливостью. Он спросил, помнит ли она его.
– Мне кажется, я видела вас прежде, но что-то незнакомое в вашем лице настолько меня смущает, что я не могу сказать, кто вы. Мне нужно немного привыкнуть.
А когда с нами остался только господин посол, она обратилась к нему с явным недоумением:
– Это может быть только преподаватель моего брата, господин Жильяр. Я не осмелилась назвать его; мне показалось, он ужасно переменился.
Назавтра господин Жильяр пришел снова. Она была уже гораздо более спокойна и, когда он присел возле ее кровати, спросила, никак не называя его:
– Куда подевалась ваша борода? У вас ведь был совсем закрыт подбородок, правда же?
– Да, – отвечал господин Жильяр и рассказал, как вынужден был еще в Сибири сбрить бороду, чтобы не быть узнанным большевиками.
Посещение нас господином Жильяром и переживания, вызванные им, сильно утомили больную. Она лежала, утопая в подушках, и казалась подавленной. Разговор никак не завязывался. Наконец господин Жильяр прервал молчание:
– Говорите же, прошу вас. Расскажите все, что вы помните из прошлого.
Он слишком плохо знал ее нынешнее состояние – а ведь я не раз говорила ему об этом! – иначе не стал бы спрашивать столь прямо.
– Я не умею рассказывать. Я даже не знаю, о чем следует говорить.
Господин Жильяр допустил еще одну оплошность, не оставшуюся без последствий, когда с излишней, скажем прямо, оживленностью выразил свое удивление тем, что ее память не слишком исправно служит ей.
– Неужели вы полагаете, – с горечью возразила она, – что вы сами с легкостью вспоминали бы прошлое, когда бы вас на три четверти убили?
Позже она спросила, когда в Берлин приедет Шура. Господин Жильяр ответил уклончиво: он не может сообщить ей определенно.
После того, как он ушел, она сказала мне:
– У него сегодня хорошее лицо, и вид у него более здоровый, он даже выглядит сейчас моложе, чем раньше в Сибири…
После обеда в нашу дверь постучали. Вошел посланник и следом за ним дама в сиреневом пальто. Она прямиком направилась к постели больной и с улыбкой протянула ей руку. На наших глазах больная переменилась: бледные худые щеки ее покрылись ярким румянцем, глаза, обычно усталые и тусклые, как бы затуманенные, зажглись радостными искорками. Она была счастлива. Дама говорила с ней по-русски, она отвечала ей на своем плохом немецком. Несколько времени спустя она спросила вдруг:
– Как себя чувствует бабушка? Как у нее с сердцем?
Слова ее были исполнены неподдельной заботы и тревоги. Узнав, что у бабушки все хорошо, она вздохнула с облегчением. Разговор вновь зашел о предметах незначительных: поговорили о болезни и милых проделках Кики… Больная ни разу не назвала свою посетительницу по имени, и только часа два спустя, когда та ненадолго вышла из комнаты, господин Зале спросил ее:
– Кто же эта женщина?
– Это папина сестра, моя тетя Ольга, – отвечала она весело.
– Почему же тогда вы сразу не назвали великую княгиню по имени?
– А почему бы я должна была это делать? Я так обрадовалась, что не могла и слова вымолвить! – воскликнула она со своей совершенно особенной интонацией, столь для нее характерной.
Позже я узнала, что это был “экзамен”: больная ожидала увидеть Шуру, а ее навестила великая княгиня Ольга.
С появлением великой княгини Ольги Александровны в комнате поселились радость и мир. Она оставалась до вечера, и, когда прощалась, больная вдруг наклонилась к ее руке и нежно прикоснулась к ней губами. Жест этот настолько противоречил ее обычной манере, что мы были крайне удивлены…
Наутро, уже в девять часов, великая княгиня Ольга снова была у нас. С ее появлением в комнате запахло счастьем и надеждой. Больная лежала на подушках, и лицо ее сияло. Великая княгиня уселась рядом с нею и принялась показывать ей портреты двух своих маленьких сыновей. Ее собеседница разглядывала фотографии с какой-то тайной грустью. Великая княгиня – недаром она была настоящая леди, – словно прочитав ее мысли, стала расспрашивать бедняжку о ее собственном ребенке. Она сильно покраснела… и уклонилась от ответа: ребенок был совсем еще маленький, она оставила его в Бухаресте на попечение двух женщин из приютившей ее семьи.
Потом она рассказывала мне:
– Я готова была провалиться сквозь землю, когда тетя спросила меня об этом. Боже мой, что за мука думать, что я должна была родить этого ребенка!.. Но это произошло не по моей вине! У меня не было сил, я болела и не могла защитить себя…
Вдруг далекие воспоминания овладели ею.
– Мне это приснилось или так все и было в самом деле? Ведь была в нашем доме комната с совсем крохотными низкими стульчиками?..
– Да, совершенно верно, это не сон, – ответила великая княгиня.
– …А это не привиделось мне: будто там была еще винтовая лестница, и мы всегда спускались по ней.
– Верно, – с надеждой подтвердила великая княгиня и, в свою очередь, спросила:
– А что бывало каждую субботу у этой лестницы?
Больная не могла припомнить; видно было с ясностью, как она с трудом пытается совладать с изменяющей ей памятью. Но картины прошлого ускользали от нее.
Несколько времени спустя она сказала, обращаясь ко мне:
– Тетушка всегда звала меня “Schwipsik”.
– Да, – откликнулась великая княгиня, – я всегда обращалась к ней именно так.
Нет сомнения, ей было приятно и радостно услышать это. В полдень она покинула нас: ее ждали к завтраку в датском посольстве.
Вскоре она снова была у нас, но на сей раз ее сопровождала дама, уже прежде приходившая навестить больную вместе с господином Жильяром в Мариинской больнице. Это была Шура, которую так ждала больная.
Шура была страшно взволнована. Она подошла к постели своей бывшей воспитанницы и с улыбкой обратилась к ней по-русски:
– Как вы себя чувствуете?
Великая княгиня наклонилась к ней и спросила мягко, будто желая ее подбодрить:
– Ну кто же это?
– Шура! – выдохнула она.
Мы все слышали это. Великая княгиня Ольга Александровна захлопала в ладоши и воскликнула с необычайной радостью:
– Верно, верно! Но теперь надо говорить по-русски: Шура по-немецки не знает ни слова.
Эта просьба, казалось, не слишком обрадовала больную. Она предложила ей сесть – опять на немецком – и не сводила с нее глаз. Затем она взяла свой флакон с одеколоном, вылила несколько капель Шуре в ладонь и попросила ее протереть свой лоб. Шура со слезами на глазах рассмеялась. Это был совершенно особенный жест, характерный только для великой княжны Анастасии Николаевны: она ужасно любила духи и иногда буквально “обливала ими свою Шуру”, чтобы та “благоухала, как букет цветов…”
Великая княгиня не раз говорила, что племянница ее похожа скорее на великую княжну Татьяну. Господин и госпожа Жильяр разделяли ее мнение. Великая княгиня призналась даже, что, если бы ей сказали, что перед нею была именно Татьяна, она поверила бы этому не задумываясь. Перед отъездом она беседовала с датским послом:
– Мой разум не позволяет мне поверить, что это Анастасия, но сердцем я чувствую, что это она. А поскольку я воспитана в религии, которая учит слушать прежде всего доводы сердца, а не рассудка, я не в силах оставить это несчастное дитя.
Прощаясь, великая княгиня Ольга нежно поцеловала больную в обе щеки и шепнула:
– Не стоит печалиться. Я буду писать, госпожа фон Ратлеф мне тотчас же ответит. Нужно только выздороветь, сейчас это самое главное.
Супруги Жильяр уезжали на следующий день. Госпожа Жильяр была совершенно растрогана и никак не хотела уходить от больной, которая совсем загрустила, видя, что все опять ее покидают. Госпожа Жильяр была безутешна; отойдя от кровати со слезами на глазах, она обняла меня и разрыдалась:
– Я так любила ее прежде, так любила!.. Почему же я и эту женщину люблю так же сильно? Если бы вы только знали, что творится сейчас в моей душе! Почему, скажите мне, почему я так полюбила эту бедняжку?..
Слова эти прекрасно выражают чувства, обуревавшие эту искреннюю женщину. Господин Жильяр, которому переживания жены показались излишними, прервал наше прощание.
Перед самым отъездом господин Жильяр и его супруга, беседуя с его превосходительством господином Зале, заметили:
– Мы покидаем вас в убеждении, что не можем определенно отрицать, что она – великая княжна Анастасия Николаевна.
Господин Жильяр обещал вернуться, когда больная совсем поправится и сможет лучше отвечать на его вопросы. Он просил меня постоянно держать его в курсе событий и заверил нас, что даже в Лозанне постарается выполнить все наши просьбы и поручения. Должно же, сказал он, когда-нибудь “разъясниться это странное дело”».
«Отчет» господина Жильяра об этой поездке противоречит приведенным выше воспоминаниям госпожи фон Ратлеф:
«В конце октября мы с женою снова отправились в Берлин и остановились, как и в первый раз, в датском посольстве, куда вскоре прибыла и великая княгиня Ольга (27 ноября 1925 года). В прошлое наше посещение, как вы помните, госпожа Чайковская не только не узнала нас, но даже приняла мою жену за великую княгиню Ольгу. На сей раз она явно знала о нас больше и ожидала нашего визита, что подтверждают некоторые строки из письма, адресованного мне датским посланником (оно датировано 16 октября 1925 года).
На следующий день по приезде в Берлин, не дожидаясь, пока приедет великая княгиня Ольга, я в одиночестве отправился в клинику, чтобы побеседовать с госпожой Чайковской. Я нашел ее сидящей в кровати, она играла с подаренным ей котенком. Она подала мне руку, и я присел рядом. С этого момента и до тех пор, пока я не ушел, она не отводила от меня взгляд, но не промолвила ни слова – я настаивал напрасно – и никак не дала понять, что знает меня.
На другой день я опять появился в клинике, но усилия мои оставались столь же бесплодны, как и накануне. Госпожа Чайковская избегала отвечать на мои вопросы; стоило мне проявить настойчивость, как она откидывалась на подушки, закрывала глаза и повторяла одно: “Ich weiss nicht, ich weiss nicht!” (Я не знаю, не знаю!).
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!