Текст книги "Начало инквизиции"
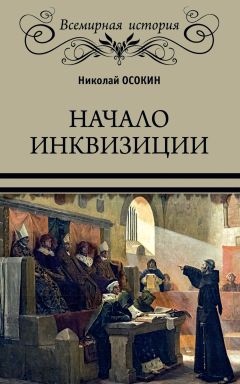
Автор книги: Николай Осокин
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Гораздо торжественнее появление инквизиторов в столице или большом городе, где они учреждали свою постоянную резиденцию и откуда распускали свои сети на прочие местности. Их обыкновенно двое: один доминиканец, другой минорит. Доминиканец пользуется некоторым преимуществом. Оба имеют папские полномочия. Они начинают свою деятельность тем, что отправляют письмо к самому государю или местному феодалу и представляются архиепископу или епископу. Последний обыкновенно закрывал свой судебный трибунал с прибытием особых судей и становился номинальным председателем инквизиционного трибунала. Он, конечно, обещает утверждать своей скрепой их приговоры[174]174
Eym.; III, 47–53.
[Закрыть]. Вступать в борьбу с такими гостями было бы и бесполезно и небезопасно. Король обыкновенно велит написать циркуляр всем своим наместникам, чиновникам, магистратам с приказанием содействовать инквизиторам, арестовывать всякого, на кого они укажут, наказывать, как они определят, и ссылать всякого туда, куда они назначат. Магистраты городов обязаны готовить им помещения и снабжать всеми удобствами в случае переездов их самих или их помощников. Наместник королевский или начальник города лично являлся к прибывшим, приносили Евангелие, и, склоняясь в прах пред могуществом церкви, он клялся над ним, что будет исполнять приказания инквизиции, – иначе ему грозило отлучение и отрешение от должности. Инквизитор предлагал ему пригласить нескольких выборных и благонадежных горожан для присутствия в трибунале и дать стражу, если в городе нет ассоциации или «Воинов Христа». В ближайший праздник в кафедральном соборе происходило торжественное богослужение.
Скромный доминиканец всходит на кафедру и со страстным убеждением, с каким-то фанатизмом взывает покаяться всех неверующих и заблуждающихся, пока есть время. Потом читают присягу доноса. Инквизитор объявляет, что если еретики или уклонившиеся в чем-либо от истинной веры явятся добровольно в трибунал и искренно покаются, то будут подвергнуты лишь простому церковному покаянию, но что если в продолжение месяца на них последуют доносы, то с ними поступят по всей строгости инквизиционных законов.
Целый месяц таким образом принимались доносы от всякого, кто желал погубить или оклеветать своего врага. Подсудность преступлений была широкая. Нельзя было ручаться, что самые благочестивые католики свободны, например, от обвинения по третьей статье. Для ненависти существовало непочатое поле. Наставало время сикофантов, и никогда в городе не развивалась в такой степени деморализация, как в эти дни. Даже лучшим людям приходилось лицемерить и лгать. Какая-то свинцовая тяжесть чувствовалась в воздухе. Все показания записывались в книгу с обозначением доносчиков. Если кто-либо из обвиненных являлся раньше истечения месяца и сознавался в ереси или в сочувствии к ней, то донос не имел значения. Но вот прошел установленный срок. Всех доносчиков приглашали в трибунал, каждому из них объявляли, что процесс по доносам может производиться двояким образом: обыкновенным обвинительным порядком и инквизиционным, и предлагали выбрать один из них. В первом случае, в случае неосновательности обвинений, грозило наказание, по законам римским и обычным присуждаемое клеветникам. Надо было иметь несомненную уверенность в правоте своего обвинения и в силе наличных фактов, рассчитывая погубить врага без собственного риска. Потому немногие соглашались на такой процесс. Большинство всегда предпочитало инквизиционный путь. Обыкновенно обвинители отвечали, что они не могут ручаться за достоверность всех имевшихся у них обвинений, что обвиняемый, может быть, и не еретик и слухи, которые ходят про него, может быть, и несправедливы, что главным побуждением к их доносу было не что иное, как боязнь не исполнить повелений Святого престола, что лишь потому они передали такие слухи, что они не желают рисковать своею участью, и потому просят скрыть свои имена. В подтверждение же своих обвинений они могут представить свидетелей.
Заседания происходили в определенные дни и часы. В Тулузе, например, по средам и субботам, с двух до четырех часов. Но большие дела нарушали такой порядок. В каждом крупном городе Европы непременно был доминиканский монастырь. Одну из зал его очищали для заседаний трибунала. В Тулузе орден имел даже особый дом, бывший некогда прародителем всех доминиканских монастырей. Такой же дом был в Каркассоне, чей богатый архив служит источником для истории инквизиции. При таких монастырях, в подвальных этажах, окнами обращенных во двор, часто устраивали тюрьмы с железными дверями и решетками. Если в каком монастыре тюрьмы не было, то город обязан был или приготовить особое помещение для церковных преступников в своей темнице, или выстроить особую тюрьму.
При входе в монастырь и в зал трибунала стояла инквизиционная стража. В низенькой, но большой комнате, в которую едва прорывался слабый свет из маленьких окон, невзрачной, как все помещения того времени, с узорчатым деревянным потолком, за длинным столом, на широкой лавке сидели инквизиторы в белых и коричневых сутанах, с шапочками на головах, подпоясанные веревками. Около них помещался архиепископ, епископ или архидиакон в парадном костюме, за ними – несколько священников и человек десять или двадцать черных заседателей трибунала. На стене висели булла и крест, эмблема инквизиции. На особом месте помещался нотариус, секретарь, чаще всего тоже из духовных лиц, а иногда один из консультантов, к которым судьи обыкновенно обращались. Сперва приглашали свидетелей и записывали их показания. Таким образом составлялся целый акт, который снова прочитывался вслух свидетелям, причем спрашивали их подтверждения. По этому акту постановляли приговор об аресте обвиняемого. В тот же день его сажали в тюрьму. На следующее заседание стража вводила подсудимого. Ему прочитывали обвинения неизвестного лица, где рядом с истинными подробностями, естественно, примешивались ложь и клевета. Немногие имели смелость сразу и прямо назвать себя еретиками. С ними дело кончалось скоро или обращением, соединенным с наказанием, или казнью в случае упорства.
Обыкновенно главный инквизитор начинал допрос подсудимого, искусно испытывая его в вере. Для этого у инквизитора имелась особая инструкция. Допросы по пунктам варьировались лишь по качеству обвинения. Но количество вопросов оставалось почти всегда одинаковое. Записав показания, инквизитор сравнивал их со словами доносчиков и допрошенных свидетелей. В случае если подсудимый начинал сбиваться, противоречить самому себе, обвинять в клевете неизвестного доносчика, то снисходительный инквизитор мог показать ему копию доноса, но с пропуском имен. Он мог спросить его, нет ли у него личных врагов, давно ли и почему они питают злобу к нему и кто именно. Он также будто случайно напоминает ему имена лиц, причастных обвинению, интересуется, в каком отношении он находится с ними, а если оказывалось, что подсудимый не имеет против них ничего, то уже не могло быть места оправданию. Продолжая упорствовать, он одинаково навлекал на себя или осуждение, если попадал в руки снисходительных, или мучения пытки, если имел несчастье стать жертвой какого-нибудь сурового фанатика.
По двадцать шестому канону Нарбоннского собора 1233 года для осуждения не требовалось даже допроса. Достаточно было одного показания свидетелей, чтобы обвинить; всякое отпирательство было напрасно и не имело никакого значения. А в свидетелях никогда не было недостатка. По двадцать четвертому канону того же собора даже преступники, обесчещенные люди и лишенные всяких прав, могли быть свидетелями. Даже сами еретики могли пригодиться для такого дела с пользой. По буллам они никогда не могли свидетельствовать ни против католика, ни за еретика, но всегда могли показывать против своих собратьев[175]175
См. две буллы Александра IV в протоколах Doat, XXXI, 206, 281, во Францию и в Лангедок 1257 г.
[Закрыть]. Жена, дети, домашние и прислуга подсудимого не могли говорить за него, но всегда имели право показать против него. Потому в большинстве случаев не было иного исхода, кроме осуждения и наказания Личному произволу открывался полный простор. Подсудимый везде видел обвинителей и нигде не встречал защитников.
Наконец, извратилось самое положение суда. Однажды архиепископ Нарбоннский, председатель суда, явился одновременно обвинителем еретика Бернарда Ото, его братьев и матери. Это было большое дело с тридцатью пятью подсудимыми. Один из последних сказал в глаза архиепископу, что лучше знает и понимает веру, чем он сам и все прелаты на целом свете[176]176
Этим делом открываются протоколы тулузской инквизиции (Doat. Collection; XXI, 34–50). Кроме архиепископа Петра было еще 6 духовных свидетелей и 90 других. Обвинения были по большей части голословны.
[Закрыть]. Нередко подсудимый мог в самом трибунале в лице инквизиторов столкнуться с палачами.
Еще до введения инквизиции на всем Западе прибегали к испытанию огнем и водой как к средству дознания истины. Такой обычай господствовал и в варварские, и в темные века. По древним германским преданиям еще языческой эпохи всякий, выдержавший такое испытание, считался оправданным. Суд огнем и водой был коротким и правым в глазах людей, не вышедших еще из дикого кочевого состояния. Этим людям могло казаться, что само божество вмешивается в дело человека правосудно и посылает слабому смертному могучие силы выдержать страшное испытание.
Введение пытки в процессах религиозных было одним из наследий, переданных германским язычеством христианскому миру и церкви. Испытание, в сущности, было пыткой; зато вынесший то и другое одинаково являлся оправданным. Но служители христианского Бога оказывали несравненно меньшее сострадание к вынесшему пытку, чем язычники; они не признавали его правым, если бы он продолжал отрекаться от ереси и если бы на их глазах оказал чудеса геройства, потому что эти люди не могли примириться ни с какою уступкой, не нарушив своих основных принципов. Понятно, что ордалии первобытных людей, грубые сами по себе, являлись чем-то благородным в сравнении с пыткой, введенною в трибуналах инквизиции. Развившись из языческих ордалий, пытка сперва и носила такой характер.
Известия о первых пытках в религиозных делах тщательно занесены в летописи. В 1144 году в Суассоне в первый раз подвергли испытанию водой найденных там катаров, потом в Арассе в 1182 году (79). На Реймсском соборе 1157 года было решено пытать еретиков раскаленным железом. В Безансоне в 1209 году и в Страсбурге в 1212 году эта пытка была применена к вальденсам (80). Это привело в негодование папу Иннокентия III, который сделал строгий выговор епископам и на Латеранском соборе 1215 года в восемнадцатом каноне запретил это варварство. Но после его смерти злоупотребления епископов возобновились. В 1217 году пытали еретиков в Камбре. Но тогда выдержавший пытку мог еще надеяться получить оправдание. Когда инквизиция упрочилась с 1233 года, то она эксплуатировала эту наивную веру германских племен в ордалии. В ее руках испытание сделалось лишь принудительным средством к сознанию.
Так как инквизиция юридически не нуждалась в признании подсудимого, то пытка являлась не чем иным, как орудием жестокости. Впрочем, необходимо заметить, что она была заимствована из светских судов. Один из инквизиторов наедине руководил истязаниями, ему нужны были только служители и иногда секретарь; последний был тоже из духовных лиц.
Конрад Марбургский отличался особенной изобретательностью в пытках, добиваясь для оправдания своей совести признания. Но личности вроде Конрада Марбургского или Петра Веронского были исключениями даже между инквизиторами. В сравнении с испанской эпохой инквизиция Лангедока и Италии употребляла пытки весьма редко. Тогда как в Испании инквизиторы почти все дело производили в пыточной камере, доминиканцы первого времени, за ничтожными исключениями, относились в ней с внутренним отвращением. Они старались действовать не на тело, а на дух подсудимого. Они никогда, правда, не стеснялись обмана и лукавства, хотя действовали вообще кротко. Большинство инквизиторов рассчитывало на свою итальянскую ловкость и на красноречие[177]177
Цитаты у Schmidt: Hist. des Cathares; II, 183.
[Закрыть]. Они пугали подсудимого страхом смерти, рисовали ему ужасы ада. В темнице грозили ему дать очную ставку со свидетелями, что само собой исключало всякое сил схождение. Наконец в каземат являлись бывшие знакомые и друзья несчастного, подосланные инквизицией. Они уговаривали его во всем сознаться, чтобы избегнуть смерти. Тот уверял их, что обвинение вымышлено, что он честный католик, наконец, клялся в том. Тогда инквизитор приказывал привести жертву в пыточную камеру. Страшные орудия, хотя не доведенные еще до позднейшего усовершенствования и позднейшей утонченности, неприветливо выглядывали с разных концов. Жертва была непреклонна. Инквизитор говорил подсудимому, что его клятва ложная, что он напрасно клевещет на себя и навлекает тем на инквизицию тяжелую обязанность[178]178
Reg. Inn., XI, 46; XIV, 138.
[Закрыть]. Пытки, одна за другой, следовали по их тяжести: дыбой, водой и огнем. Немногие могли дотянуть до третьей.
Это разнообразие и методичность истязаний могли появиться только после буллы Иннокентия IV, изданной в 1152 году, где пытка скрывалась под словами «умаление членов». Инквизиция взяла от светских судов готовые формы пытки и ее орудия. Постоянное вздергивание по блоку, от которого растягивались мускулы и хрустели кости в обыкновенной пытке испанских инквизиторов, несколько подходило к смыслу этого выражения, но это ничем не напоминало германские ордалии. Палачи были одеты в длинную черную одежду кающихся; их голова была закрыта капюшоном, в котором прорезаны были только отверстия для глаз, носа и рта. Они связывали назад руки подсудимого, поднимали его по блоку на воздух за веревку, некоторое время держали в таком положении на воздухе и потом резко кидали на землю. Ужасные крики, которые издавала жертва, никто не слышал, так как пытки производились обыкновенно ночью, зачастую под землей, откуда не проникал ни один звук. Дав пытаемому прийти в себя, приступали к нему тотчас же или немного спустя с новыми допросами, за которыми могла последовать пытка водой. Подсудимого опаивали, вливали воду в нос, в уши до онемения. Это сопровождалось еще наружными истязаниями, страшной болью от гвоздей, которыми была истыкана скамья и которые впивались в тело. Еретик истекал кровью, но его могли подвергнуть новой ужаснейшей пытке: разводили огонь, клали ногами к пламени и палили подсудимого медленным огнем[179]179
Нотариус и секретарь, выбранные из священников или мелкого духовенства в силу буллы от 9 дек. 1256 г., отнимали всякий характер правосудия и самостоятельности от трибунала. В булле не скрывали цели. Но впоследствии во Франции появились широкие гарантии для нотариусов, ставших агентами королевского прокурора; об этом у Doat; XXXI, 15.
[Закрыть].
Каждая пытка продолжалась около часа. Но, повторяем, разукрашенные подробности пыток, которые связаны с памятью об инквизиции, относятся преимущественно к испанской эпохе, к временам истребления мавров, евреев, колдунов, ведьм, к XV–XVI столетиям. В XIII и XIV веке в Ломбардии, Лангедоке, Франции и Италии пытка применялась редко, орудия ее были грубее и проще, системы и изощренных приемов почти не существовало. Личная жестокость какого-нибудь инквизитора значила здесь столь же, как всякий факт свирепого насилия, деспотизма, и имела смысл частного явления. В 1311 году Климент V, если не мог возбранить пытку, то по крайней мере ограничил ее приложение. Для нее требовалось непременное согласие епископа.
Так или иначе, но признание от подсудимого добывали. Защитить его никто не мог. Трибунал был учреждением закрытым; проникнуть в него постороннему без приглашения было почти невозможно. Всякая дружба, преданность, энергия замирали на его пороге. Но в свободных городах Италии и Лангедока, издавна привыкших к суду гласному, с присяжными и защитниками, не могло не появиться попытки внести защиту и в духовный трибунал.
Вероятно, вследствие этого Григорий IX издал буллу, в которой запрещал светским судьям, адвокатам, нотариусам оказывать какую-либо защиту подсудимым под опасением лишения должностей. Это было, между прочим, подтверждено собором в Альби 1254 года, который подобную попытку считал преступлением, предусмотренным в статье о соумышленниках. Единственное, что допускалось, и то, вероятно, для лиц высокопоставленных в духовной и светской иерархии, – это апелляция к папе. Тогда все документы, протокол и приговор, посылали в Рим. Там, согласно каноническому праву, папа утверждал или изменял приговор. Инквизиторы лично ездили в Рим оправдываться и давать объяснения. Только папа мог взять под свое покровительство обвиняемого[180]180
В сборнике Doat – распоряжение Климента IV в 1268 г. о буржуа Альмарике де Кастро, по делу которого были посланы два кардинала (XXXII, 46). В деле убитого Петра Веронского папа сделал собственное распоряжение (XXXI, 201). В 1266 г. Климент IV простил де Лили из Венессена и освободил его от пожизненного заточения (XXXII, 30). Иннокентий IV освободил Бертрана де Роэкса (XXXII, 69).
[Закрыть]. Кардиналы изредка являлись разбирать жалобы на инквизиторов.
Так продолжалось до середины XIV столетия. Но потом и эта слабая узда была снята. Пользуясь тогдашним авиньонским пленением пап, инквизиторы избавились от всякого надзора, и в таком ореоле непогрешимости застает их эпоха королевы Изабеллы, время их господства над министрами и народами.
История собственно провансальской инквизиции
Провансальская инквизиция не всегда была беспощадна – она знала оправдательные приговоры. Тогда трибунал выдавал подсудимому копию со своего постановления, в котором имя обвинителя, конечно, не упоминалось. Тень подозрения все-таки оставалась, подсудимый был близок к преступлению по убеждению инквизиторов, и легкое каноническое наказание, как то: усиленная молитва, земные поклоны – считалось необходимым. В то же время оправданный получал от инквизитора отпущение от всякого дальнейшего преследования за свой мнимый проступок.
Разбирая громадную массу протоколов, чаще всего встречаешь приговор, объявлявший подсудимых в положении подозреваемых. При многочисленности подсудимых, при том характере процесса, когда малейшего желания всякого лица было достаточно для привлечения кого угодно к ответственности, это было весьма естественно. Улики были ничтожные, свидетель твердил одни стереотипные фразы: «Я слышал, как говорили…» – и тому подобное. Подсудимый оказывался истинным католиком, но раз закравшееся подозрение нельзя было уничтожить никакими доводами. Подозрение формулировалось трояко: слабое, тяжкое и сильное.
Но должно заметить, что даже для права быть в подозрении требовалось все-таки оправдание от обвинения, а следовательно, казалось бы, и от всякого подозрения. За сим следовало полное клятвенное отречение от всяких видов ереси, которой прежде, может быть, вовсе и не знал подозреваемый. Тогда с него снимали отлучение и принимали в лоно церкви как обращенного, но присуждая все же к церковному наказанию на три года. Это значило оставить в самом легком подозрении.
Тот, кто после всех вопросов, даже пытки, отказывался дать отречение от ереси, может быть, не чувствуя за собой никакой вины и не желая клеветать на себя, а может быть, и по упрямству, наказывался собственно по категории подозреваемых. Такие считались находящимися под тяжким и сильным подозрением. Они оставались под анафемой и если в продолжение года не приобретали права освободиться от нее, то считались еретиками упорными, хотя бы против них в этот год не было представлено никаких обвинений. Тогда их снова приводили в трибунал и бесповоротно решали их участь, передавая в руки светской власти. Весь срочный год они были лишены общества; всякий, кто случайно садился за один стол с ними, лишался права ходить в церковь в продолжение месяца. Конечно, они не могли занимать никаких должностей; даже умирая, они не могли пригласить врача, и позднейшие соборы в Безьере (1246) и в Альби (1254) осуждали такого врача как соучастника.
Явившись в трибунал раньше года, такой человек свободно получал разрешение и присуждался к церковному наказанию на пять лет и в случае тяжелого подозрения – на десять лет. Вполне отрекшийся и получивший прощение, но после снова впавший в ересь или заподозренный, уже не получал никакого снисхождения, а признавался отпавшим. Ему был один исход – смерть на костре, судьба еретика нераскаявшегося и необращенного. Обратившийся к трибуналам с раскаянием раньше года получал прощение, снятие отлучения, но с условием особых, весьма тяжелых дисциплинарных предписаний. Он должен был носить покаянную одежду темного цвета, сшитую на манер сутаны, с большим крестом на груди и на спине, – мешок, в который просовывалась одна голова. Он должен был публично бичевать себя и примириться с путешествиями к святым местам, бдением, постом, истязаниями и постоянной молитвой в продолжение определенного времени.
Сам обряд отпущения по истечении срока епитимьи торжественно совершался в главной церкви города, в присутствии экс-еретика. Какой-нибудь доминиканец говорил с кафедры перед народом о тяжести обвинений, которые лежат на каявшемся. Теперь святая инквизиция соизволила совершенно простить его. Склоняя колена, клялся каявшийся, за ним клялись двенадцать человек поручителей, которые знали его жизнь в продолжение трех, пяти или десяти лет, смотря по степени подозрения. Только получив такие гарантии, церковь отпускала на свободу того, кто хоть раз попал в ее трибуналы.
Первая инквизиция несравненно более дорожила жизнью человека, чем испанская. Казней было мало. Это происходило не столько от духа ее законодательства, хотя после оно стало значительно суровее, сколько от личного характера альбигойцев. Большая часть последних предпочитала обращение и покаяние, хотя и притворное; не только подозреваемые соумышленники, даже прямые еретики в большинстве случаев сознавались при начале допроса, многие являлись добровольно, рассчитывая на снисхождение.
Мы знаем, что альбигойство, по самому принципу своей веры, не любило и не ценило мученичеств. И потому в нескольких фолиантах протоколов передача в руки светской власти, то есть смертный приговор, встречается весьма редко, как исключение. Зато в больших городах редкое воскресенье в доминиканских монастырях и в кафедральных соборах не было обращения какого-нибудь еретика и подозреваемого, а по улицам провансальских и ломбардских городов постоянно сновали взад и вперед люди с двумя крестами на груди, а нередко с опущенными на лицо капюшонами, а также женщины с желтыми крестами на черных вуалях.
Так как казни были редки, то акт веры (аутодафе), как единственный публичный обряд инквизиции, привлекал к себе все внимание публики и потому совершался с некоторой торжественностью. По воскресеньям обыкновенно в церквях читали, кого, где и когда будут принимать в лоно католичества, и приглашали народ слушать проповедь такого-то отца-инквизитора. Если обращенный был из числа сильно подозрительных, то во всех церквях в назначенный день не допускали проповеди, чтобы сосредоточить все внимание на одном месте. Как на праздник, народ устремлялся в собор смотреть на еретика. По большей части это был человек, ничем не причастный к альбигойству, а такой же католик, как и другие, имевшие счастье быть оставленными в слабом подозрении. Он стоял на особом помосте, босой, в простой черной одежде. Начиналась обедня. После Апостола отец-инквизитор велеречиво громил еретиков. Потом он переходил к предмету торжества. Он рассказывал, как было дело, скрывая имена, и заключал, что подсудимому дозволено отречься в присутствии всех предстоящих. Тот клялся над крестом и Евангелием, подписывал акт отречения, если умел писать, инквизитор разрешал его и внятно прочитывал то каноническое наказание, которому он подвергался.
Аутодафе разнообразилось по степени подозрения кающегося и по прихотливой изобретательности различных соборов. Приведенные нами постановления Доминика служили основой всякой епитимьи. Но костюм и другие условия покаяния разнились. Простые еретики и подозреваемые носили два желтых креста, но бывшие «совершенными» и альбигойскими духовными лицами носили третий крест: мужчины – на капюшонах, а женщины – на вуалях. Капюшон спускался на лицо, в нем были прорезаны отверстия для глаз и губ. В таком наряде обращенный еретик походил на фигуру восточного схимника. Носить кресты было обязательно, под страхом конфискации имущества. Сам Раймонд Тулузский позаботился об этом[181]181
В 1234 г. Mansi. Cone.; XXIII, 266.
[Закрыть]. Всякое украшение на платье из золота, серебра, а также шелковые уборы воспрещались. По воскресеньям и праздникам, кроме Богоявления и Вознесения, каявшийся обязан был являться в церковь и приносить с собой пучок розог. Во время чтения Апостола он снимал с себя обувь и платье, брал в руки крест и предлагал себя бить священнику. Этот обычай шел с X века, когда священники секли присужденных к покаянию, как господа своих рабов. Он имел целью унижение со стороны грешника, которое способствует спасению.
Все каявшиеся должны были присутствовать при каждой церковной процессии. Вместо свечей они несли розги. По окончании крестного хода они подходили к священникам для получения следуемых ударов. Раз в месяц они должны были являться с такой же странной просьбой в те дома, где прежде они виделись с еретиками. Они три раза в году приобщались; дома и в церкви клали учащенные поклоны. Они не могли пропускать ни одной службы, соблюдали посты. В этом отношении каявшимся предлагалась целая диета, тщательно определявшая, в какой день какая им следовала пища. Во время поста они стояли за церковной дверью до Великого четверга. Им предписано было обойти замечательные храмы и монастыри Франции, Италии и Испании, славные или своими мощами, или воспоминаниями. Эти богомолья бывали большие и малые; к первым причислялись храмы Святого Петра в Риме, Иакова Компостельского, Фомы Кентерберийского, Кельнский Трех царей; к малым – Святой Эгидий в Сен-Жилле, Святой Дионисий, Святой Марциал, святой Леонард в Лиможе[182]182
Preuves de l’hist. de Lang. y Вессэ; VI, 104. Также y Doat. XXI, 174, 168.
[Закрыть].
Лангедокские инквизиторы посылали и в Сен-Дени, в Сито, в Клюни и к Иакову Компостельскому, и, конечно, прежде всего следовало посетить знаменитые церкви тулузские, такие как кафедральный собор Святых Стефана и Сатурнина. Каявшийся обязывался также сражаться по назначению церкви против мусульман и против еретиков. Из опасения, что ересь может путем пилигримства осквернить святую почву Палестины, собор Нарбоннский в 1235 году запретил каявшимся странствия за море[183]183
Hefele. Conciliengesch.; V, 979 по 2-му канону. В док. Doat.; XXI, 104.
[Закрыть].
Местный священник обязывался наблюдать за каявшимися своего прихода и подавать о них трибуналу точные и подробные донесения.
Церковное покаяние было не единственным для тех, преступление которых было чем-либо важно или которые долго упорствовали в признании. Такие лишались всех прав состояния. Они изгонялись со всех должностей. Часто им даже запрещалось жить в местах их прежнего пребывания; их переводили в католические города, где они ни для кого не могли быть опасны. В Безьере в 1246 году их подвели на основании восьмого канона под категорию отлученных, не принимали к засвидетельствованию их завещаний и не допускали к ним врача, даже во время смертельной болезни.
Но гораздо беспощаднее относилась инквизиция к тем, кто перед ее лицом сохранял упорство в ереси и, горделиво не отрекаясь от нее, провозглашал свою веру святой или кто только на пытке сознавался в ереси.
Первое влекло к костру, второе – к пожизненному заключению в государственной тюрьме.
То и другое сопровождалось проклятием. Каждое воскресенье повторялась эта анафема на страх всем верным. Во время чтения похоронного списка молящиеся тушили свои свечи, а колокола погребально звонили.
Государственная власть, со своей стороны, бралась быть орудием исполнения приговора и в вознаграждение брала большую долю из имущества осужденного. Обыкновенно коммуна, инквизиция, епископ одинаково были наследниками всего достояния казненного. Коммуну сменил впоследствии королевский фиск, когда Лангедок стал принадлежать королевской короне, а в Италии – местные принчипи, когда пала независимость городов. Описанная движимость шла на тюрьмы и на содержание служителей трибуналов. Дома, в которых жили еретики, не доставались никому. Они, как оскверненные, должны быть разрушены; на то место, где они стояли, свозили нечистоты. Всякий, кто стал бы строиться тут или предполагал очистить и культивировать такое место, подвергался отлучению[184]184
«Дуют нечистоты на (такие) убежища», – писал еще Иннокентий III. Reg. Inn.; X, 130.
[Закрыть].
Инквизиция в точности опиралась на законы Фридриха II. Раймонд VII Тулузский до того простер свою ревность к истреблению альбигойских жилищ, что даже озаботился сносить отдаленные хижины в лесах и горах. Интересно наблюдать в документах эту сделку. За сколько продавали себя инквизиторам католические государи?
Во Франции могущественная королевская власть целые столетия служила инквизиторам своими прокурорами и нотариусами для производства дела. С течением времени, в XIV столетии, когда последние встали под наблюдение прокурора, тот предписывал им наблюдать, чтобы не было злоупотреблений и грабежа монахов в трибуналах. Нотариусы, чиновники прежде весьма незначительные, стали теперь более чем секретари; они назначались из легистов с учеными степенями, докторов и бакалавров. Они сами и их помощники должны были непременно присутствовать при каждом процессе. Они скрепляли, подписывали приговор и прикладывали к нему печать. Все легаты заботились лишь о выгоде королевского фиска, и им было выгодно подобное учреждение, которое легко могло найти источники доходов.
Мы знаем, что позже короли довели свою законную треть до половины. При канцеляриях инквизиции открылась особая канцелярия нотариуса. Королевский прокурор просматривал все процессы, которые нотариус обязан был препровождать к нему под опасением штрафа в сто солидов. Прокурора интересовал собственно доход, а вовсе не юстиция, потому что он на каждой странице видел ее посмеяние. Нотариус должен был, кроме того, иметь у себя две белые книги: одну – для ведения протокола, другую – для регистрации конфискаций, штрафов, уплат в пользу фиска. Об этих последних следовало извещать прокурора на другой день под страхом штрафа в сто солидов. Нотариус хранил дела инквизиции в специальных шкафах, вместе с инквизитором он имел ключ от них, но королевский или наместничий казначей имел также свой ключ, чтобы при случае свободно проверить свои приходы. За свои труды нотариус брал двадцать солидов за протокол, пять солидов – за сентенцию и несколько меньше – за отлучительную копию. За произвольный побор он платил двойной штраф. Администрация за розыск свидетелей брала два солида и шесть денариев с человека[185]185
Документы и все подробности у Doat; XXXI, 16 и далее.
[Закрыть].
Обе стороны жили в тесной дружбе. Одна из другой извлекала всевозможные выгоды. Нотариус и никто из светских лиц не могли касаться духовных дел без полномочия инквизиторов. Никто не мог быть арестован по какому бы то ни было церковному делу без приказания инквизиторов, а это была обширная подсудность, так как сверх всего трибунал наблюдает еще за благочинием и жизнью священников, церковным благочинием и порядком богослужения. Что могло избавить и обезопасить от знакомства с застенками инквизиции, особенно при таких отношениях к ней светской власти? Последняя за все свои услуги требовала одного: чтобы ей сообщали об арестах и осуждениях. Таким удовлетворением личного самолюбия довольствовалась монархическая власть.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































