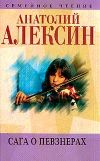Текст книги "Мешок с золотом"

Автор книги: Николай Полевой
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
– Да разве язык у меня отсохнет сказать «нет!», если бы и насильно притащили меня к налою? Ведь батюшка наш священник всегда спрашивает… Ты разживешься – подождешь…
– А между тем?
– А между тем будто я не найду отговорок: год притворюсь больною, на другой – безумною…
– Груня, Груня! я буду причиною, что вместо веселья житье твое будет горькое.
– Но какое же веселье было мне до сих пор? Я теперь только и стала весела, когда узнала, что ты вправду меня любишь. Не бойся: я сказала уже батюшке, что дала обещанье идти в Киев с бабушкой на богомолье и к Троице… За тебя буду я молиться, Ванюша, за твое здоровье – и вот год пройдет, там еще год… Довольно ли тебе два года?
– Груня! – вскричал Ванюша, – в два года я разбогатею снова – право, разбогатею, и пусть тогда отец твой возьмет за тебя все мое доброе! – Он так крепко обнял Груню, что она испугалась, вырвалась и убежала.
И после этого еще бы не повеселеть Ванюше, еще бы матери его не удивляться его веселью! Ему в самом деле казалось, что два года – бог весть сколько времени, что в два года он успеет опять нажить столько, чтобы потягаться с Москвичом и перетягать его. Радостно встал он на заре, радостно работал и пел за работою. Груня прошла мимо, и целый день пролетел для него весело.
Веселись, бедное дитя природы, веселись: ты не знаешь еще, как тяжело, невозможно приобресть права на руку Груни, если для этого надобно нажить деньги! Все другое легко: будь добр и честен – наживешь доброе имя; будь работящ и прилежен – будешь сыт и доволен. Но нажить деньги трудно, и быть счастливым, если без этого нельзя быть счастливым, – не суждено тебе никогда! Золото не падает с неба в суму бедняка; люди не дарят его тому, кто на него может купить себе счастье. Отец твой узнал уже эту истину у отца Груни…
* * *
Но в свете не без добрых же людей. Недуманно, нежданно, вдруг застучала по деревне повозка: ехал торгаш, ходевщик, суздал. Знаете ли, что это за люди?
Так называются торгаши, которые ездят из одного конца Руси в другой, по городам, ярмаркам, деревням, и везде добрые гости, везде умеют выгадать копейку, поторговаться. Ходевщиками называют их потому, что они везде ходят с своим товаром, и в барский дом, и в крестьянскую избушку; суздалами – потому, что большая часть их родом из северных губерний, где земли много, но хлеб худо родится, и жители принуждены промышлять рукодельем, а другие – торговать. Нет худа без добра: они наживают огромные деньги, которых не выпашет себе крестьянин в самой хлебородной губернии. Съезжаясь в Москву, суздала забирают себе товар, половину в долг, половину на деньги, укладывают в повозку и едут куда глаза глядят. Им все рука: продать, купить, променять; есть у них книги и пестредка[19]19
Пестредка – грубая льняная или хлопчатобумажная ткань из разноцветных ниток, обычно домотканая.
[Закрыть], парча и холст, бархат и ситец. Приехал суздал в деревню – вот и ярмарка, а где ярмарка, там и ходевщик.
Такой-то торгаш приехал теперь в деревню и прямо к гостеприимному Федосею, когда тот, сложа руки, смотрел на новый домишко свой и не знал, что делать. Домишко выведен был только до верхнего венца окошек, и достроить его было нечем.
Как изумился старый знакомый, когда, вместо приюта, приволья, хлеба-соли и чаю, он увидел всегдашнюю свою квартиру в обгарках и радушного, всегда веселого хозяина в горе, в раздумье.
Начались расспросы, рассказы. Гость качал головою, кряхтел и, выслушав все, весело хлопнул Федосея по плечу, примолвя:
– И! не грусти! Где была вода, там и будет.
– Будет? – спросил печально Федосей.
– Будет! – повторил гость. – Пойдем к тебе на квартиру да отдохнем; утро вечера мудренее.
Хоть и в чужом углу, Федосей угостил приезжего чем бог послал. Привыкши ночевать и в хоромах боярских, и в цыганском таборе, ходевщик напоил лошадей своих, задал им на ночь овса, помолился, растянулся на лавке, положа кафтан под голову, и тотчас захрапел. Назавтра чем свет встал он, смазал свою повозку и отвел Федосея в сторону.
Молчаливо пошел с ним Федосей. Он и не думал просить у него помощи. Кроме того, что у купца никогда не бывает лежачих денег, изверившись в приятелях, Федосей не хотел лишний раз слышать отказа. Как же изумился Федосей, когда гость его сам предложил ему сто рублей готовых и сто рублей через три месяца с тем, если он отдаст ему сына Сергея в работники!
– Я говорил уж с ним, – сказал добрый Суздал, – и Сергей твой согласен: малый он не разгульный, приучиться к нашему делу недолго, я становлюсь стар, а поле твое обработают двое других сыновей. Я дал себе зарок не давать в долг и в ссуду, но теперь не в долг даю и зарока не переступаю. Мне надо помощника.
Федосею казалось, что бог умилостивился над ним. Позвали Сергея, и тот пришел веселый, радостный. Объяснилось все дело: Сергея всегда тяготило деревенское бездействие, все ему казалось, что не на одном месте человеку должно жить, а бродить по белу свету; отец, верно, не отпустил бы его прежде, но теперь Сергей исполнял свое желание, давал неожиданную помощь отцу, видел перед собою открытым белый свет и радовался пуще Ванюши. Суздал вынял свою кожаную книжку, отсчитал новенькими бумажками сто рублей, вычел за промен, Сергей оделся, и повозка покатилась в ближнее село, где в тот день была маленькая ярмарка. «В свете не без добрых людей!» – говорил Федосей, пересчитывая в третий раз свою сотню рублей. Ему казалась она богатством, когда прежде и сам он ссужал другим по полусотне.
Прошу после этого угодить на людей! Когда Федосей был богат, он не знал цены своим деньгам, Ванюша его печалился, Сергей хмурился; теперь, когда все они обедняли, Ванюша был весел, Сергей тоже, и Федосей узнал, что русская пословица не лжет: не в счете деньга, а в цене.
* * *
Итак, отстроили домик Федосеев. Еще до заморозов попросил он к себе священника, отслужил молебен и с благословением божиим перешел в новое свое жилище. Осип поехал в Москву и привез всю выручку сполна. Теперь, имея опять дом и не нуждаясь ни в чьей помощи, Федосей явился на мирскую сходку по-прежнему[20]20
…Федосей явился на мирскую сходку по-прежнему… – Согласно закону 1805 г., участниками мирского схода могли быть только домохозяева.
[Закрыть], был уважаем другими, но не мог, однако ж, не заметить разницы прежнего и нынешнего житья своего. Никто не попрекал его ничем, но… уже голос его не был силен в мирском определении, иногда его просто не слушали; сидел он в двадцатом месте, и ни староста к нему, ни он к старосте не ходили в гости. Случись же, как нарочно: Москвич выстроил себе дом подле Федосея, и этот дом, заслоняя своею тенью домик Федосея, точно как будто туча застилал его душу. Федосей не сказывал ничего домашним, но смекал, что между Москвичом и старостою дело слажено. Зная, что Ванюша любит Груню, Федосей не мог не подумать: свадьба Москвича убьет бедного парня! Кроме того, где тонко, тут и рвется: недостатки все одолевали Федосея. Все купи, все заведи сызнова: и чашку, и ложку, и плошку. Надолго ли достанет крох небольших, когда в запасе ничего нет? Год этот, как нарочно, случился неурожайный; от беспрерывных дождей сопрело сено; грязи стояли до Рождества: ни выйти, ни выехать…
Но Ванюша все еще был весел, хотя полгода прошло, а о больших деньгах не было еще слышно. Сколько раз сидел он и думал: как наживают деньги? Если бы надобно было за богатство два эти года работать на каторге – с какою охотою пошел бы туда Ванюша, чтобы через два года принесть старосте кусок фунта в два золота и купить себе на него радости и счастья!
– Батюшка, – сказал он однажды Федосею, – скажи, сколько надобно рублей, чтобы люди называли богатым?
– Сколько? – отвечал отец, смеючись. – Столько, чтобы быть сыту, не просить взаймы и припрятывать копейку на черный день.
– Я слыхал, что на Руси с голоду еще никто не умирал здоровый, – отвечал Ванюша. – Да я не о том спрашиваю. Вот теперь Москвича называют богачом: как думаешь, что у него, много ли?
– А чужая душа потемки – бог весть! Говорят, рублей не одна сотня лежит у него, а может и тысяча найдется с хвостиком.
– Тысяча? Стало, если бы у тебя была тысяча, ты был бы богач?
– Что делать, дитятко? Было и у меня, может статься, да богу было не угодно.
– Эх, родной! да мы опять наживем: ведь деньга – дело нажитое.
– Трудно ныне, Ванюша, нажить. К сотне другая сотня все-таки льнет, а на копейку другая копейка ворогом смотрит. У меня и от отца осталось благословенье, и после того двадцать лет жил я да копил: и тут все к тысяче недоставало целой сотни. А если копейки не будет доставать, Шк все тысяча неполная.
Ванюша замолчал. Двадцать лет! Тысяча рублей! Эти слова повторял он про себя раз сотню, и они принудили его задуматься. Двадцать лет! Да это целый век! А из двух годов, которые врезались у него в сердце, прошло уже более полугода. Чего не придумывал, чего не передумал Ванюша! Все, кроме покушения на добро ближнего. Грешный человек: иногда вспадало ему на ум запалить огнем хоромы Москвича; пусть бы и его тысяча рублей сгорела, чтобы ни ему, ни Ванюше не доставалась Груня… Но через минуту такая мысль ужасала доброе сердце Ванюши; он крестился и прогонял нечистое наущение, каялся в грехе. Иногда перебирал он в голове рассказы о кладах, об исканье их в Иванов день, о траве папоротнике, которая в самую полночь цветет огнистым цветом. Он готов был на все ужасы привидений, только бы достать эту невиданную траву. Но Иванов день давно прошел: надобно было ждать его.
Кто же из нас в жизни не ждал Иванова дня? Кто не подстерегал цветка папоротника, невиданного людьми? Целые поколения гонятся друг за другом, ищут цветка этого и не находят его в здешнем мире. Этот цветок – счастье. Для Ванюши все счастье казалось заключенным в тысяче рублей, для других оно немного поценнее, и осудим ли Ванюшу, что он не спал всю ночь в Иванов день, пугался, робел, но ходил по лесу, где каждый сук казался ему лешим, в каждом Ивановом червячке[21]21
Иванов червяк – светляк.
[Закрыть] сверкали глаза кошки? Нет: не было цвета папоротника; пропала надежда на клад!
Лето казалось Ванюше хуже осени; деревня стояла по-прежнему, а ему казалась она пуста и темна, как тюрьма преступника: в ней не было Груни. С весною бабушка ее отправилась пешком на богомолье, поклониться киевским чудотворцам, и Груня с нею. Ванюша не смел проститься с Грунею, только низко поклонился ей, когда бабушка ее, кашляя и горбясь, переступала потихоньку, а Груня лукаво, ласково кивнула ему головой. Вся семья старосты провожала богомолок. Ванюша не смел подойти к милой, не смел сказать ей: «прости», да и сил недостало бы у него сказать это слово! Когда вся семья была уже далеко, побрел и Ванюша, вышел в сторону, на дорогу, смотрел, пока Груня с бабушкой скрылись вдали, смотрел, когда уже ничего не было видно и вечерние тени застилали широкий путь.
Началась жатва, сняли хлеб; урожай был благословенный. Вдруг однажды Ванюша приходит к отцу и начинает говорить ему, что наступает осень, а затем будет зима, что ему нечего делать дома осенью и зимою, что Осип один управится с работами. Федосей вытаращил глаза, смотрел на Ванюшу. «Что сделалось с малым?» – бормотал он.
Ванюша объяснил наконец, что он хочет в это время заработать несколько рублей лишних и, чтобы не лежать на печи даром, просит отца позволить ему ехать в Москву и зиму быть там извозчиком.
– Лошадь лишняя у нас есть, – говорил Ванюша. – Я пристану к дяде Парфентью, он даст мне сани, я увижу и узнаю Москву, стану возить там добрых людей. Что же? Десятков пять иногда заработывают, а если и меньше, родимый-, то честная денежка стоит неправедного рубля.
«В Москву, извозчиком!» – подумал Федосей. Предложение было неожиданно; он сначала не соглашался, но подумал, подумал и согласился.
С чего пришла эта мысль Ванюше? Право, не знаю. Ему тошно было смотреть на те места, где прежде видал он Груню. Бабушка ее занемогла в Киеве и принуждена была там зазимовать у старого родственника, которого все звали дядею, хотя никто уже не помнил, кто был ему настоящим племянником. Но дядя был богат, держал в Киеве лучший постоялый двор, а староста Филарет не любил отказываться от родства с богатыми. Потом думал Ванюша… не смешно ли? – что он перебьет рассказы у Москвича и лучше его будет рассказывать о Москве белокаменной. Москва сверх того казалась ему чем-то таким, где наживают деньги: все новое, неизвестное беленит юные горячие головы! Ванюша не мог думать о Москве без того, чтобы мысль о тысяче рублей не приходила ему в голову. Он спал и видел эти два слова вместе: что-то непонятное, необъяснимое волновало его душу…
* * *
Но рассуждайте как угодно, а Ванюша уже на дороге в Москву. Туда ехал попутчик; Ванюша привязал лошадку к телеге и залег в сено, набитое в телегу. Тут была ему свобода думать о прошедшем и будущем. Он не умел мечтать по-нашему, но и у него сколько было воздушных башен! Что-то будет, что-то увидит, что-то встретит он в Москве!
Рано поутру подъехали наши странствователи к Москве по старой Каширской дороге. Было осеннее холодное утро, небо голубое, чистое.
– Вот и матушка Москва! – сказал Ванюше сопутник.
Ванюша во все глаза смотрел вперед. Верст семь оставалось еще до заставы, но перед ним открылся уже ряд московских церквей и бесконечное протяжение домов, башен, крыш зеленых, красных, белых. Влево возвышались розовые стены и золотые главы Донского монастыря; прямо белелась застава Серпуховская; вправо разбегались глаза далеко. Звон московских колоколов доносился до слуха Ванюши, изумленного, обрадованного.
– Это что такое? – спрашивал он у сопутника, указывая на что-то, горевшее как жар вдали на небе.
– Иван Великий.
– Иван Великий! – повторил Ванюша. – А Сухарева башня где?
– Ее не видно еще; да то ли ты увидишь.
Телега катилась беспрерывно; они въехали в Москву.
* * *
Я уверен, что в будущее время энциклопедия увеличится многими томами против нынешней. Кроме того, что известные ныне знания и науки будут раздвинуты, усовершенствованы, думаю, явится много наук и знаний совсем новых, о которых мы и не слыхивали. И как не подумать этого после Галлева[22]22
Галль – см. примеч. к с. 193.
[Закрыть] головошишкословия (так один профессор переводил мудреное название Галлевой науки) и после животного магнетизма[23]23
Животный магнетизм – см. примеч. к с. 102.
[Закрыть]? Нисколько не сомневаюсь, что со временем люди сделают науку из физиогномики, и мечты доброго Лафатера[24]24
Лафатер Иоганн Каспар (1741—1801) – швейцарский писатель и философ, автор трактата «Физиогномические фрагменты для поощрения познания человека и любви к людям» (1775—1778), в котором пытался установить связь между духовным обликом человека и строением его лица и черепа.
[Закрыть] не будут мечтами. Из всех наклонностей человека ни одни не выказываются так явно у всякого, как три следующие: наклонность лечить, наклонность угадывать людей по лицу, наклонность слушать рассказы о чудесах. От первой уже переморили довольно народа, и хотя никто ныне не верит лекарям, но кто из нас не скажет другому какого-нибудь лекарства, только упомяни о болезни? Люди лечат теперь душу, тело, карманы, государства: все неудачно, все не так и все не отказываются лечить и быть лечимыми! От наклонности к чудесам не исцелились люди семьтысячлетним опытом, и с того времени, как Адам был обманут обещанием чудес, доныне чудеса – вернейшая уда, на которую поймаете каждого Адамова внука и каждую Евину внучку. Я хотел поговорить только о физиогномике и, виноват, заговорил о другом. Вот в чем дело: если физиогномика будет когда-нибудь усовершенствована, то она принесет много добра. По глазам, рту, носу, бровям, щекам люди станут узнавать друг друга лучше всякого зеркала. Физиогномика прорубит окошечко в душу каждого человека и изъяснит, отчего, например, желтая, пухлая, кислая рожа, мышьи глаза, оттянутые губы – признаки человека сварливого, злого, ненавистника всему доброму; отчего другое лицо… ной я боюсь высчитывать здесь различные лица. Иное может оскорбить случайным сходством какую-нибудь рожу, дышащую на белом свете. Пусть дышит она безопасно, пока еще не усовершенствована физиогномика; но будет время худое для многих, и, может быть, физиогномика распространит свои замечания весьма далеко: сообразив множество лиц и рож (эти два слова не синонимы в русском языке), она даст свои понятия о целых народах; из них извлечет физиогномию областей, городов, и, может быть, в географиях будут со временем писать физиогномии городов наряду с числом жителей, промышленностью, ученостью города.
Что, если бы теперь можно было сделать это, не откладывая вдаль, и вот, кстати, когда герой нашего рассказа явился в Москву, к лицу без образа[25]25
…к лицу без образа… – Полевой использует выражение Жуковского («Славянка», 1815).
[Закрыть] нашей старушки приложить физиогномический циркуль[26]26
…приложить физиогномический циркуль… – В теории Лафатера важное место занимало измерение частей лица и установление их соотношения между собой.
[Закрыть] и представить ее в верном портрете? Тогда легче бы мне было описывать и что встретил Ванюша в Москве, и какие впечатления врезывались в душу его по мере того, как он смотрел и рассматривал Москву.
Добрая Москва! я люблю тебя искренно, и, кажется, кости мои будут тлеть на одном из мирных кладбищ твоих. Твое имя дорого моему сердцу; твои башни, твои золотые маковки лелеяли мои юношеские надежды, когда еще в дремучих лесах Сибири я знал тебя только по имени, по рассказам бывалых людей; я живо помню, с каким восторгом приближался я к тебе, с какою грустью бродил после по твоим развалинам, с какою радостью видел обновляемые твои стены, храмы, башни и громадные здания! Не сердись же, милая, если, так давно, так искренно любя, я осмелюсь говорить о тебе правду. Твои недостатки – наши, а об себе почему не сказать?
Москва город большой и единственный, который только на Руси может существовать: широкий, длинный, неправильный; город, который строили семь веков, в котором от каждого века что-нибудь осталось, смешалось, изменилось, но не истребилось и все вместе похоже на жилище богатого русского помещика нашего времени. Войдите в жилище этого помещика: тут Европа и Азия, все языки, все страны, все века; на чердаках гнездятся гувернер-француз, дядька-немец, нянька-англичанка; в передней ливреи прошлого века и жокейские курточки нынешнего; в буфетах саксонский фарфор, русские старинные серебряные кубки и китайские куклы; в гостиной говорят по-французски, в зале поют по-итальянски, в кабинете горюют по-русски. Так и в Москве есть все, старое и новое, родное и чужое, европейское и азиятское, великое и смешное. Громадных домов множество, и все они разбросаны; улицы огромные, и все кривые. Вот старое вековое здание, подле – палаты вельможи прошлого века, далее новый карточный домик с итальянским мезонином, от которого гниет кровля и в целом доме холодно; там сад, потом огромный казенный дом, далее пустырь и греческая табачная лавка, еще палаты; тут обгорелый при французах дом, хлебные лавки, французские моды, бульвар, церковь. Окрестности московские прелестны, но вы едва пройдете по дорогам от грязи и от того, что в одном месте мост сгнил, а пока делают новый, каменный великолепный мост, положены через ручей бревны, по которым и Киарини[27]27
Киарини Феликс (ум. 1830 или 1831) – знаменитый акробат.
[Закрыть] подумает, как перейти; там песок, тут ручей, через который нет перевоза. Зато полюбуйтесь Москвою издали, посмотрите на толпы народа, поглядите на пестроту, движение, прислушайтесь к стуку, колокольному звону, шуму, говору, взгляните на Кремль, на Красную площадь, и – вы согласитесь, что Москва – точная Русь: наш русский дух, наши недостатки и добродетели, русское худо и добро, огромность и слабость – все это, как будто живыми словами, вырезано на берегах Москвы и Яузы.
* * *
Такова Москва. Но что же Ванюша мог найти в Москве, увидеть, узнать? Не знаю, что найдет, но увидел и узнал он многое. Рано въезжая в Москву, он изумился, как тих, спокоен этот необозримый город: ни души по улицам, кроме дворников, булочников, будочников; ставни окон заперты, все спит; только не спала молитва благочестивых людей: церкви, мимо которых ехала телега наших странствователей, были отворены, сквозь двери их мелькали свечи перед иконами и слышалось священное пение. Долго из улицы в улицу поворачивал сопутник Ванюши. Вот миновались огромные здания, начались домишки, хуже, хуже, и Ванюша доехал почти вплоть до другой заставы. Телега остановилась перед старым деревянным домом; сопутник Ванюши встал, снял шляпу, помолился и начал отворять ворота: открылся длинный грязный двор, с обоих боков и с задней стороны обставленный высокими навесами на столбах. Множество лошадей стояло у колод, множество саней, дрожек, несколько карет было под навесами. Грустно посмотрел Ванюша вокруг и заглянул во двор. Ах! Москва издалека так хорошо белела, светлела, горела первыми лучами солнца, так изумляла его своими домами, храмами… Надобно же ему было проехать всю Москву и для чего? Чтобы на краю Москвы найти грязный, бедный приют! «Неужели это Москва?» – спрашивал Ванюша, смотря вокруг на бедные лавочки, народ засаленный и дурно одетый. Застава перед глазами казалась дурным предзнаменованием Ванюше, из-за нее как будто шептал ему голос: «Зачем ты пожаловал сюда, незваный гость? В одни двери ты въехал, вот другие: изволь выезжать! И без тебя тесно в Москве, и без тебя довольно искателей счастья гранят московскую мостовую ногами и колесами!»
Какое-то унылое чувство ощущает человек, вырванный из мирного уголка и брошенный в море большого города, особливо пестрой Москвы. Не зная еще ее, он составляет себе понятие по-своему, видит ее, перемешивает свое понятие с видимым; обширность давит его воображение; сближение крайностей – обыкновенная участь больших городов – изумляет его взоры, и первое чувство после того – унылость, отчуждение от нового местопребывания, воспоминание о старом, знакомом уголке, где каждая травка как будто родная, каждый человек знаком с детства, и солнце светит веселее, и хлеб слаще! Тут жестоко страдает и самолюбие человеческое, когда пришелец видит себя для всех чуждым. Нет ему ни слова, ни привета: он один, один и чувствует это одиночество: не для него все живет и движется вокруг, всякий занят своим, спешит, идет мимо пришельца, его никто не знает, когда прежде утром встречало его ласковое слово родного и на каждом шагу привет знакомого.
Такие чувства испытывает всякий, кроме знатных и богачей, которые из палат своих переезжают в палаты московские, для которых везде и все равно: в Москве, в Париже, в России, в Америке. После, со временем, если существенность не бедна, призраки прошедшего стираются в памяти. Шум, блеск выгоняют из души мысль о родине, о былом; пришлец едва помнит их, как милые младенческие годы. Но хорошо, у кого не бедна настоящая существенность, хорошо, если человек умеет хотя расцвечивать ее яркими красками!
Бедный Ванюша не был любимцем воображения: оно играло у него немногими грубыми цветами, а что окружало его, то не могло утешить, приласкать надеждою, согреть дыханием радости. Уже готов он был раскаиваться, что поехал в Москву, уже спутник его, который через два дня должен был снова увидеть зеленые луга родины, казался Ванюше счастливцем, а сам себе Ванюша показался выброшенным зимнею вьюгою на придорожный сугроб, когда в поле вьется снег и ветер воет в далеком бору. «Где найти мне здесь счастье свое! – сказал он сам себе. – Но разве ты здесь ищешь своего счастья? – прибавил он. – Тебе надобно денег, денег, денег, и их ты достанешь. Так! Вещий сон мой сбудется. Пойдем к дяде Парфену».
Вещий сон видел Ванюша, заснувши в телеге перед самою Москвою. Ему показалось, что он идет в каком-то городе, у которого посредине одной улицы поместилось бы полдеревни их. И вот перед ним бесконечная площадь, домы, лавки, церкви, какая-то красная башня и множество народа. Среди этого народа бродил Ванюша; вдруг старичок, седой, добрый, подходит к нему и говорит: «Знаю, чего ты ищешь; молись святому Спасу». Три земные поклона положил Ванюша перед красною башнею, на которой была икона Спаса, и старичок повел его по широкой улице… Тут сон Ванюши смешался: ему виделись золото, серебро, луга, поля родины и Груня. Он помнил только, что Труня обняла его, и с ее поцелуем разлетелся сон.
По грязному двору, которого и осенний холод не мог заморозить, Ванюша вошел в обширную хоромину. Тут бесконечные палати, печь, грязь, куча народа, множество конской сбруи бросились ему в глаза. За длинным столом сидело и стояло множество народа и хлебало щи из чашки величиною в пол-ушата; другие одевались, иной молился, другой пел, третий перед завтраком прогонял остатки сна стаканом пенника[28]28
Пенник – крепкое хлебное вино.
[Закрыть]: точная ярмарка! Это все были будущие товарищи Ванюши, извозчики рессорные, калиберные[29]29
Калибер – принятое в старой Москве название простых рессорных дрожек.
[Закрыть], каретные, ломовые. В светелке, рядом с этою ярмаркою, Ванюша нашел дядю Парфентья. Старик, бородатый, плешивый, красный, в красной рубахе и старом плисовом камзоле, с разломанными счетами в руке и с мелом в другой, – таков явился дядюшка Ванюши. Он считал тогда на стене меловые значки, рассчитываясь с извозчиком и доказывая ему, что три мерки овса следует прибавить к замеченным на нарезке.
– Дядя Парфен, здорово, – робко проговорил Ванюша.
– Кто там? Что ты? – сказал Парфентий, хмурясь. – Какой дядя?
– Я брат Осипа Федосеева.
– Будто ты? Видишь, худое-то дерево как тянется! Будто ты Ванюшка Федосеев?
Начался беглый разговор, беспрестанно прерываемый приходом и уходом извозчиков, спросами жены, криком детей, которых Парфентий отечески унимал за вихор. Ванюша объяснил Парфентью все дело.
– Ох вы, голь! – воскликнул Парфентий. – Ведь несет же нелегкая в Москву! И без того вашей братьи здесь битком набито. В нынешнее ли время зашибить копейку, когда уж тут на обухе рожь молотить, а часто приходится локти грызть!
– Дядюшка, я тебе в наклад не буду; за хлеб, за соль возьми, а на корм я, уж верно, добуду…
– Добудешь ноги, на чем бежать. Дядюшка, пиши должок на стенку, а примись-ка после за тебя, так бабьего вою не оберешься.
Плохое было приветствие на первый раз, и диво ли, что Ванюша после такого разговора с дядею Парфентьем вышел за ворота печален, со слезами на глазах.
– Добрый молодец! Спасу Христову на свечку; бог благословит тебя, – проговорил ему кто-то.
Ванюша вздрогнул и оглянулся. Перед ним стоял седой старик с кружкою, в которую собирал он на свечку к церкви Спаса.
Как этот нечаянный случай обрадовал Ванюшу! С какою радостию вынял он целую гривну и положил старику, с каким восторгом слушал благословение старика!
И дядя Парфентий не всегда бывал сердит, не всегда каркал, будто зловещий ворон. Вечером, на досуге, он разговорился с Ванюшею о родине, о Федосее, о делах Ванюши, считал, пересчитывал, выспрашивал у Ванюши и заключил приветствием:
– Ну, ты малый, кажись, добрый! Смотри; не пей, не дерись, будь услужлив да уважай дядю. Ремесло, за которое ты принимаешься, таково, что без гибкой спины, о которую палка хожалого не ломается, ничего не добудешь. Нынче ведь и не наш брат берет только поклонам, а нам неужели умнее бояр быть!
И вот Ванюшу повели в Частный дом[30]30
Частный дом – здание, в котором размещалась полиция административного района (части) города.
[Закрыть], потом еще и еще куда-то; подьячие писали, брали с него на водку, на калачи, и когда выпал первый снег, Ванюша на своей лошадке, в плохих пошевнях[31]31
Пошевни – широкие сани, обшитые внутри лубом.
[Закрыть], с медным значком на спине, на котором выбито было название части города, стал на ближнюю биржу и сделался членом республики московских волочков[32]32
Волочек – крытая зимняя или летняя повозка, кибитка.
[Закрыть] и Ванюшек.[33]33
Ванюшка (Ванька) – зимний легковой извозчик на плохой крестьянской лошади и с бедной упряжью.
[Закрыть]
В самом деле, если нельзя назвать республикою, то можно уподобить целому гражданскому обществу мир московских извозчиков. Странное животное человек: он все разнообразит, ладит по-своему, так что куда ни брось его, везде от него раздвигается круг, как будто от камня, кинутого в воду. Эти круги сталкиваются, сбивают друг друга и составляют что-то свое, особенное, в чем, как бы ни мало оно было, отражаются человек, и страсти его, и добро, и худо природы человеческой. Так и в мире московских извозчиков есть свои условия быта, из коих только гении-извозчики вылетают и в коих богатство выигрывает, ум служит подставкою, а бедность и глупость, как везде, бывают родные сестры.
Ванюша скоро увидел, что ему не угоняться за другими, если он не пустит гончею собакою свою совесть и если не будет равняться с товарищами, а это равенство было ему куда не по сердцу. Биржа, где стоял Ванюша, составляла только часть мира того постоялого двора, в котором, под покровительством Парфентья, кочевали пришлецы отвсюду и всякие. Они разъезжались каждое утро на несколько биржей и соединялись в одно общество поздно вечером. На каждой бирже были записные, вековые жильцы-извозчики, знавшие всю подноготную в Москве и управлявшие общими мнениями; власть их была деспотическая, ибо основывалась на кулаках и дружбе с будочниками[34]34
Будочник – низший чин городской полиции.
[Закрыть]. Эти жильцы улиц были народ отборный, закаленный в боях и ресторациях; у них были свои льстецы, рабы, прислужники. Волнения на бирже, при появлении пешеходца, все делались под их рукою. Тут был неизъяснимый дележ, угощенье, череда. Главные коноводы всего более выработывали ночью, возя удалой народ на лихих дрожках бог знает куда и где кидали горстью двугривенные, как сор, не уважали синих и красных бумажек и гордились только белыми[35]35
…не уважали синих и красных бумажек и гордились только белыми. – Речь идет об отличавшихся цветом пяти-, десяти – и сторублевых ассигнациях.
[Закрыть]. Их подручные отличались бесстыдною ловкостью, когда надобно было подавать сани, наглостью, когда должно было отбить товарища, низостью, когда прихоть седока угрожала их спине. Такой народ всех скорее заработывал копейку, но невпрок, а кто не хотел быть угодником высшего звания граждан биржи, не гулял, не делился в шалостях с низшим званием, тот смело мог ручаться, что всегда воротится домой с мелочью, которую утром взял на сдачу. Ванюша не умел и не мог поладить с своими согражданами, и вскоре общий голос прокликал его негодяем, нетоварищем, лукавцем. Он с изумлением видел, как старики, подобно ему приехавшие извозничать, сгибались перед шалунами и коноводами и как самый дядя Парфентий был всегда на стороне сильного, кривил весы правосудия; наглая ложь, бесстыдство, и обман выигрывали. Он переехал на другую биржу: везде одно и то же! Оставалось удаляться от биржей, стоять на уголках, ездить из улицы в улицу. Но распри, междоусобия, ссоры, бури в стакане воды и тут не давали Ванюше покоя. Его встречали на ночлеге насмешкою, провожали свистом. Никто, правда, не смел прикоснуться к Ванюше, который, кроме сильных рук, был еще любимцем тетки, жены дяди Парфентья. Новая беда: дядя Парфентий был ревнив, как турок, и красивое лицо Ванюши, ласковая, тихая речь, услужливость его не нравились Парфентью.
– Да ведь ты сам велел мне угождать другим? – говорил ему Ванюша.
– Мне, а не бабам, угождать товарищам да власти, а ты с товарищами не ладишь и власти в ус не дуешь. Вчера хожалый[36]36
Хожалый – здесь: служитель полиции, рассыльный.
[Закрыть] Фома шел еле жив сыр, ты ехал мимо и не хотел довезти его до будки, а как тетка кличет пособлять, так Ванюша сломя голову бежит. Смотри, приятель!
Но, может быть, ловкость, честность, ум Ванюши награждали его за все неудовольствия барышами? Ванюша и сам надеялся на это. Он скоро узнал Москву, ее крюки, извилины, бесчисленные церкви и бесконечные переулки. Он тотчас заметил, что если стать в Китае[37]37
…если стать в Китае… – Речь идет об историческом районе Москвы, Китай-городе, включавшем Красную площадь и кварталы, примыкавшие к Кремлю.
[Закрыть], протянуть и сложить обе руки, то десять пальцев на руках, считая от Варварских до Боровицких ворот, будут указателями главных улиц: Варварки с Солянкой, Ильинки с Покровкой, Мясницкой, Лубянки с Сретенкой, Петровки, Дмитровки, Никитской с Кудриным, Вздвиженки с Поварскою, Знаменки с Арбатом и Ленивки с Пречистенкой и Остоженкой; что поперек перерезывают все сии улицы валы Белого и Земляного городов, означенные бульварами, которые, начавшись от одного места на берегу Москвы-реки, примыкают к другому и описывают два полукруга. Накинув такую геометрическую сетку, Ванюше легко было рассчитать все места, и вы видите, что смысла у него доставало на все. Через два месяца его не затрудняли ни Путинки, ни Крапивки, ни Чигасы, ни Болвановка, ни Яндовы, ни Драчи, ни Листы: везде, как по писаному, ездил Ванюша. Но его тощая лошадка, бедная одежда, плохие пошевенки не казались признаками ловкости; у него не хватало бесстыдства хвалиться, перебивать у других, перекрикивать другого, когда на голос: «извозчик!», будто ястребы, кидались отвсюду его товарищи. Ах! как много выигрывают на белом свете медный лоб и ловкий язык, в передней вельможи и… на бирже московских волочков! С грустью видал Ванюша, что люди садились на сани хуже его только за то, что извозчик умел уверить, будто он лучше; торжественно катили с ездоками товарищи, а Ванюша повеся нос оставался на месте и постегивал хлыстиком по снегу. Но если и удавалось Ванюше поймать добычу, он изумлялся, что за народ такой горожане: прихотливый, сварливый и скупой не скупой, а бог знает как назвать. Богач в глазах его бросал деньги за вздор, а когда доходило до наемки санок, торговался за копейку, как будто за сокровище, и боже сохрани если недоставало сдачи хоть двух грошей! Ванюша привез однажды из Охотного ряда какого-то толстяка, который купил там пять фунтов петушьих гребешков и – за гривну оставил в закладе рукавицу Ванюши, не боясь, что бедняжка отморозит руку, пока выработает сдачу!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.









![Книга Четвертая производная [Небо в алмазах] автора Дмитрий Биленкин](/books_files/covers/thumbs_100/chetvertaya-proizvodnaya-nebo-v-almazah-37968.jpg)