Текст книги "Молотов"
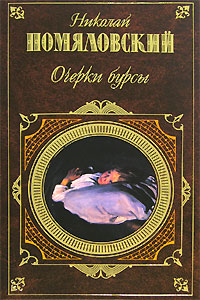
Автор книги: Николай Помяловский
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Но период непонятных стремлений, туманных мечтаний и волнений в той или другой форме развивается в жизни всякого человека. Если не испытала этого Надя в школе, то испытала дома. Но многим семнадцатый год Нади покажется непоэтичным, хотя и с примесью даже институтского элемента, только в более изящной форме. Она, задумываясь по-детски о будущем, слегка мечтала и о женихе; жениха она представляла чем-то вроде папаши, разумеется, помоложе; задумывалась она тогда ненадолго. Когда Надя подросла, у нее стал формироваться более определенный образ жениха, о котором она часто думала и за шитьем, и читая газету, и лежа в постели: то был чиновник, молодой, добрый, любящий свою жену и дом, получающий большое жалованье и хороший хозяин. По ночам и за шитьем этот образ выяснился – он имел рост и звук голоса, с ним часто разговаривала Надя, и у нее вышло две жизни – одна действительная, другая мечтательная, – обе жизни были полны. В мечтательной жизни, которой она отдавала большую долю своего существования, у нее было свое хозяйство, свой муж, даже о детях она думала, – тогда-то вдруг вспыхивало ее лицо и становилось задумчиво; у ней свои гости, она принимает их, разговаривает с ними, просит садиться, играет для них на фортепьяно, готовит им чай и закуску. Иногда думается ей: «Вот муж захворал», а не то: «Крест получил». Какая девица, играя мыслью, не была прежде брака замужем? Но так играют дети, венчают друг друга и поют: «Исайе, ликуй!..» Скоро и незаметно наступила другая пора жизни, пора полного расцветания. Стала она рассеяннее, ее грудь наливалась, появились непонятные сны и после них тайные слезы, по девичьей душе прошли неведомые доселе движения, разрешавшиеся бог весть откуда родившимся вздохом. Она что-то разлюбила свое фантастическое хозяйство. Когда выдуманный муж являлся в ее воображении, она прогоняла его, и муж, вместе с хозяйством, чаями и гостями, стал являться реже и реже и, наконец, совсем скрылся где-то этот надоевший и опротивевший образ. Поневоле вспомнила Надя подруг – неужели и она обожала? Ей хотелось целовать канарейку, цветы, мраморные статуэтки и картины… Тревога пришла и кипучая жизнь… Боже, как она любила, как страстно любила, и сама того не зная… Кого же?.. Непременно – кого?.. просто любила!.. Полная и действительная любовь, с поцелуями, объятьями, клятвами, со всем счастьем и горем, бывает для избранных, а неизбранные что-то во сне видят похожее на объятья и поцелуи, а наяву чувствуют лишь жар жизни и широту души. Для многих любовь проходит этим внутренним путем, помимо мужчин, женихов и мужа. К ней кто-то сходил по ночам, стоял в ее изголовье, и, вставая, она плакала и счастлива была несказанно. Сумерками долго она сиживала в зале, сложа руки, глядя на улицу и ничего не делая. Трудно понять было, как этой девушке не скучно. Наде же казалось, что вдруг все как-то особенно и без видимой причины полюбили ее; примечала она надолго остановившийся на ней взгляд матери, отец стал целовать ее чаще, дети около нее увивались. «А Коля где?» – однажды она спросила маленьких братьев и сестер, и так хорошо, ласково, задумчиво спросила, что дети кинулись к ней на шею, стали ее целовать, она их целовала и весь вечер тот пропела… Все существо девушки было ясно, чисто и счастливо… Прошло еще немного времени. Мало-помалу горячая жизнь стала остывать, струны, высоко натянутые, упали, показалось, что все стали холодны к ней, появилось дурное расположение духа, какая-то темная мысль кралась в сердце. Она затосковала беспричинно, но не плакала больше. Мать первая поняла, что нужно было Наде. Скоро в доме Дороговых появился чиновник и предложил Наде руку. Это был чиновник молодой еще, с крестом, получал хорошее жалованье и водки пил мало – рюмку перед обедом и две рюмки перед ужином. «Маменька, я не пойду за него», – сказала Надя. Мать долго уговаривала ее, доказывая все выгоды предстоящего брака; а дочь упросила отца, и Игнат Васильич решился отказать жениху. «Помни, Надя, тебе скоро будет осьмнадцать лет», – сказала Анна Андреевна. Бог знает с чего брак показался Надежде Игнатьевне какой-то службой, долгом, поденщиной, точно опять отдавали ее в институт. Она усердно молилась богу, чтобы хоть на время отдалить брак… Началось усиленное чтение. Она читала большею частию романы и повести, из которых в институте слышала одни невинные отрывки. Лицо ее горело от свободных, поэтических страниц; все, что есть у нас лучшего, прочитала она в это время; Тургенев сделался ее любимым поэтом. Многие страницы, один раз прочитанные, с того времени остались в ее памяти навсегда… Хорошо читается в эти годы, и славное это время!.. Ясное, свободное счастье горело на ее лице, когда она, сидя за шитьем, увлекалась бессознательно и повторяла в воображении чудные картины природы и любви, созданные нашими поэтами! Если в действительности нашей многим не приходится любить – запрещено либо не удается – и в грядущем предвидится лишь обязательная любовь, то пусть эти многие хоть над книгами поживут – и задумаются, и поплачут, и улыбнутся счастливо. Иначе скучно жить на свете; одной прозой прожить невозможно… Но проза неизбежна… Часто лицо Нади над самой пламенной страницей переменяло выражение, становилось совсем другое. Оно показывало, что Надя соображает, рассчитывает что-то и обдумывает; и действительно, в одну из таких минут она поняла… она поняла, что такое хлеб насущный, что родители хотя и любят ее, особенно, как казалось ей, отец, но не век же им кормить ее, пора искать Наде брачной жизни, как чиновник ищет места, лошадь – корму… Мерзко стало на душе ее и страшно. Книга была закрыта, и на обложку легла дрожащая от волнения рука… Она не заплакала… Что-то суровое и холодное отразилось в ее глазах. Она встала с нервным движением, глубоко вздохнула, взяла книгу и надолго положила ее в комод… Поняла наконец, кто она такая… Как в то время она боялась женихов, как их ненавидела!.. Всякий раз, когда появлялся в дому незнакомый мужчина, Надя думала с замирающим сердцем: «Не он ли?» – и прибирала в голове слова, которыми она станет упрашивать отца и мать, чтобы они не торопились пока с замужеством ее… Через полгода жених явился, и Надя едва не вышла замуж, – так ей трудно было уговорить и мать и отца, который теперь не держал ее сторону. Больших слез и упрашиваний стоил Наде этот отказ, но все-таки она отделалась от жениха, хотя и чувствовала с стесненным сердцем, что может прийти третий, четвертый, что много их на свете и что раз от разу ей труднее будет выпроваживать их. Чего же она ждала? не в девах же она хочет остаться? Она сама не знала, чего хотела; но натура ее была так чиста, что инстинктивно она берегла сердце для того, кого полюбит, а не для первого встречного, рекомендованного отцом. Она не родилась для обязательной любви… Опять потянулось время среди занятий домашних, но теперь как-то скучно и вяло, день за днем, по-черепашьи… Не было ни радостей, ни печалей. Надя стала удаляться отца и матери; сидя с ними же, сделалась особняком. Ее никто не упрекает, по-прежнему с ней ласковы, сама мать заботится о ее здоровье и удовольствиях; но скажут ли, что ныне все дорого стало, дети подрастают, или что у Лены Рогожниковой, Саши Касимовой женихи есть, так и подумается Надежде Игнатьевне, что ей пора искать корму, пора! В таких случаях ей никто и ничего не намекал, она это хорошо знала, да из самой жизни вытекал такой, а не иной смысл. Гостю делалось с ней скучно. И говорит, и хозяйничает, и потчует Надя, как всегда; как всегда, ласкова и внимательна, а все что-то не то, скучно, души нет… Она опять вернулась к книгам. Но чтение уже не давало ей, как в былые дни, страстного наслаждения книгою. Она критически стала относиться к каждому образу, к каждому положению действующего лица. Жалко было смотреть на нее, когда она с сомнительной усмешкой пробегала те живые строки, которые прежде так увлекали ее. Ни с кем она не была откровенна; лишь с одним Егором Иванычем она говорила о том, о чем с другими говорить не решалась, ждала его всегда с нетерпением и, когда он не приходил, была особенно скучна и задумчива. Даже в те вечера, когда Егор Иваныч не успевал перемолвить с нею слова, она все-таки была довольна его присутствием, чувствовала что-то успокаивающее при взгляде на него. Если же он говорил с Надей, она в речах его почерпала непонятную для нее силу. Никто ей так дорог не был, как он. Нравственная связь с окружающими родными была надорвана, а знакомых было мало, да и тем она не доверялась. Надя была уверена, что, случись с ней какое-нибудь большое горе, Молотов всегда поможет ей; случись, что она сделает дело, за которое ее все осудят, он ее не осудит, и если бы даже должно осудить, то пожалеет и помилует. Добрее и умнее Егора Иваныча она никого не знала. Положение ее было окрепощено условиями, которые не давали ей взглянуть на то, как живут люди за стенами родного дома; один только Молотов мог рассказать ей о иной жизни, – и вот это не институт, не старорусский терем, а заколдованный семейный круг столичного чиновника! Это тот же терем, только нынешнего времени. Отчего ж не петь и до сих пор: «Я у батюшки в терему, в терему, я у матушки высоко, высоко»?.. Но и с Молотовым, что очень естественно, Надя вполне откровенна еще ни разу не была. Разговор всегда заводился о предметах, только побочно, а не прямо относящихся к ее тайным мыслям. Все, что говорил Молотов, служило для нее только данными, на основании которых она сама выясняла и проверяла свои скрытые в душе думы, и потому в разговорах ее всегда было более содержания и серьезного смыслу, нежели сколько казалось с первого взгляда. Такое искусство говорить невольно приобретает в тех обществах, где запрещается многое обсуживать ясно, просто и открыто. Но эта сдержанность, робость высказаться, напрасная стыдливость понемногу ослаблялись; откровенное слово само собою рождалось, когда обстоятельства заставляли Надю искать решения того или другого вопроса. Молотов чувствовал, что Надя недоговаривает, что у ней есть дума, которая томит, беспокоит, стесняет ее молодую жизнь. Он не посягал на откровенность Нади, но день ото дня хотелось ему узнать, что такое делается с ней, и день ото дня хотелось Наде узнать, что такое за человек Егор Иваныч. Он так, казалось ей, не похож на других. Когда она была еще маленькая, пришел откуда-то и стал почти жить с ними этот вечерний посетитель. Ей хотелось разгадать и добродушие его, и ласковую насмешливость над увлечением, и его многостороннее знание. Она думала, что в жизни он знает бесконечно много такого, о чем с ней никогда не говорил, думая, что она не поймет его, и как ей хотелось расспросить обо всем, обо всем на свете, чтобы догадаться, додуматься наконец, что же ей делать и как жить на свете. В последнее время в Наде стало развиваться религиозное направление. Долгие разговоры вела она по этому предмету и через несколько времени почувствовала, что под влиянием Молотова просветлела ее вера, легче стало ее сердцу, когда оно, еще неиспорченное, легко освободилось от многих предрассудков; но Надя спрашивала себя: «Верует ли он?» – ответа не было. Надя не знала, как в нынешний век веруют люди, и в этом отношении Молотов так был непохож на всех, кого она знала.. Один только Череванин, художник, выделялся из их круга, но он редко посещал их. Несколько раз Надя порывалась поговорить с Молотовым о женихах, любви и браке, но всякий раз что-то ее сдерживало. Так и плелись дни за днями, без всяких внешних событий, «в терему да в терему», куда едва проникал жизненный луч света, пока не наступил Наде двадцатый год.
Молотову надо было побывать у художника Михаила Михайлыча Череванина, родственника Дороговых. Егор Иваныч часто бывал на Песках, где жил Череванин, и потому Игнат Васильич просил Молотова зайти к нему и спросить, не поправит ли он портрет Дорогова; Молотов все забывал о поручении и вот однажды вечером, чтобы исполнить его наконец, отправился к художнику.
– У нас здесь большое декольте, – говорил Михаил Михайлыч Череванин, вводя Молотова в свою комнату.
Молотов огляделся. Довольно большая комната была освещена сальными свечами. Стояли мольберты, станки, манкены, палитры; окна были без занавесей и заставлены картонами; на окнах стояли горшки дряннейших ржавых гераниумов, покрытых копотью и пылью; тут же, между горшками, валялась оставшаяся от чаю булка, кусок колбасы в бумаге, медная сдача, кисти и табачные окурки.
У Череванина был праздник. В гостях у него было человек двенадцать, все почти молодежь, только один пожилой офицер с залихватской физиономией и еще старичок, тоже художник. В воздухе плыли табачные облака; в стаканах дымился пунш. В то время как в других углах столицы совершалась тихая жизнь, здесь молодежь проводит буйно время.
– У нас большое декольте, – повторил Михаил Михайлыч. – Не хочешь ли пуншу?
– Не хочу.
– Твоя воля.
– Как гадко у тебя!
– Ну, ну! – отвечал художник.
– Ведь ты свой талант губишь.
– Что ж делать, братец, органический порок.
Череванин был товарищем Молотова в продолжение двух курсов университетских. Он был сын профессора семинарии, женатого на родственнице Дорогова, и приходился Игнату Васильичу чем-то вроде племянника. Он был человек странный, оригинал, талантливый человек, добрая душа и по временам сильно поклонялся Дионису. Но в его фигуре широкого размера не выражалось древлеславянской удали; напротив, видно было что-то печальное, слабость видна была, хотя всякий, взглянув на него, сразу поймет, что у него организм железный, выносливый. Причесывает его сама мать-природа, и она, любя разнообразие, отправила один клок волос за ухо, а другой повесила на щеку, на темени приподняла вихор, пробор перепутала, не завила в волосах ни одного колечка, а оставила их прямыми, как нити, не напомадила их, а приправила пухом, редко побуждала его бриться, не берегла платья от пыли и пятен… И работа его не отличалась тщательной отделкой, как и наружность, как и манера выражаться, как и все, ему принадлежащее. Краски ложились у него клочьями. Он не рисует попеременно волоса, лоб, глаза, уши и т. д., начиная верхним волоском лица и кончая последней чертой подбородка. Вот он оживился, схватывает черту на щеке, но вдруг кисть его переносится и лепит под глазами, потом удачный взмах определит характер губ; он чертит зря, смело, уверенно, твердо; ошибется, так трудно поправить. Не умеет он изображать идеальную красоту, не увидите у него Аполлонов Бельведерских и Венер Медицейских, но у него встречаются удивительно верно выхваченные из жизни типы. Он имел золотую медаль за картину в роде жанр и не дорожил той медалью. Было время, когда Череванин с любовью занимался своим делом; его одобряли друзья, товарищи и учителя, но не был сам он убежден в своем таланте, и тогда это сильно волновало его. «Что, если я простой маляр? – думал он. – Что, если придется бросить кисть, вместо ее взять в руки перо чиновника, а мастерскую променять на канцелярию?» Но он давно уверен, что имеет талант – не великий, но довольно крупный; и – непонятно – с той поры самый талант стал представляться ему достоинством невеликим. Череванин удивлялся, отчего это другие не могут рисовать, как он: не хотят, а рисовать – просто, – и с странным презрением художник относился к своему искусству. Ему не жалко было продавать свои картины. Картина становилась ему противна, лишь он успевал окончить ее. «Ведь всякую черту знаю на память!» – говорил он. Но были картины, проданные Череваниным, которые были для него дороже других: головка девушки, деревенское кладбище, семейная группа, сон нищей и др. К этим любимцам он иногда ходил в гости; придет к владетелю и просит посмотреть на картину, пробудет с ней около часу и опять уйдет на год или на два. Раз он собрался сделать копии с своих любимцев, но не ужился с ними и месяца, – живо они перешли в чужие руки. Ни к чему он не мог надолго привязаться – были ли то люди, избранные книги, произведения его искусства или простые вещи. Он был два раза влюблен. Первый раз за три дня до свадьбы невеста изменила ему. Он сильно страдал и с горя ходил на мост, чтобы погребсти в Неве свое грешное тело, но кончил тем, что нарисовал на свою невесту карикатуру; впрочем, с тех пор он особенно коротко сошелся с Дионисом. Другой раз он увлекся «погибшим, но милым созданьем». Это была очень миленькая девушка, но тоже надула его. На этот раз Череванин не лез на стены, не думал топиться, но предпринял оригинальную меру, чтобы отделаться от тоски. Вставши поутру, он выходил на улицу, отправлялся куда глаза глядят, ходил до истощения сил и, вернувшись домой, страшно измученный физически, бросался на постель и засыпал. Проснувшись ночью, он опять отправлялся в поход с единственной целью измучить себя; вставал он в полдень и принимался за то же самое. Через две недели, после таких прогулок, с него как рукой сняло. Впрочем, хотя горевать он перестал и говорил с тех пор: «Лекарство от любви – моцион», но эти две неудачи сильно подействовали на его характер. Он получил наклонность к цинизму и отрицанию жизни, что, впрочем, лежало в его натуре. Стал он перебираться с квартиры на квартиру и нигде не уживался. Сначала он занял отличную модную мастерскую, хорошо меблированную; она вся была заставлена портретами его работы. В это время он вел себя джентльменом. Но не прошло и полгода, как ему захотелось идиллии, и он поселился на хлебах у одного семьянина, нанимая две простеньких, но чистеньких комнатки; около его постоянно дети, цветы, чижи в клетке, старуха в углу вяжет чулок, и окружают его уже не портреты, а вполне оригинальные произведения. Через год ему надоели и новый быт, и люди, и картины, и вот мы застаем его на Песках, в неопрятной квартире. Теперь он кутил, был грязен, говорил грубо, и дико-дико было в его комнатах, освещенных сальными свечами, где среди манкенов молодежь совершала оргию. С переменою людей, обстановки и работы и при наступлении периодического чествования Диониса ярко обнаружился его крупный, резкими чертами одаренный характер.
– Органический порок, милый человек! – повторил Череванин.
Молотов чем более вглядывался в окружающую обстановку, тем в большей дикости и нелепости она представлялась ему. Он с изумлением заметил в компании двух молодых людей, одного – сына Рогожникова, а другого – Касимова.
«Эти как попали сюда? – подумал он. – Что их гонит из дому? разве там не спокойно, не мило, нет жизни и свободы? Недостаток эстетического чувства, грубость и одичалость характера заставляют человека не любить ровную, тихую, полную глубокого смысла семейную жизнь».
– Не стыдно тебе, – сказал он Михаилу Михайлычу, – ведь ты губишь молодой народ…
– Без меня хороши! Ты лучше посмотри да послушай, что здесь за народ, – это занимательно и поучительно. Отличные этюды встречаются. Тут собрались дивные ребята, все любят отечество, искусство, науку и водку, – больше ничего не любят!.. Пейте, господа! – крикнул Череванин как-то вяло.
– Следует, – ответили ему.
– Хоть бы ты вымылся, – сказал ему кто-то.
– Медведь не моется, да все его боятся, – отвечал художник.
Пошло страшное попоище; начались песни, хохот, остроты, пойло пенное, пойло пуншевое, пойло пивное.
– Что ты делаешь?
– Всё пустяки в сравнении с вечностью!.. Как что делаешь? Мы вопросы современные решаем… Слушай, вон в углу кричит: ты думаешь, тут что-нибудь спроста? Нет, это он о Суэзском перешейке валяет! – не слышно что, да и так можно догадаться, что околесную несет. Прислушайся теперь к речам в другом углу – там решают влияние французского кабинета на дела Азии. А посмотри-ко на того парня, который соскочил с дивана, точно его по шее треснули. О, бедняга, как он худощав и бесконечно длинен, поднял костлявые руки, кричит, вопит и распинается, а за что?
– Гегель и прогресс!.. Гегель и прогресс! – кричал длинный господин.
– Это всё любители просвещения, жрецы, братец ты мой.
– Черт знает как скучно дома! – говорил Касимов. – Что за пошлая, телячья жизнь! Ни о чем не услышишь живого слова, бог знает о чем толкуют с утра до вечера, просто невыносимо!.. А какая чистота нравов! Знаете ли, что у меня есть тетушка сорока пяти лет, которой группы, выставленные на Аничкинском мосту, кажутся безнравственными? Она не может смотреть на тело человека, ей совестно. В сорок-то пять лет ее соблазняет болван-композиция!..
Молотов не мог не улыбнуться.
– Выпьем еще! – слышно в углу.
– Выпьем!
– Поцелуемся, дружище!
– Поцелуемся!
– Тебе, что ли, ходить? – говорит один из играющих в шашки.
– Сходим, сходим!
– Кто, господа, идет со мной «в ту страну, где апельсин растет»?
– Подожди, еще рано…
– Так песню, господа!
И затягивают «Вниз по матушке по Волге, по широкому раздолью». После этой песни следовала патриотическая, известная всем молодым людям столицы. Поднялся шум, и грохот, и ярые возгласы.
– Россия на ложной дороге! – кричал какой-то политик.
– Вы с Англии пример берите, – перебил его другой голос…
– Нет, в Германию, в страну философии, – начал было гегелист…
– Пошел ты к черту! – перебили его другие. – В Германию, страну колбасников? Да им все морды побить надо! Германия – огромная портерная в Европе…
– А Россия – кабак.
– Да ты сам пьян!
– Что ж из этого?
– А если хочешь быть последователен, убирайся к черту с Гегелем!
– Нет, вся наша надежда на мужика, на простолюдина. Освободите мужика, он пойдет шагать!
– А до тех пор что будем делать?
– Ничего!
– Ну, и на здоровье.
– Слова прошу, – закричал офицер с залихватской физиономией, – послушайте слова опытного человека! Молчите и внимайте.
Все стихло.
– Я предлагаю, господа, устроить сейчас же общими силами скандалиссимус!
– Какой, какой?
– Переломать кости первому встречному.
– Да за что же?
– Здорово живешь!
Скандалиссимус был отвергнут большинством голосов.
Молотов с изумлением смотрел на окружающие его лица и слушал их ярые речи.
– Что это у тебя творится? – спросил он Михаила Михайлыча.
– Будто не понимаешь?
– Ничего не понимаю.
– Здесь совершается великая тайна акклиматизации европейского прогресса, включительно до скандалиссимуса… Я тебе говорил, что мы решаем современные вопросы. Мы не аскеты, не люди старого закала; здесь нет ни одного человека, который бы из прогресса создал пугало нравственное и открещивался бы от него, как от сатаны. Здесь процветают широкие нравы.
– Что же будет с этими людьми после, когда пройдет время разгула, перегорит человек, переломаются его кости и испортится кровь?
– Вон ты куда хватил!
– Ведь потянет же их когда-нибудь из этого бешеного круга, жизнь заставит взглянуть на себя серьезнее, – что тогда будет с их убеждениями?
– С какими?
– Да вот которые они проповедуют.
– Это разве убеждения?
– Что же?
– Просто дурь на себя напустили. Горло драть хочется, ну и дерут. Им бы только посуетиться, побыть в массе, покричать, а покажи только розгу, так сейчас: «Ай, маменька, не буду!» Предложи любому чин регистратора, сейчас и убеждения побоку, и еще будет потом говорить, что его пошлая действительность задавила, среда заела, – а какая среда? натуришка гнилая! Идеалы их книжные, и поверх натуры идеалы плавают, как масло на воде. Ничего не выйдет из них. Квасные либералы… Хотя бы пару мужиков научили грамоте, а то даже и говорить-то не умеют, убедить никого не могут… Пей, ребята! – крикнул Череванин.
Молотов пожал плечами.
– Зачем же ты собираешь их около себя?
– Разве не видишь, что веселенький пейзажик выходит? Надо же чем-нибудь утешать себя.
Молотов опять пожал плечами.
– Михаил Михайлыч, – сказал Касимов, подходя к нему. – А, Егор Иваныч, – сказал он, – извините, я вас и не заметил в дыму.
Поздоровались.
– Что вам угодно? – спросил Череванин.
– Я хочу идти в художники…
– Так что же?
– Как посоветуете?
– Ступайте.
– Ей-богу, ничего не может быть лучше жизни художника: свобода, вино, женщины и друзья!
– И картины… – прибавил Череванин.
– Только не знаю, есть ли у меня талант.
– Все же будете принадлежать к числу художников, и у вас будет свобода, вино, женщины и друзья…
Касимова отозвали пирующие.
– Веришь ли, что я из этого господина могу сделать хоть сейчас краскотера? И все они таковы: это люди подражательные, юноши без всякого содержания. Он как родился не потому, что хотел того, а пожелали мамаша с папашей, так и все потом делал, потому что люди это делают. Между тем Касимов умеет острить, как ты слышал, но всегда впадает в чужой тон; вообще он неглуп, у него есть ум, но не свой. Смолоду такие люди всегда подают надежды. У них ничего нет за душой, кроме впечатлительности. Поживши с угрюмым человеком, Касимов совсем отвык от улыбки; с рыцарями – он рыцарь, с франтами – франт, среди ученых корчит глубокомысленную рожу. Однажды он вздумал идти в монахи, потому что наслушался какого-то старика о развращении рода человеческого; а через месяц он уже был отчаянным франтом. Заклятый ненавистник брака, пока холост, а женится – попадет под башмак жены. Человек с небольшим характером и какой-нибудь оригинальной выправкой может заставить их сапоги себе чистить. Противно смотреть на них, так они льнут в глаза и точно в губы поцеловать хотят. Словом, народ сопливый. Он всегда находится под влиянием последней прочитанной статейки. Сегодня он кричит: «Индейцы англичан раскатали»; завтра: «Гумбольд умер»; послезавтра: «Прочитайте „Манон Леско“, очень развратная книжка», – и нигде ничего не понимает, всегда с чужого голоса поет. Когда пошла обличительная литература, тогда он с благоговейным страхом говорил: «Вот отчаянные-то головы!.. что пишут!.. и не боятся!» Попавшись за увлечения впросак, он вдруг хвост опускает, робеет и, не зная, что делать, иногда плачет и богу молится, не понимая, что ж это за напасть на него. Когда же их поймают в минуту растерянности и станут стыдить, то они без зазрения совести умеют напустить на себя рысь дурака: «Эх, господа, полно смеяться, я сам знаю, что я глуп; что ж делать, если бог ума не дал», – и врет, каналья: он вовсе не глуп, а просто не хочет шевельнуть мозгами, разобраться, наконец, во что он верит и не верит. Вот я и потешаюсь. Надоедят, запру двери, и делу конец.
– И тебе не жалко их?
– А тебе жалко? Мне смешно, но это одно и то же: одинаково оскорбительно для человека. Жаль, нет здесь одного господина, который пописывает статейки. Вот забавник-то! «Как это вы пишете обличительные очерки?» – спросил я его однажды, и что же? – он сознался: «Откроешь, говорит, Свод законов, прочитаешь статьи, нарушишь их и припишешь это какому-нибудь чиновнику… при этом обстановочка маленькая, современный дух… ну, и ничего, платят за это деньги, все же на табак годится». Смешно ли это или жалко, я разности большой в том и другом случае не вижу.
– Ну, а сам-то ты что?
– А я, может быть, еще хуже их. Эх, Егор Иваныч, пойдем отсюда вон… Опротивело.
– Пойдем, – отвечал Молотов, – только как же, гости-то?
– Вон там старичок есть, распорядится.
Молотов и Череванин ушли.
– Куда ж мы отправимся? – спросил Молотов, когда они вышли на улицу.
– Куда глаза глядят; пойдем хоть на Невский.
Молотов согласился.
– Не понимаю я… – проговорил Молотов.
– Чего, милый человек?
– Скоро ли у нас кончится это вечное гореванье, никому не нужная тоска, мрачный взгляд на жизнь, доморощенная байроновщина.
– Доморощенная – это верно сказано, Егор Иваныч.
Прошли несколько молча.
– Мало ли чего ты не понимаешь, милый человек, – начал Череванин. – Век живи, век учись, а дураком помрешь. Скажи ты, добрая душа, куда мне девать свои досуги? Сидишь-сидишь, и такая тоска заберет, что и сам не заметишь, как очутишься в портерной или трактирном заведении. Я уверен, что ты не смыслишь ничего в вине, а ты вообрази себе, как выпьешь, вдруг огни потекут по телу, грудь вздохнет широко, вот она, жизнь-то, начинается!.. Прекрасная погода, отличная газета, чудная водка!.. думы и печали далеко летят. И хмель не заснет в тебе; он ходит, растет и разрастается… в голове туман, в крови жар… петь хочется, плакать и целовать всех… Вот это не мечта, а жизнь… я ее чувствую, едва не ощущаю руками… Понял, милый человек?.. И пойдут писать дубы еловые, дубы сосновые, дубы липовые!..
– Плохо, если они пойдут писать…
– Пожалуй, что и плохо…
– Зачем же ты это делаешь?
– Потому что мне нравится.
– В наше время стыдно пить…
– Это отчего? Если будешь пить, так от века отстанешь, что ли? Полно, меня ведь не надуешь. Век выработывает не только такие натуры, как твоя, но и такие, как моя. Ты не найдешь ни одного человека, который жил бы так, как жили в прошлом столетии, да и такого не найдешь, чтобы сегодня по-вчерашнему: то же самое делает, но иначе, в другой форме и по другим причинам. Кто ж отстает от века? Ни для кого солнце не остановится. Сменяющиеся в жизни обстоятельства, лишь коснутся человека, непременно имеют на него влияние, и тут хочешь не хочешь, а от века не отстанешь. Рутинеров ведь нет на свете, милый человек; их добрые и умные люди выдумали. Покажи-ко ты мне хоть одного отсталого человека.
– Все приверженцы старины, – отвечал с удивлением Молотов, – отсталые люди.
– Старину копнул!.. Ведь ее тот же век произвел, нам современный… Этой старины никогда еще не бывало, она новая старина… Если бы деды пришли да посмотрели на эту старину, они не узнали бы ее, стали бы отплевываться и открещиваться от нее. Эту старину только в нынешний век и найдешь… Какая же она старина? Она тоже новость, продукт современной жизни, последнего часа, настоящей минуты… И выходит – пустое слово, которых так много на свете, диалектический фокус!.. Кто же отстал от века?..
– Но есть же новые люди и новая жизнь?
– Вона́!.. кто ж этого не знал? Ведь все ныне живущие люди народились в наш век, а не из могил вышли, не с того света воротились, и все живут новой жизнью. Например, доселе никто еще не жил, как я живу; ни у кого еще не было такого взгляда на жизнь, как у меня. Если ты о пьянстве говоришь, так что же? И оно не старинное, а новое, прогрессивное…
– С тобой не сговоришь… Ну, отчего ты не пристал к лучшим людям?
– Лучшие люди?.. лучшая жизнь?.. вот оно что!.. Значит, ты согласен в том, что я новый человек; я в то же время и лучший человек.
Егор Иваныч засмеялся…
– Смейся, добрая душа, смейся; но ты опять сказал пустое слово… Лучших людей нет на свете; один худ, а другой лучше, а третий еще лучше; и наоборот, один хорош, другой хуже, а третий еще хуже, – так без конца и без начала. Только самого худого не отыщешь и самого лучшего не отыщешь. Все лучшие и худшие.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































