Текст книги "1918 год_"
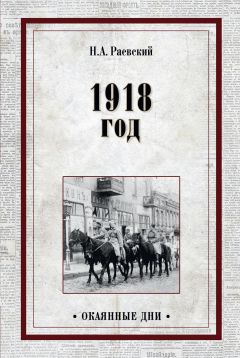
Автор книги: Николай Раевский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава II
В последних числах февраля командир подписал последний приказ – о расформировании батареи. Она была сформирована в царствование императора Павла I (под другим названием), участвовала в Отечественной войне. Если память не обманывает, за битву под Лейпцигом получила серебряные трубы. Кончила свое больше чем столетнее существование в Ольвиополё. Все бумаги, в том числе журнал военных действий, мы сдали городской управе. Батарейный образ, найденный в Восточной Пруссии на поле сражения, командир оставил у себя.
Наступил день прощания. Разъезжались по домам. Я прослужил в батарее почти два года. Когда приехал в начале мая 1916 г. на фронт, застал дружную, издавна сложившуюся семью и быстро в нее вошел. Кто был на войне, знает, что такое боевое братство. Расставаясь, мы ясно чувствовали, что батарейная семья распадается навсегда. Было такое чувство, что кого-то хороним.
Мои близкие жили в это время в Лубнах. Когда садился на поезд, совсем не был уверен, что доеду. Офицеров, возвращавшихся по домам, часто грабили и убивали. Я решил рискнуть – уселся в теплушку, прицепленную к эшелону красной гвардии. Рассчитывал, что «своих» пассажиров, вероятно, не тронут. Для большей верности нанял унтер-офицера драгуна, ехавшего в том же вагоне, следить за моими вещами. Обошлось благополучно, хотя охранитель слушал ночью разговор соседей – демобилизованных солдат – насчет того, что мои вещи следовало бы поделить. Удалось даже провезти оружие – наган, браунинг, два карабина и винчестер. На станции Лубны красноармеец-караульный хотел было отобрать, но я ему показал разрешение на право ношения оружия, выданное мирным ольвиопольским советом, с аккуратной описью всего моего арсенала. Парень прочел и заявил:
– Правильное удостоверение. Проходите, товарищ.
Ольвиопольский совет был неосторожен – оружие я потом увез в Южную Армию.
По дороге из Ольвиополя в Лубны я с интересом присматривался к эшелонам красногвардейцев, отходившим на восток. Революционные месяцы я почти целиком провел за границей. Красную гвардию видел впервые. В большинстве это были подростки или очень молодые парни, не служившие раньше в армии. С одним я разговорился. Узнал, что службой доволен, потому что, мол, платят очень хорошо и харч тоже хороший.
На одной из станций красноармейцы грузили лошадей. Это было очень комичное зрелище. 17-18-летние парнишки в парадных гусарских мундирах, взятых, очевидно, из разграбленного цейхгауза, тянули под уздцы кровных жеребцов, захваченных на каком-то заводе, и трусливо озирались на горячившихся великолепных животных, совершенно не привыкших к вагонам. Распоряжался погрузкой штатский с большим револьвером у пояса, по всему судя, не имевший понятия об обращении с лошадьми. Фронтовиков среди красноармейцев почти не было, и получилось впечатление, что боевой силы это воинство не имеет.
На той же станции я увидел первый «бронепоезд». На обыкновенной платформе стояло полевое орудие наподобие деревянного станка. Было, однако, ясно, что от первого же выстрела пушка сорвется с этого сооружения и перекалечит прислугу. Зато вагоны были великолепны – спальные пульманы первого класса с грозно торчавшими из окон пулеметами. На площадке одного из вагонов стоял пьяный молодой человек в офицерской шинели и новеньком снаряжении. По-видимому, это был пехотный прапорщик, поступивший к большевикам – в то время явление чрезвычайно редкое.
Первое, что бросилось в глаза, когда ехал с Лубенского вокзала домой, были огромные белые афиши «Всем, всем, всем». Велел извозчику остановиться. Предупреждение «наемникам англо-французского капитала», которые «покушались лишить рабочих и крестьян завоеванной ими свободы», что от суда трудового народа они не уйдут. Всем защитникам революции предлагалось истребить белогвардейскую змею. Понять, о чем идет речь, все-таки было трудно. Дома мне объяснили. У брата-семиклассника сидел товарищ гимназист с перевязанной рукой. На бинте виднелись коричневые пятна просочившейся крови.
Оказывается, ночью группа офицеров и учащихся старших классов – все больше офицерских братьев – развинтила рельсы на спуске к Суле, недалеко от моста. Рассчитывали, что очередной красноармейский эшелон слетит в реку, или, по крайней мере, сойдет с рельс и затормозит все движение. В Лубнах знали, что с востока идут украинцы и германцы. В городе то и дело появлялись новые и новые красные отряды, отходившие по железной дороге на Полтаву.
План не удался – машинист как-то догадался об опасности и успел вовремя затормозить. Красногвардейцы стали выскакивать из теплушек. Повстанцы, рассыпавшиеся в цепь поблизости от полотна, открыли огонь. Темный силуэт поезда с несколькими огоньками фонарей был еле виден, но все-таки потеряли несколько человек убитыми и ранеными. Офицерам и учащимся, отстреливаясь на ходу, удалось благополучно уйти. Винтовки они закопали, обернув промасленными тряпками. На следующий день военные как ни в чем не бывало гуляли по главной улице, а гимназисты мирно сидели на партах. Тот, которому пуля оцарапала руку, заявил, что обрезался кухонным ножом.
Участники покушения так и не были пойманы, хотя все остались в Лубнах. Большевистская разведка работала еще очень неумело. Больше всего приходилось опасаться домашней прислуги. В 1918 г. во всех мало-мальски зажиточных семьях еще были кухарки и горничные, сплошь да рядом симпатизировавшие если не большевизму, то большевикам. Родители легко раненного гимназиста хотя и были уверены в своих девушках, но все-таки очень волновались. Предупредили их прямо – помните, расскажете кому-нибудь – панича сейчас же расстреляют…
Те немногие дни (не больше двух недель), которые я провел под красной властью, я почти все время сидел дома. Террора в Лубнах не было. Перед моим приездом, правда, было два-три самочинных убийства да случайная пуля во время салюта на похоронах какой-то жертвы революции пробила череп любопытному гимназисту, взобравшемуся на забор. Комендантом города состоял бывший товарищ брата по Каменец-Подольской гимназии Л. Филиппский. В гимназические годы мы, правда, жестоко бранились из-за «политики», но, надо отдать ему справедливость, этот молодой комиссар, очутившись у власти, вел себя вполне прилично и офицеров не преследовал. Через несколько дней после оставления красными Лубен его, как стало впоследствии известно, за что-то убили красногвардейцы. (Старший брат Филиппского – Иван был офицером Добровольческой армии, потерял на войне ногу и потом, оставшись против своей воли на советской территории, застрелился с тоски где-то на Кавказе.) Таким образом, сложившаяся в Лубнах обстановка была сравнительно сносной. Ходить по улицам все-таки не хотелось. По слухам, большевики собирались провести регистрацию всех бывших офицеров, и я старался поменьше попадаться на глаза «властям». Кроме того, просто было противно смотреть на распущенных, сплошь да рядом выпивших красногвардейцев, толпами шатавшихся по городу.
Мы жили недалеко от «Видов» – молодого парка, разбитого на высоком берегу Сулы, с которого видно было в хорошую погоду верст на тридцать. Иногда я ходил туда рано утром, пока на улицах никого нет, а большую часть дня обыкновенно лежал на кушетке и читал курс древней философии. После долгих военных месяцев и почти что в плену у врагов было приятно следить за мыслями, ничего общего не имеющими с настоящим. Впрочем, настоящее, хочешь не хочешь, давало себя знать день ото дня сильнее и сильнее.
Всюду шли разговоры об украинцах и германцах. «Господа» старались не радоваться опять-таки, чтобы не заметила прислуга. Городские мещане дипломатично молчали. Мужики боялись немцев. В деревню никто в эти дни не ездил, но в Лубнах о деревенских настроениях было легко судить (как и во всех почти южнорусских городах, не исключая губернаторских) по тому, что говорилось на базаре. Базар имел, насколько можно судить, очень темное представление о приближающихся украинцах, но германцев в деревнях боялись сильно.
Лично у меня, как и у очень многих русских офицеров того времени, была большая душевная сумятица. К украинцам, несамостийникам, я никогда враждебно не относился, но, по правде сказать, раньше не принимал их всерьез. С детства привык, что в Каменец-Подольске от времени до времени устраиваются украинские концерты, гуляния по городскому саду, иногда выставки картин. Дома во мне воспитывали русский имперский патриотизм, но не великорусский шовинизм. Отец не раз брал меня с собой на эти украинские увеселения. Очень добродушно относился к приглашениям, подписанным обычно «Кость Солуха и Олекса Билорус». В обыкновенной жизни «Кость Солуха» был Константином Петровичем, отличным врачом, лечившим в течение ряда лет всю нашу семью. Мы были знакомы и домами, и я с детства привык к портретам Шевченко, вышитым полотенцам и ко всему, чему в украинских семьях быть полагается. Странно было слышать, что доктор говорил со своими детьми «на мове», но это почиталось безобидной блажью милого Константина Петровича. Язык я, кстати сказать, понимал отлично, с удовольствием прочел и перечел Шевченко, но говорить не умел совершенно: не к чему было.
В более серьезном аспекте я встретился с украинским движением во время распада фронта и, должен сказать, у меня, как и у моих товарищей по батарее, впечатление было положительное.
На пополнение корпуса осенью 1917 г. во Фрасин прислали украинскую маршевую роту (по всей вероятности, в составе имелись украинизированные части). В это время пополнения являлись обычно в разболтанно-революционном виде. Украинцы приехали в отличном порядке. На площади выстроились подтянутые вымуштрованные солдаты, отлично исполнявшие команды и отвечавшие на приветствия. Их желто-голубое знамя и крики «слава, слава, слава!» никакого враждебного чувства у нас не вызывали. Мы видели надежный, или казавшийся надежным, островок среди анархической стихии.
Помню, что к формированию украинских частей Центральной Радой мы, офицеры, отнеслись сочувственно, солдаты наоборот. Они считали, что «Украина это контрреволюция». В этот момент они отчасти были правы. Если между антибольшевиками и контрреволюционерами ставить знак равенства, то совершенно несомненно, что после октябрьского переворота в ряды украинцев влилось очень много «контрреволюционеров». Насколько скромны были в то время наши желания, показывает разговор, который мне очень запомнился. В офицерской землянке читали вслух только что полученную газету. Между прочим, в ней было сообщение о том, что в украинской армии начальники, начиная с командиров батальонов, будут назначаться, а не выбираться, как у большевиков. Офицеры сразу оживились.
– Молодчина Петлюра!
– Башковитый парень…
Радовались всякому проблеску государственного чутья, и казалось, что у украинцев этого чутья немало. Эти будут сопротивляться большевикам… Помню мы, офицеры, заявили батарейному комитету перед отходом из Румынии на расформирование в Россию, что в украинцев ни в коем случае стрелять не будем. Необходимо подчеркнуть теперь же с полной ясностью, что в украинцах мы видели прежде всего силу, способную сопротивляться большевикам. Вопрос о самостийности как-то всерьез не ставился. Нам казалось, что отделение Украины от России есть просто нелепость и мыслящие иначе рано или поздно в этом сами убедятся. Отделение же Украины от большевиков надо всячески приветствовать, так как Север без Юга не продержится.
При всем этом в Лубнах, как я ни ждал изгнания большевиков, мысль о приходе украинцев не очень меня радовала. Все-таки самостийники и, Бог его знает, на сколько это времени…
Еще сложнее были чувства, связанные с ожиданием немцев. Я считал, что хотим мы этого или не хотим, но внешняя война бесповоротно кончилась, восстановление русского фронта абсолютно невозможно. Надо бороться с большевиками или, по крайней мере, не мешать тем, кто с ними борется. Все это так… Но как встретимся мы, побежденные и униженные, с победителями? Какими глазами будем смотреть на тех, в кого привыкли стрелять? Что, наконец, будет делать германское командование с русскими офицерами на оккупированной территории?
Сомнений было много. Одна только теоретически возможная мысль никогда не приходила в голову – а не следует ли при таких условиях уехать с красными. Я не уехал и никогда после об этом не жалел. Насколько я мог судить, все вообще противники большевиков оставались на очищаемой от них территории.
Глава III
Почти каждый день к брату приходили его товарищи гимназисты. Я с интересом их наблюдал. Сам кончал среднюю школу за год до Великой войны, но, присматриваясь к приятелям брата, чувствовал, что за пять лет учащаяся молодежь очень сильно изменилась. Теперь, когда в большом ходу термин «поколение», сказали бы, пожалуй, «во время войны выросло новое поколение». Мне, правда, было двадцать три, а «новым людям» лет по 17–18. Все больше сыновья маленьких чиновников, сельских батюшек, хуторян побогаче. Мало у кого из них были чисто личные причины ненавидеть большевиков. Еще кой-кого из хуторян успели пограбить свои же односельчане. Горожане в этой сравнительно тихой провинции пострадали сравнительно мало.
Однако у лубенских семиклассников была огромная и очень активная ненависть к большевикам, врагам России. С нетерпением ждали прихода украинцев и германцев. Читали ежедневные советские сводки, где описывались фантастические победы над Белой гвардией и «изменническими бандами гайдамаков». Не раз спрашивали меня с тревогой: «А не могут красные на самом деле отбить?»
Я успокаивал – не надо было большой военной опытности, чтобы понимать, что красная гвардия со своими самодельными бронепоездами и пьяными мальчишками под командой штатских людей германской армии не задержит. Что из себя представляют в данный момент украинские части, никто из нас, офицеров, живших в Лубнах, не знал. У учащихся не было и следов той депрессии, которая несомненно существовала в первое время после развала армии едва ли не у большинства офицеров. Гимназисты, которых я видел, психологически были готовы к тому, чтобы принять участие в вооруженной борьбе против большевиков. Я должен теперь же подчеркнуть очень характерное для всего восемнадцатого года настроение, существовавшее не у одной только учащейся молодежи. «Против кого» интересовало всех гораздо больше, чем «за кого». Молодые украинские националисты (в большинстве, правда, не сепаратисты) в Лубнах были главным образом среди учеников семинарии и земледельческого училища. Эти вполне сознательно хотели драться за Украину против большевиков. Преобладающее же большинство к украинскому движению относилось более или менее равнодушно (изредка – резко враждебно). Мечтали об освобождении, по крайней мере, Юга России от красных, а под каким флагом и какими силами, безразлично.
Во всяком случае, официальная украинская концепция (в те времена, правда, не выдвигавшаяся) о том, что идет война не с большевиками, а с «русскими», показалась бы в Лубнах, например, чудовищной нелепостью. Думаю, что весной 1918 г. ответственные украинские деятели сами отлично это понимали. По крайней мере, все воззвания, расклеенные сейчас же после взятия города, призывали бороться именно с большевиками.
Кроме моего брата, ушедшего с шестого класса в ударный батальон и успевшего получить два ранения, никто из молодой компании, собравшейся у нас дома, на войне не был. И все-таки эти юноши в черных куртках, галифе и высоких сапогах (гимназическая мода на западе и на юге России после отмены обязательной формы), психологически уже были солдатами антибольшевистской армии, готовыми сбросить ученическую шкурку. Не побывав на фронте, они привыкли с детских лет к мысли о войне и об опасности. Переход из мирной, школьной жизни, в совершенно иной воинский мир, который очень нелегко давался моим ровесникам, даже и добровольцам, от «нового поколения» требовал гораздо меньше внутренних усилий.
Весь душевный склад молодежи, выросшей во время войны, был цельнее и проще. В 1914–1915 гг. многие из студентов-добровольцев прежде чем подавать прошение в военное училище или зачислиться вольноопределяющимися в часть, не раз спрашивали свою совесть, следует или не следует, можно или нельзя. Является ли нравственно допустимым убивать людей, защищая родину? Что выше – человечество или нация? «Левые» думали о том, можно ли идти на перемирие с царским правительством. Всех почти мучила мысль об огорчении, причиняемом близким… В той или иной мере уход на войну был сложной внутренней драмой и требовал переоценки многих и многих привычных понятий.
Мне лично переход от мирной штатской жизни к участию в войне тоже дался нелегко, хотя антиимпериалистом я никогда не был. При всем своем преклонении перед гением Толстого-писателя я уже в гимназические годы считал изрядной нелепостью проповедуемое им непротивление злу насилием.
Мой, покойный ныне, отец уже во времена большевистского владычества стал смотреть на войну как на явление имманентное человеческой природе, отвергать которое бесполезно и безнадежно. С юношеских лет и почти до смерти он, как и его братья, был убежденным пацифистом.
«Матери ненавидят войну… «Bella matribus detestate». Моя мама не была исключением, но у нее глубокий, почти религиозный, всепроникающий патриотизм был сильнее отвращения к войне и страха за детей. Впрочем, на одно мгновение и отец, казалось, переменил свои взгляды. В нем, горячем, впечатлительном человеке, заговорили другие чувства. Уже почти двадцать лет прошло с того вечера, а помню его до мелочей. Отец разбудил меня и сказал взволнованным и торжественным голосом:
– Ну, Коля, событие. Германия объявила нам войну.
Помолчал, посмотрел на меня и сказал то, чего я совсем не ожидал: – Тебе двадцать лет… Не поступишь ли ты добровольцем?
Потом улыбнулся и припомнил стих Горация:
– Dulace et decorum est pro patria mori… (Счастлива и благородна смерть за родину).
Скажи я в тот момент, что хочу, я бы уже, вероятно, недель через шесть попал бы в бой. Но восемнадцатого июля 1914 г. я ничего не сказал. Очень интересовался событиями, но, казалось, что война сама по себе, а я, студент первого курса Естественного факультета и автор статейки «К фауне Macrolepidoptera Подолии», сам по себе. И совсем не хотелось mori даже pro patria.
Через полтора месяца мы, пожив в Виннице, куда был эвакуирован окружной суд, – отец был членом суда, – опять вернулись в Каменец-Подольск. Прежде всего пошел смотреть «следы боев». В городе их было немного. Несколько легких шрапнелей попали в здание мужской гимназии. Поцарапали штукатурку. Выбили несколько стекол. Сторожа показали мне подобранные во дворе стаканы с медными поясками, круглые, черные пули. Я представил себе, как летают в воздухе эти тяжелые стальные штуки, как они визжат и убивают людей. Еще раз подумал про себя: «Нет, я не способен… Надо быть героем…»
Потом, много позже, оказалось, что привыкнуть совсем нетрудно… и не только к трехдюймовкам.
Осенние и зимние месяцы 1914–1915 гг. вспоминаю, как время непрерывной внутренней борьбы. С одной стороны, я все сильнее и сильнее чувствовал, что ходить на лекции, работать в лабораториях, определять бабочек в музее Академии наук я не могу. Все мысли были на войне. А вместе с тем я сознавал, что к этой привычной, милой жизни крепко привязан и очень тяжело от нее оторваться. И потом ежедневные списки убитых и раненых, траур в знакомых семьях и мысль о тяжелых стальных стаканах в воздухе…
Около Рождества тяжело заболел отец. Пришлось бросить все и ехать в Каменец. Несколько недель казалось, что конец неизбежен. Я не мог поступить в военное училище, о чем уже заговаривал было с родными в Петрограде. Потом отцу стало лучше. Я вернулся в Петроград и началось прежнее. С одной стороны, с другой стороны… Решил дело случай. В первый год войны было принято перед началом представлений в театрах играть гимны союзных держав. Кусочек «Марсельезы», кусочек «God save the king», потом «Вrabancoone» и тягучая Японская мелодия. Кусевицкий отступил от традиции. В начале концерта исполнял только один какой-нибудь гимн. Я попал на «Марсельезу». Много раз с тех пор слышал боевую песню Руже-де-Лилля и в России, и во Франции, и в других странах, но нигде и никогда с таким огнем и каким-то восторженным самоотвержением не пели скрипки, как в тот вечер в белом зале Дворянского собрания. Я чувствовал, как с эстрады бегут радостные и гневные, настойчиво зовущие волны:
– Oux armes cityoynes!..
Горло сжимало. И еще не кончилась «Марсельеза», я решил – завтра напишу в Каменец, что больше не могу. Так и сделал.
Но когда с университетом было покончено и я, юнкер Михайловского артиллерийского училища, упаковывал студенческий костюм, чтобы отослать его домой, опять почувствовал в сердце острую резь. Подумал: «Точно похороны…»
Не мог привыкнуть к черным мраморным плитам на стенах училищной церкви: поручик… капитан… полковник… подпоручик… подпоручик… смертью храбрых, смертью храбрых… смертью храбрых… Жутко становилось от гравюр в «бесконечном» коридоре училища. Трупы, трупы… смерть, смерть… Одна особенно волновала. Полковник-гусар за столом. Наклонил голову. От свечи светлые блики на лице. Рядом на кровати труп молодого офицера с перевязанной головой, «Der Sohn».
Я пробыл на Великой и Гражданской войнах сорок четыре месяца. На «беззаветную храбрость» не претендую. Но среднее мужество, необходимое для войны, у меня было. По крайней мере, через три недели после первого боя (я получил боевое крещение во время Брусиловского прорыва) меня по инициативе пехотного начальства представили к высшей (кроме статутных) награде, которую может получить младший офицер – ордену Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом. Командир полка считал, что следует представить к Георгиевскому оружию, но командир батареи решил, что оружие по молодости лет и чину прапорщика не пройдет (не прошел, правда, и Владимир). Во всяком случае, попав в бой, я почувствовал, что для своей роли младшего офицера и морально и технически я подготовлен.
Так же было и со многими из моих товарищей – сначала колебания, мысль о стальных стаканах, мраморные страшные доски, «Der Sohn»… Потом работа над собой и служба наравне с теми, кто с детства готовился к военной карьере.
Но переход, повторяю, длинный и очень нелегкий.
Еще одно обстоятельство должен отметить. На фронте, подавая команду «огонь», я никогда не чувствовал уколов совести. В самых откровенных разговорах не слышал об этом и от других офицеров. Когда стреляешь и в особенности когда стреляешь удачно, появляется чувство, весьма близкое к спортивному увлечению. Отлично сознаю, что культурному человеку, не бывшему в бою, это должно казаться невероятным, но тем не менее, каждый почти офицер, задумывавшийся над своими переживаниями, скажет то же самое. Угрызения совести по поводу убитых врагов, насколько я мог убедиться на двух войнах, существуют только в воображении невоевавших.
Тем не менее, я – опять приходится повторить, – как и многие мои товарищи, пока был юнкером, порядком боялся именно этих угрызений совести. Для студента четырнадцатого-пятнадцатого года очень нелегко было готовиться убивать людей.
Для огромного большинства юношей, выросших в военные годы, этих сложных и нередко мучительных вопросов просто не существовало. По крайней мере, во время Гражданской войны я один только раз встретил студента, принципиально отрицавшего вооруженную борьбу. Его товарищи по батарее смотрели на него, как на славного, но немного блаженного чудака, с которым безнадежно спорить.
Что с большевиками нужно драться и нужно их победить, для моих лубенских знакомых – учащихся было самоочевидной истиной. Об этом не спорили. Впоследствии начали спорить, но не о моральной допустимости вооруженной борьбы, ее смысле и других отвлеченных материалах, а лишь о том, в какую армию записываться.
Надо еще отметить, что немалую роль в смысле и физической и психологической подготовки учащейся молодежи к войне сыграло допризывное обучение, введенное во многих средних школах во время Великой войны. Несмотря на то, что в большинстве случаев дело ограничивалось обучением пешему строю и ружейным приемам (иногда также стрельбе), впоследствии, во время Гражданской войны, вновь поступившие добровольцы, прошедшие допризывную подготовку, сразу выделялись среди своих вполне штатских товарищей и внешним видом и дисциплинированностью. Нет никакого сомнения в том, что с государственной точки зрения введение допризывного обучения в средних школах было очень удачным мероприятием императорского правительства.
О поголовно антибольшевистском настроении учащихся средних школ и их готовности взяться за оружие, очевидно, знали и красные. В Лубнах они молодежи не трогали, не до того было. В других местах, случалось, истребляли целыми классами. Об этом ходили слухи, впоследствии получившие подтверждение. В официальном сообщении украинского Генерального штаба от 4 апреля 1918 г. сказано: «У Глухозi большевики перерезали 400 чоловik, мiж иншими 2 класи учнiв мicцевоi гимназii» (Повiдомлення украiнского Генерального штаба, официально 4-го квiтня)[92]92
«В Глухове большевики перерезали 400 человек, среди них 2 класса учеников гимназии» (сообщение украинского Генерального штаба, официально 4 апреля).
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































