Текст книги "Юность в Железнодольске"
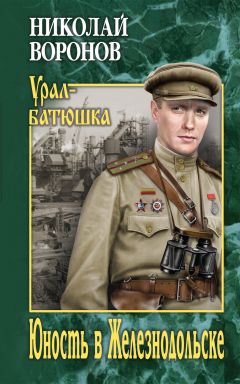
Автор книги: Николай Воронов
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава девятая
Они сошлись, но ненадолго. Все решили раздоры, затеваемые Лукерьей Петровной.
Под влиянием ее наветов Мария сказала Анисимову, чтобы он собирался и уходил, поскольку мать у нее одна-разъединая, и, какая бы она ни была, ни на кого ее не променяет из мужчин. Да и не любит она его. И жизни у них все равно не будет.
К моему удивлению, он торопливо сложил свои вещи:
– Чем так собачиться, лучше век шляться в холостяках.
По приезде в Железнодольск отец устроился рамповщиком на коксовые печи, где подружился с долговязым смологоном Султанкуловым. Султанкулов толкал смолу по смолотоку, отец тушил водой пылающий кокс, выдавленный из печи на рампу. Новая работа была вредная – газ, волглый жар – и опасная: сорвешься на рампу, усыпанную свежеиспеченным коксом, – сгоришь. Однако отцу эта работа понравилась: отвечаешь лишь за самого себя, заработок полновесный, ежесменно – литр молока, а если стараешься, премируют деньгами и одеждой.
Маму ужасала перемена, происшедшая в нем. То дело, которым он занимался в деревне, она находила на редкость ответственным и важным, по силам только тому, кто не желает никаких благ лично для себя и добивается их для всего народа. Она считала, что он, при всей его жесткости, порядочен, честен, и поэтому его назначение – трудиться там, а не здесь, где его может заменить всякий здоровый человек. Велико ли умение поливать кокс из пожарной кишки?
Он признавал, что она права, но совесть в нем не просыпалась, как того желала мама. Напротив, он не скрывал радости, что вырвался оттуда – из сложностей, тревог, бессонницы.
– Я отдыхаю умом и сердцем, живу просто. В этом, Маруся, больше счастья! Может, для общества и урон, не знаю… Мне-то как свободно и славно! – утешал он себя.
За ударную работу отцу дали комнату на Третьем участке. Я наведывался к нему: идти туда нужно было пешком и долго – через металлургический завод. Не всегда отец пускал меня в комнату, хоть я и приходил с мороза и ветра: на стук выскакивал в коридор, и над его плечами вместе с дымным паром вываливался веселый шум мужских и женских голосов. Придавив туловищем дверь и распростершись на ее толевой, обсыпанной кварцевым зерном обивке, отец растерянно вглядывался в мое лицо, пытаясь определить, что сейчас думаю о нем, как я отнесся к тому, что у него гулянка, и решая, куда меня сунуть или как выпроводить. Частенько он заводил меня погреться к Султанкуловым; тут мною занималась Диляра, сестра Султанкулова. Это была тоненькая ласковая девушка в зеленом атласном платье и мягких красных ичигах. Мне нравилось играть с Дилярой в догонялки. Комнатная теснота ее не смущала; удирая, уворачиваясь, она порхала с кровати на кровать, по табуреткам, скамьям, по печи и даже взлетала на стол. Если Диляры не оказывалось дома, отец заталкивал в карман моего борястика горсть конфет и печенья и приказывал идти домой. Ему было не до уговоров: выскакивал он без пиджака, взопревший от самогона и пляски, окутывался на холоду туманцем, как после бани. Навряд ли он опасался, что простынет. Он спешил отделаться от меня: не терпелось вернуться в компанию.
Я уходил, стоял в сенях барака. Ждал Диляру. Здесь было холодней, чем в коридоре, но туда я не возвращался, чтобы не попадаться на глаза отцу или кому-нибудь из его гостей. Бывало, что, так и не дождавшись Диляры, я убирался затемно восвояси. Может, я не умел обижаться на отца, привыкнув еще в Ершовке к его строгой бесцеремонности (еще суше, помню, он отсылал меня, совсем малыша, из колхозной конторы, когда я, соскучившись по нем, наведывался туда), а может, я больше бывал огорчен тем, что не повидал Диляру, – только возвращался я на Тринадцатый участок неунывающий, и, когда бабушка, вызнав, как мне погостилось у папки, начинала сокрушенно кудахтать, я не чувствовал себя несчастным, а лишь досадовал на то, что она хочет, чтобы я возненавидел отца. Своим желанием вырастить во мне ненависть к отцу она вызывала во мне лишь отвращение к ее ненависти. К бабушке у меня не было ненависти – для такого резкого чувства я был слишком мал, – но еще в деревне возникло в моей душе невольное неприятие всего, что исходило от бабушки.
Обдумывая себя, вспоминаю те дни, когда моя сыновняя тяга не находила отзвука в сердце отца, и это воспоминание не окрашено печалью не только по причинам, о которых уже говорилось, но и потому, что обратный путь домой возвращал мне волю сродни той, деревенской, когда я один уходил в степь или на реку и был сам себе властелин и всему открыватель. Гулы, рокоты, шелесты, сполохи, вспышки металлургического комбината напоминали мне о том, как много вдруг образовалось у меня свободы, и я, подгоняемый ее веселой, неутолимой властью, шел на плоский свет – оранжевые окна в черных корпусах, в тех корпусах, где из клетей прокатных станов струится проволока, вылетают тавровые балки, рельсы, швеллеры, скользят полотнища листов, выплывают на рольганги тяжкие плахи; все это железно, багрово, огненно разметывает сутемь, звучит, восхищает, наводит страх. Затерянный среди зданий, как муравей в пещере, ты все-таки не заробеешь, не повернешь вспять – ты, отчаянный, пытливый, будешь ходить и ходить вдоль металлургического потока, пока подламывающиеся от усталости ноги сами не потащатся домой.
Однажды, перебарывая усталость, я добрел до здания, откуда начинался прокат. Сюда «кукушка» привозила на платформах стальные слитки. Электрический кран, прикусывая клещами макушки этих слитков, сажал их по одному в нагревательные колодцы; там слитки стоймя томили в жару и, тоже порознь, перетаскивали в слитковозы; слитковозы доставляли их к валкам, которые яростно, в огне и воде, обжимали их и длиннущим брусом выкатывали на позванивающие ролики.
Я сообразил: раз слитки доставляются сюда в изложницах со снятыми крышками – значит, где-то неподалеку находится цех подготовки составов.
Впереди лежала темная равнина, просеченная красными колеями железных дорог. В первый миг почудилось, что рельсы раскалены, но тут же я заметил красные лучи, прямо и плотно врезавшиеся в небо. Их-то и отражали назеркаленные колесами рельсы. Лучи перемещались, двигаясь в мою сторону. В робости и любопытстве я добежал до лестницы пешеходного моста и, едва поднялся на мост, увидел, что лучи высвечивают из сизых изложниц, в четырехстенной тесноте которых стоят огненные слитки и так прожекторно просаживают выстекленную морозом высоту.
По дороге, где паровоз-«американка» провез изложницы, я добрался до огромного кирпичного корпуса. Как только я вошел под его гулкие своды, мне в глаза бросился кран, выпускавший откуда-то из своего железного тела круглые черно-масляные штанги. В нижней части штанг были прорези. Их-то кран и приближал к ушкам колпака, надетого на изложницу. Иглистая седая голова следила из кабины за штангами. Я радостно вскрикнул, узнав Петра Додонова, и, махая рукой, помчался к платформе, над которой навис кран с отвесно высунутыми задымившимися штангами. Внезапно кран отпрянул от изложницы, будто чего-то испугался, и, вбирая штанги, пролетел своими фермами надо мной.
Вскоре Додонов был уже возле меня. Улыбаясь, сказал, что изрядно струхнул, углядев мальчишку, бегущего к платформам: бывают случаи, когда изложницы падают, а ведь слитки увесисты – семь, девять, даже двенадцать тонн. Снаружи было студено, да и здесь, в помещении, холодно. Но сатиновая спецовка на Додонове взмокла и пахла горячим потом.
С зеленым эмалированным ведерным чайником Додонов сходил за газировкой, и мы взошли в кабину крана, куда он едва согласился взять меня на минутку.
Огненный воздух опьянил меня, привел в восторг, но к этому восторгу припуталась такая оторопь, что с замиранием в животе я приговаривал «ух» и прикасался руками ко всему металлическому, невзирая на предупреждения Додонова, что могу обжечься до волдырей. А едва Додонов показал мне, как в слитке кипит сталь, я так заегозил у него в руках, что он отдернул меня от смотрового оконца, поставил на пол; как я ни упрашивал его еще разок поднять меня к оконцу, он не согласился. Если бы он быстренько не ссадил меня с крана, я бы, наверно, не запомнил навсегда маленькую, острую, слепящую голову того слитка, чуть ниже головы, внутри слитка – полый купол, а под куполом, среди белой прозрачной тверди, – кипящую сталь: скачки струй и роение шариков.
Завод завораживал меня таинственностью, заревами, музыкой (он гремел, как тысячи таких оркестров, в каком кастелянша Кланька играла на трубе), страшной красотой машин, беспрерывной работой железа, огня, электричества, пара.
При всяком подходящем случае я убегал на завод. Бродил наобум. Повсюду было интересно. К отцу на коксохим заглядывал редко. Отец запрещал: вредно, газ, еще чахотку схватишь. Из производственных помещений меня почти никогда не прогоняли: в те годы было привычным, что по цехам шляется ребятня, особенно беспризорники и кусочники. Несколько раз я все-таки побывал в комендатуре заводской охраны, откуда меня доставляли домой с вахтером.
Бабушка была довольная, когда я день-деньской пропадал где-нибудь, но для порядка хлестала меня веревкой из конского волоса. Я кричал, силясь выдернуть свою голову из ее коленей. Чтобы в бараке думали, будто ее тревожат мои отлучки, бабушка жаловалась соседям, что нет со мной сладу, что уродился я шатучим и малахольным в прадеда Петра Павловича. Она выказывала на словах то, чего не было в ее душе, но я не обижался: хорошо, что не держит возле себя, мне того и нужно! Я не обижался еще и потому, что притерпелся к ее неискренности.
Однажды мы с Костей Кукурузиным зашли на домну.
Владимир Фаддеевич заправлял паровую пушку. Мы стояли и смотрели, как он набивает глиняными ядрами ее ствол. Внезапно со своей площадки свистнул ковшевой Мокров. Рукой он звал Владимира Фаддеевича к себе. Владимир Фаддеевич отмахнулся, да передумал: уж очень озадаченно и загадочно прижмуривал Мокров глаза в такт взмахам.
Оказалось, паровоз только что подогнал посуду и в третьем ковше от него спал беспризорник. Кепчонка прожженная, сквозь дыры торчат волосы; лоскутная поддевка пропитана цементной пылью; подошвы ботинок прикручены электрическим шнуром. Нутро ковша футеровано – кирпич к кирпичу, как зерно к зерну в кукурузном початке, футеровка отливает металлически-черной эмалью и явственно дышит зноем; на губах беспризорника улыбка. Должно быть, отрадно спится в ковше! Неужели забрался туда вскоре после того, как вылили жидкий чугун? Неужели он ночует в посудине? Так ведь…
Я увидел мчавшийся по горной канаве желтый чугун; вот он вильнул в отводную канаву, скоро докатился до желоба и хлынул в чашу, где раскидисто спит беспризорник.
Мокров швырнул в беспризорника колошниковой пылью. Подросток мгновенно проснулся и быстро шнырял глазами, прикидывая, куда его перевезли. Но стоило Мокрову сказать: «Ну-ка, постоялец, ослобоняй квартиру, а то чугунку за шиворот плеснем», – как беспризорник мигом полез из ковша по толстой проволоке, вдевая ноги в петли, сел верхом на край ковша, потом спустился на лафет платформы, порхнул на землю и удрал, волоча свою проволоку поперек железнодорожных путей.
Все дружно засмеялись и тут же помрачнели. Владимир Фаддеевич и Мокров, конечно, потому, что, не досмотри они немного, и сгорел бы человек, а им всю жизнь вспоминать и казниться, я и Костя – потому, что это был такой же, как мы, мальчишка, и мы невольно представили себе его гибель.
Тогда во мне прочно отложилось чувство опасности, исходящей от завода, по которому я и до того путешествовал с отчаянным бесстрашием. Позднее, в юности, это чувство не прошло: затушевалось, хоть я и привык к заводу и к постоянной опасности, когда проходил производственную практику на коксовых печах, а после работал на них.
Оборвыш, спящий в гладком кирпичном кратере, – эта картина дала в моей фантазии такие превращения: одно, давно забытое, приходило летом в часы, когда загорал, – из солнца, забравшегося в зенит, вытек ручей, и земля, залитая им, пыхнув, исчезла; другое, являвшееся ночами, когда мир кажется особенно беззащитным, устоялось и нет-нет да и знобит своей тревожностью: беззвучный длинный предмет, обросший стратосферным льдом, скользит на спящий город; вспышка, и все – города не осталось.
Глава десятая
Мать запретила мне ходить к отцу. Она и бабушка говорили о нем презрительно, вскользь, намеками, и я никак не мог допытаться, в чем он сейчас провинился перед ними. Я вызнал это в семье Колывановых – от дяди Александра Ивановича, от крестной Раисы Сергеевны, от двоюродного брата Саши: мой отец стал распутным! Чуть не каждую неделю женится да разженивается. Недавно посватал сестру своего закадычного дружка Султанкулова. Диляра ответила: «Договаривайся с братом». А брат ни в какую:
– Для гулянок ты, Анисимов, годишься: и заводной, и слабо хмелеешь, и ловко пляшешь, и на балалайке играешь. А для семейной жизни ты не готов: не отбесился, порядочного добра не завел, не скопил денег на невесту.
Отец назвал Султанкулова байским недобитком, а Султанкулов назвал его голодранцем, бодливым быком с обломанными рогами. Рассорились, подрались.
Дядя рассказывал это о моем отце, потешаясь. Он был вроде доволен, что его бывший зятек ударился в разгул, менял жен и что Султанкулов дал ему от ворот поворот.
– На татарушечку польстился, – сказал дядя, и я не понял, то ли он осуждал его за плохой выбор, то ли считал, что он набрался слишком много нахальства, коль сватал Диляру.
Крестная Раиса Сергеевна, улавливая в голосе мужа дурашливость, а также пренебрежение к моему отцу, ущемлялась. Анисимов-то не вам чета! Колывановы – ветродуи, пьянчужки, себялюбы, а он – голова, в политике разбирается, серьезный. Вам бы лишь винищем глотку залить. Сбили мужика с пути-истины, теперь сами же его позорите, будто он хуже всех. Увидите: подурит и образумится.
Дядя не спорил. Боялся ее: такой галдеж поднимет, на базаре услышат, а то еще взвизгнет, побледнеет, брыкнется на кровать, отливать надо…
Хоть и защищала она отца, мне неприятно было ее заступничество. Я слушал ее частую четкую речь – будто шестерни вращаются – и вспоминал странное прозвище Чакала, которое дала ей бабушка Лукерья Петровна.
От Колывановых я побежал к отцу. Я жалел его и одновременно терялся: он и вправду совсем другой.
Отец правил бритву, ширкая ею по хлопающему черному солдатскому ремню. Отец дорожил и ремнем, и бритвой. Эти вещи были для него историческими: он выменял их на махорку в освобожденном от колчаковцев Омске и насухо снял тогда с лица юношеский пушок. Он любил и подготовку к бритью, и бритье, любил испытывать остроту бритвы на волосе, выдернутом из чуба: положит на лезвие, дунет, если волос надвое – скоблись. Ему доставляло наслаждение заливать помазок крутым кипятком, пенить в медной чашке мыльный порошок и накручивать облака пены на пробитое щетиной лицо. Бреясь, отец всегда красовался, даже если один я глядел на него.
Мама в деревне ругала его за пудру:
– Ишь ты, щеголь. Как князь какой-нибудь. Скрытый в тебе вельможа сидит. При чинах и богатствах ты бы весь распавлинился.
Мой приход не обрадовал отца. Было похоже, что явился я некстати. Он хмуро намылил шею, подбородок, щеки. Первые движения бритвой он обычно делал от ямки меж ключицами, заводя лезвие к шее снизу, от груди. Теперь он понес бритву к кадыку, не наклоняя ручку, роговую, двупланчатую, придерживаемую мизинцем. Его пальцы колебнулись. Он дал им успокоиться, отвердеть, опять понес бритву к кадыку и вдруг отбросил ее – отбросил панически, каким-то спасающимся жестом. Потерянный, чем-то страшно удивленный, отец встал, пошел к рукомойнику, долго умывался.
Я не понял, почему отец отбросил бритву, но испугался. У меня что-то случилось с головой. Я хотел сейчас же додуматься до того, что меня напугало, но мешала какая-то застопоренность в соображении.
Такой же затор в голове был у меня прошлой осенью, когда на неделю зарядил моросливый дождь и вокруг была грязь.
Я вышел на крыльцо. Подле него топтались на доске Борька Перевалов и Толька Колдунов.
– Серега, припри мячик из-за будки Брусникиных, – приказал Колдунов.
Он любит командовать, а я не переносил, когда мной командовали. Бабушка затюкала меня своими командами. Наверно, по ее вине, как только кто-то что-то мне велит сделать, я чувствую поташнивание и могу взбелениться, как последний психопат. Попроси без грубости, хитрости и заискивания – вот что я принимаю спокойно и покладисто.
– Сам припри. Не барин.
– Чё, трудно? Чё, пузо лопнет?
Кажется, на драку нарывается Колдунов? Еще раз прикажет – отлуплю.
– Мы, Сережик, босиком. Мы об стену играли. Нюрка схватила и закинула. Говорит, Авдей Георгич из ночной, спит. Принесешь? А?
Борька Перевалов – человек, не то что Колдунов, просит по-хорошему. Что ж, пожалуйста, принесу.
Метра на три дальше мячика я заметил лужу. В луже лежал конец провода, свисавшего со столба. Я уже совсем подошел к мячику, собрался наклониться, но что-то вступило в меня, ноги прямо-таки примагнитило, будто бы они были в железных ботинках. Хотел отпрыгнуть назад, но тут же забыл об этом и никак не мог вспомнить, хотя и трепетал от страха, что если не вспомню, то умру. Тут начали меня судороги опрокидывать. Попробовал сообразить, что это со мной, но такое онемение охватило мозг, что я покорился силе, гнувшей меня, и упал навзничь. Ноги сразу расковались и сами поджались к животу и боялись касаться земли. Из соседнего барака выскочил мужчина в резиновых ботах, поднял меня, отнес на крыльцо под хохот Колдунова и Борьки. Он выругался, посмотрел на оборвавшийся провод. Я все еще не понимал, какая связь между проводом, мною и Борькой с Колдуновым.
Подвох Борьки Перевалова и Тольки Колдунова мог стоить мне жизни – об этом я узнал лишь вечером. То, что отец хотел зарезаться, до меня дошло тоже не быстро, а когда дошло, то я не находил себе места, пытаясь избавиться от видения крови, которая хлестала из разрезанного горла отца. Странно я устроен: зачем надо путаться в том жутком, чего не было? Может, со всеми то же происходит после того, как они избежали чего-то страшного или кто-то спас их?
Я рассказал матери, как отец чуть не зарезался. Она стала сама не своя. Металась по комнате.
– Хватит кидаться, – сказала бабушка. – Сдох бы, дак сдох. Ни дна ему ни покрышки, ироду.
– Мама, да ведь если он решит себя, весь век казниться. Из-за меня ведь. Судьбу из-за меня изуродовал. Да еще зарежется. Ох, бедная моя головушка! Из-за Сережи душа еще пуще страдает. Мыкается он между мной и папкой. Тебе-то, мама, что? Не приголубишь его. Даже через комбинат не проводишь. Взрослых вон режет паровозами почем зря. Думала – вызову тебя, спокойна буду за ребенка…
– Я с него глаз не спускаю. Да разве за ним уследишь? Он от самого черта спрячется.
– Вины твоей ни за что ни перед кем не было и не будет.
– И не было и не будет. Замолкни, пока кочергу на тебе не погнула. Я своих ребятишек выводила. Никого не просила. Выводи и ты своего. Я от своих еще никак не опамятуюсь.
Для переезда на Третий участок мать наняла угольные сани. Извозчик и Костя Кукурузин еле взгромоздили наш сундук в ящик, притороченный к саням. Дорога, ведущая к бараку, была ледяная: по ней носили воду из колонки. Когда сани, скребя полозьями о лед, покатились, из барака выскочила бабушка. Она стояла на высоком крыльце, грозя, что нам отольются ее горькие слезы: господь, хоть он и многомилостив, не прощает, когда дети бросают родителей.
Глава одиннадцатая
Отец сидел перед самоваром. В жестяную кружку, клокоча, бил кипяток. Едва я заскочил в комнату и крикнул, чтобы он шел носить вещи, отец закрыл кран и стиснул в ладонях кружку. Ладони жгло, но он не отнимал их от жести. Потом встал, поджался, будто живот заболел, ткнулся головой в черную жестяную обшивку печного барабана. Это испугало меня:
– Папка, ты чего?
Не шевельнулся.
– Па-апка…
Он, шатаясь, вышел на улицу, к саням.
Весь вечер мать весело убирала комнату. Отец был хмур. Она, казалось, не замечала этого, но когда закончила уборку и оглядела выскобленный пол, высокую от перины, ватного одеяла и подушек кровать, подсиненные задергушки на окне, карточку брата Александра Ивановича, раскрашенную цветными карандашами, то навзрыд заплакала. Я ждал, что отец будет успокаивать ее, но он как сидел у стола, перебирая свои старые документы, так и остался сидеть. Тогда я тоже заплакал и долго ревел вместе с матерью, а он рассматривал справки, грамоты, удостоверения и, если кто-то из обеспокоенных барачных жителей стучал в дверь, не отзывался.
Я не слыхал утром, как он уходил на коксохим. Мать кормила меня затирухой и гладила по волосам: так она выражала жалость к себе и ко мне. Я спросил, почему вчера он не пожалел нас, и мать, внезапно начав задыхаться, сказала:
– У него закаменело сердце.
Близ барака грохотала камнедробилка. Скука пригнала меня сюда – мать ушла на работу. Из люка дощатой галереи сыпался щебень. Я вспомнил о том, что сказала мать, и весь день мне хотелось помочь отцу, чтобы его сердце раскаменело.
Он брел со смены в сумерках. Ветер поигрывал им, словно резиновым зайцем. Я распахнул для отца дверь в барак, после обогнал и отомкнул комнату. Он проходил равнодушно, слепо, будто двери распахивались сами собой.
Покамест он пил из самовара кипяток, я вился вокруг стола. Папке плохо. Это мой папка. Ему должно быть хорошо. И если он узнает, как мне жалко его, ему будет лучше и сердце станет мягким и добрым.
Огонь в печи погас. Комната нахолодала. Отец присел перед топкой, колол молотком сверкающий уголь. Я собирал брызги угля, ссыпал в ведро. Он похвалил меня за аккуратность. Я воспользовался его вниманием и спросил, что сделается с человеком, у которого окаменело сердце.
– Помрет.
– Ты не помрешь! – крикнул я в отчаянии.
Он мстительно поднялся во весь рост.
– Кто тебя подучил?
Я растерялся.
– Кто подучил?
Я не понимал, чего он требует.
– Бабка подучила, мамка?
Почему он взбеленился? Такой обидой мне заполнило грудь, что я дерзко сказал:
– Никто. Сам.
Он сдернул с крючка колчаковский ремень. Я был в пальто. Хлестал он ремнем плашмя, и мне было не очень больно, но я заливался благим матом: ведь я тревожился о нем, а он бьет.
Мать, наверно, предчувствовала что-то неладное: с порога она бросилась к сундуку, на котором я играл в камушки, общупывала меня, словно никак не могла поверить, что я цел. Она углядела на моих щеках сухие потеки от слез и, гневная, повернулась к отцу:
– Ты?
– Я.
Завязалась ссора. Мать говорила, что он не смеет трогать меня даже пальцем. Он говорил, что и впредь будет пороть, если провинюсь.
– Ты лютуй над собой, а не вымещай на ребенке.
Отца возмущало, что она пытается присвоить себе все права на меня. Именно он, прежде всего он займется воспитанием сына, опираясь на строгое представление о порядке в обществе и о том, какими должны расти пролетарские дети.
От их крика и ярости некуда было деться. Я прилег на сундук и закрыл ладошками уши. Засыпая, слыхал, как они укоряли друг друга за свою будто бы сломанную жизнь. Они бранились часто, и все о том же, и не уставали от этого, и никак не могли примириться.
На свое горе, я потерял ключ от комнаты. С тех пор родители, отправляясь на работу, оставляли меня взаперти. Про вражду между ними я забывал в блужданиях по цехам, и вот теперь я мечусь по комнате, как жаворонок под коробом. К вечеру изматываюсь, ставлю в два этажа табуретки, забираюсь на полати и сижу не то в неприкаянности, не то в дреме до возвращения родителей.
Мать боялась, как бы я, забираясь под потолок и спускаясь оттуда, не упал, и велела отцу приколотить к доскам деревянные бруски. По брускам стало легко подниматься к лазу и выскакивать на полати.
Вскоре – может, через день, а может, через неделю, – уже в сумерках, не зажигая электричества, я забрался на полати с веревочным обрезком. Из потолка торчало ушко винта: вероятно, к нему кто-то, живший в комнате до нас, пристегивал ремень зыбки. Полатей тогда еще, конечно, не было. Вдоль стены стояла кровать, и зыбка как раз спускалась к изголовью, и ее удобно было подергать, когда плакал младенец.
Я протянул конец веревки через ушко и укрепил. На другом конце связал петлю, тоже старательно, неторопливо, и продел в нее голову.
Осторожней обычного я ступал на бруски, спускаясь по стенке. Петля начала заворачивать подбородок. Я замер. Руки мертвой хваткой сжали брусок. В ладони врезались шляпки гвоздей. Но я зажмурился и оттолкнулся.
Была ли боль, было ли удушье – не помню. Совсем я забыл и то, как, повиснув, летел к противоположной стенке. Но осязаемо помню угол бруска, на который, летя обратно, попал босой ногой и схватился пальцами за неровный, колкий, волокнистый выступ этого угла, да так схватился, что удержался, а потом уж извернулся и поймался рукой за ближний брусок. Отец без охоты готовил бруски из еловой плахи. Колол топором, не остругивал, лишь делал затесы и отсечки.
Я выбрался на полати. Потрясенно сидел до прихода матери. Снимая меня оттуда, она как обескровела: серое лицо, черные губы.
Этим же вечером отец выкрутил из потолка винт и сломал полати. В семье установилась глубокая тишина. Непривычно, удивительно было выражение виноватой задумчивости на лицах родителей. А до этого было иначе; как ни взглянут, как ни повернутся, прихмурь на лицах, уязвленность, ожидание наскока и желание дать отпор, не заботясь о том, чем все это кончится.
Однажды утром, проводив отца на работу, мать наняла грузовик, и мы возвратились на Тринадцатый участок.
Бабушка Лукерья Петровна прытко таскала вещи. Она торжествовала: от меня никуда не денетесь. Так угодно пресвятой богородице и Михаилу-архангелу. Они забрали у нее за людские грехи мужа, трех маленьких детей, сына Александра Ивановича, но они милостивы и оставили в утешение дочь, поилицу-кормилицу, да внука, который, когда вырастет, тоже не бросит бабушку, будет беречь и содержать и похоронит в красном гробу и с духовым оркестром.
Когда стаяли снега и по сырой, еще холодной земле разветвились клейковатые тропинки, мать повела меня на базар. Она была нарядная: туфли с калошами, темно-синий шевиотовый костюм, белый вязаный берет. И я был одет по-праздничному: бескозырка, бушлат с якорем на рукаве, костюмчик из ворсистого сукна. Картонная основа якоря была обметана малиновым шелком, и я нюхал шелк, пахнущий нежно и прочно.
Дорогой она сказала, что мы идем в народный суд, где ее должны разводить с Анисимовым. Хотя отец ничем не напоминал о себе и я не нуждался в нем, мне почему-то стало страшно, что они окончательно разведутся. Наверно, в душе таилась надежда, что они позабудут про обиды, соскучатся, простят друг другу.
Здание суда возвышалось на гребне горы. Оно было втиснуто меж магазином скобяных изделий и мастерской, где чинят гармони и где к тому же помещался часовой мастер.
Отец вышагивал по высокому крыльцу. На голенищах хромовых сапог прядали отсветы судебных окон. Кавказский ремешок перехватывал в поясе косоворотку. На черную пиджачную спину были кинуты концы кашне. Ослепительная белизна кашне подчеркивала дегтярную коричневу щек, вспушенный расческой смолевой чуб.
Какой он красивый!
Мать крепко держала меня за руку. Я вырвался, припустил вверх по косогору. Отец махнул навстречу мне через все ступеньки. Подхваченный им на бегу, я смеялся.
Он купил стакан урюка. Я обдирал зубами оранжевую вязкую кожицу, разгрызая косточки, добывал сладкие ядрышки, а он говорил, что собирается уехать в Среднюю Азию. Города там сплошь в садах. Полным-полно винограда, яблок, персиков, грецких орехов. Базары богатющие, красочней жар-птицы. Все отдают почти задаром, кроме персидских ковров. Уехать. Поселиться. Счастье. Мамка пусть торчит подле Лукерьи Петровны, раз ей нравится тратить свою молодость на эту своевластную старуху. А если пожелает переселиться к нам – всегда примем.
Я размечтался о Средней Азии. При упоминании о бабушке невыносимой показалась жизнь в Железнодольске: тычки, ярость, корёный хлеб.
У крыльца мать подала мне мороженое. Отец прохаживался около нас, и она, склоняясь и закрывая бушлат газетой, как бы не закапал мороженым, шепотом выведывала, о чем мы с ним разговаривали. Я не смог умолчать о Средней Азии. Мать грустно усмехнулась:
– Дальше вокзала не уедешь. Коль он не довез тебя до машинно-тракторной станции… Через пруд переправились и обратно с тобой вернулся… Ни в какие Ташкенты сроду не увезет. А увезет – горюшко будешь мыкать. Не прибежишь домой, там и сгинешь.
Судья спросил, с кем я пойду жить. Перед этим мне велели встать в проходе между длинными желтыми скамьями.
Я взглянул на отца. В его глазах надежда, ласка, тревога.
Я потоптался на толстой половице и сел возле матери.
Со стороны Железного хребта несся перевальный ветер.
Он был твердый, неотвязный, гнал нас с многоглавой базарной горы.
Мать должна была радоваться, что ее развели, что я с нею, а она, семеня по склону, все кручинилась, что теперь я безотцовщина и что не будет у меня настоящего детского счастья, если даже она определится за сознательного человека.









































