Текст книги "История животных"
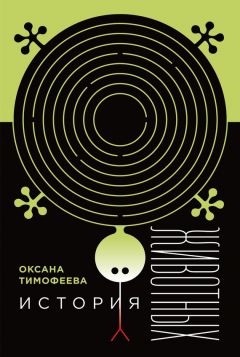
Автор книги: Оксана Тимофеева
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
У врат закона
Животное у врат закона: по ту или по эту сторону оно находится? Если верить Деррида и Агамбену, животное – так же как и его двойник, суверен – очевидно, вне закона. Так, животное Агамбена может быть описано в терминах голой жизни, то есть такой формы жизни, которая, в отличие от человеческой, не может быть принесена в жертву, но может быть просто уничтожена безо всякой церемонии (например, на скотобойне). Она либо лишена каких бы то ни было прав, либо наделена определенными правами, легко отчуждаемыми в той мере, в какой они гарантированы самими инстанциями отчуждения. Голая жизнь, открытая любому произволу, – это связанное с хозяйственной деятельностью человека на Земле бытие вопреки процессу расширения области права, в которую животные не как вещи и предметы собственности, а как субъекты включаются вслед за другими «другими» – а именно в прошлом бесправными группами людей (женщинами, чернокожими, детьми, мигрантами и т. д.). Замечу, однако, что так было не всегда: голая жизнь не является бессменной сущностью животного. Задолго до возникновения института права животные уже были субъектами закона, и убийство некоторых из них было повсеместно запрещено.
Строгий запрет на убийство животных был характерен, в частности, для первобытного тотемизма. Нарушение этого запрета, однако, являлось необходимым предписанием и происходило в акте ритуальной трансгрессии. Приносимые в жертву животные обладали сакральным статусом покровителей или прародителей группы людей, осуществляющей ритуал. Они были, таким образом, вне закона, по ту сторону границы запрета, в амбивалентности сакрального. Они же были, как отмечает Берджер, и первыми объектами изобразительного искусства: «Возможно, первой краской была кровь животных»[51]51
Berger 2009: 16.
[Закрыть].
Жорж Батай, посвятивший довольно много текстов пещерной живописи эпохи палеолита, обращает особое внимание на то, что изображения животных были обнаружены в труднодоступных местах, которые едва ли можно рассматривать как места постоянного проживания людей. Очевидно, первобытные художники прилагали серьезные усилия, чтобы проникнуть в эти места и рисовать там в темноте или при тусклом свете факелов. По мысли Батая, подобные усилия могут быть оправданы только сильными чувствами, вызываемыми в людях самой фигурой животного, и эти чувства носят прежде всего, религиозный характер. Батай придерживался идеи религиозного происхождения искусства – как и вообще человеческой культуры. Его излюбленный пример – знаменитое наскальное изображение в пещере Ласко, в труднодоступном участке «на дне своего рода котлована», куда не допускаются туристы: изображение огромного животного и маленького человека под маской зверя:
Умирающий бизон, из которого вываливаются внутренности, изображен здесь рядом с мертвым (очевидно, мертвым) мужчиной. Другие детали едва ли добавляют понятности этой странной композиции. Я не настаиваю: я могу вспомнить лишь, насколько ребяческий этот образ мужчины; еще более поразительно, что у мертвого мужчины – голова птицы. Я не претендую на то, чтобы объяснить эту знаменитую загадку. Никакая из известных интерпретаций не кажется мне удовлетворительной. Однако, глядя на нее в только что представленной мной перспективе, располагая ее в мире религиозной двусмысленности, достигаемой в насильственных реакциях, я могу сказать, что это изображение, погребенное в глубинах святая святых пещеры Ласко, есть мера этого мира, сама мера этого мира. Этого подвижного и постигаемого мира, откуда возникла религия, а затем разрастающееся множество религий[52]52
Bataille 2009: 137.
[Закрыть].
Культ животных в тотемизме связан, во-первых, с очевидностью для первобытных людей изначального с ними родства. Человек у Батая входит в мир через признание этого родства и в то же время через его отрицание и отделение от него. Во-вторых, он указывает на изначальное превосходство животного над человеком. Разумеется, животное было сильнее; убийство крупного животного требовало усилий целого коллектива охотников. Но дело не только в этом. Батай подчеркивает контраст между ничтожностью человека и величием зверя и говорит о божественной природе последнего. Животные – это первые боги; наскальные рисунки – первые иконы. Первобытные животные Батая божественны и суверенны. Суверенность же, в его представлении, обозначает, в противоположность рабству, не столько господство, сколько свободу – животные не работают:
Эти трогательные изображения в каком-то смысле противоположны изображениям человека, и нам следует задуматься о чувстве неполноценности первобытного человечества, которое трудилось и говорило, перед явлением безмолвного животного, которое не работало. Изображения людей в пещерах жалки, они смахивают на карикатуру и часто скрыты под маской зверя. Поэтому мне кажется, что животность для человека разрисованной пещеры – как и для сегодняшних архаичных охотников – была ближе к религиозности, которая позже стала называться божественностью[53]53
Ibid.: 140.
[Закрыть].
В отличие от первобытного пещерного художника, современный художник может только имитировать этот изначальный импульс жертвоприношения. Так делает, например, Герман Нитш, определяющий себя «не как художник, а скорее как священник, который работает с основами всех религий и ищет новые основания для религиозного чувства в современном мире»[54]54
Chernoba 2012.
[Закрыть]: в своих театральных перформансах 1960-х годов он имитирует жертвоприношения животных.
Проблема, однако, не в том, что Нитш совершает «ненастоящее» жертвоприношение, в отличие от «настоящих», практикуемых первобытными людьми. В каком-то смысле любое жертвоприношение ненастоящее и совершается «понарошку». По определению Батая, жертвоприношение – это «симулякр», спектакль, в котором жертвователь, по сути, замещает себя приносимым в жертву объектом (в частности, животным), за чужой счет таким образом как бы переходя границу между жизнью и смертью и сам при этом оставаясь в живых. Здесь следует воздержаться от широкой дискуссии по поводу того, чем отличается настоящее от ненастоящего, подлинное от неподлинного, и от ностальгических упований на то, что в былые времена все было по-настоящему, а сейчас мы имеем дело лишь с бледными подобиями.
Как отмечает Давид Килпатрик, среди звучавших в адрес Нитша обвинений были «обвинения в убийстве животных, хотя, придерживаясь своего манифеста 1962 года, Нитш использовал исключительно тех животных, которые уже умерли от старости, или которых нужно было забить»[55]55
Kilpatrick 2008: 59.
[Закрыть], что «представляет собой значительное препятствие для полной реализации того, что он обозначил как „первоначальный эксцесс“: так как тела, которые он использовал, были уже мертвы, наиболее сильный элемент ритуала жертвоприношения отсутствовал»[56]56
Kilpatrick 2008: 59.
[Закрыть]. Нитш приносит в жертву европейских сельскохозяйственных животных, купленных на бойне. Эти животные уже мертвы – и в произведении искусства они умирают снова.
Можно ли определить убийство уже мертвого как жертвоприношение? Юридически нет: нельзя принести в жертву то, что не является сакральным, но может быть просто убито на бойне. Статус животного в современном обществе несовместим с идеей жертвоприношения. Если традиционные ритуалы жертвоприношения основаны на трансгрессии, нарушении запрета – прежде всего запрета на убийство кого-то или чего-то, чья жизнь для членов данного сообщества обладает священной ценностью, – то здесь нет запрета, который можно было бы нарушить. Убийство этой овцы не запрещено законом: это не сакральная, но голая жизнь. Она уже обретается в серой зоне между жизнью и смертью. Эта зона населена мертвоживущими животными, подлежащими множественному убою, захваченными в круговорот, где они не перестают умирать. Бойня – это бесконечная петля десакрализованной смерти.
Рассуждая о мифопоэтических аспектах жертвоприношения от Ницше до Нитша – через Батая, который кладет жертвоприношение в основу своей философии, – Килпатрик подчеркивает, насколько вырван из контекста этот художественный жест, совершаемый в поисках новой религии. Надо сказать, упоминание этих трех фигур в одном ряду совершенно оправданно, ведь и Батай тоже – по крайней мере в 1930-е годы – хотел воссоздать некоторые предпосылки для религиозного опыта в нашем нерелигиозном, профанном мире, как если бы тогда, давным-давно, первые люди испытывали некую интенсивность реального, которая для нас сегодня отсутствует или ощущается нами как утраченная. В период основания журнала и тайного общества «Ацефал» (1936–1939) Батай на полном серьезе задумывался о том, как возродить религию через ритуал[57]57
См. об этом, например: Олье 2004 (особенно предисловие В.Ю. Быстрова «Обезглавленный миф», 5–15); вступительную статью С.Н. Зенкина «Сакральная социология Жоржа Батая» (Батай 2006: 7–48), а также мою рецензию на книгу «Коллеж социологии» (Тимофеева 2005).
[Закрыть].
Батай действительно не без ностальгии обращается к первобытным временам. Однако ностальгическая утопия подлинности изначального человеческого сообщества – это не самая главная и принципиальная «ошибка» Батая (как считает, например, Жан-Люк Нанси)[58]58
См.: Нанси 2009: 45–85.
[Закрыть]. Зачарованность первобытным обществом с его архаическими ритуалами естественно вызывающая большое недовольство современных авторов, на самом деле не так уж сильно влияет на его основной критический импульс. Это скорее стиль мысли, которая не обязательно растет из ностальгии по ушедшим временам, но которая имеет тенденцию приписывать непосредственность и наивность более или менее далекому прошлому. Батай верит в то, что неандерталец наивно верит в своих животных богов, а Нанси верит, что Батай наивно верит в наивную веру неандертальца. Аналогичным образом, к примеру, Деррида, как замечает Славой Жижек, верит в фаллогоцентризм философов прошлого, наивно веривших во всемогущество разума:
Сквозь призму современной «рациональной» мысли, принятой за стандарт зрелости, Другой представляется как «примитивные» люди, захваченные магическим мышлением, «и правда верящие», что их племя происходит от их тотемного животного, что беременная женщина была оплодотворена духом, а не мужчиной, и т. д. Рациональная мысль порождает таким образом фигуру «иррациональной» мифической мысли – и здесь мы (снова) имеем процесс насильственного упрощения (редукции, стирания), которым сопровождается появление Нового: чтобы утверждать что-то радикально новое, все прошлое, со всеми своими несоответствиями, должно быть сведено к какой-то основной определяющей характеристике («метафизика», «мифическая мысль», «идеология»…). Сам Деррида осуществляет подобное упрощение в своей деконструктивистской форме: все прошлое обобщается как «фаллогоцентризм» или «метафизика присутствия»[59]59
Zizek 2012: 409.
[Закрыть].
Описываемую Жижеком тенденцию – которую он, критикуя Деррида, называет также «здравым смыслом деконструкции» – можно определить и через проекцию. Батай проецирует наивность жертвоприношения на дикарей, наивность закрытой системы – на Гегеля, а наивность имманентности – на животных. Нанси проецирует на Батая наивность ностальгической проекции. Однако, повторяю, это не самая большая проблема: ностальгическая проекция – это скорее одна из «дурных привычек» или симптомов философии, ее идиосинкразический стиль.
В конечном итоге проблема с Батаем здесь не в том, что он проецировал особую религиозную чувственность на первобытных людей, но скорее в том, что он не видел религии в настоящем. Можно сказать, что миф, объединяющий Нитша и Батая – это миф об отсутствии мифа, о настоящем, лишенном сакрального. Вопреки всем попыткам объединенных сил просвещения, рационализма и капитализма, современности так и не удалось окончательно секуляризировать человеческое общество и расколдовать мир. И религия, и миф все еще существуют, как существуют верования и ритуалы. Речь не только о взрывных волнах фундаментализма, которые накрывают нас сегодня, но и о том, о чем Вальтер Беньямин писал уже тогда, когда Батай считал религиозность утраченной, о том, что сам капитализм является религией. Капитализм не только «религиозно обусловленная конструкция, как думал Вебер, но и религиозный феномен по своей сути»[60]60
Беньямин 2012: 100.
[Закрыть]. Общество, в котором мы живем, не свободно от религии; просто сущность религии изменилась. И – что здесь самое важное – животное в этой религии во многом утратило центральное и сакральное место[61]61
Это наблюдение касается, конечно, не всех современных религий. Из мировых религий в исламе, например, до сих пор широко практикуются жертвоприношения животных, хотя с этим и ведется активная борьба.
[Закрыть]. Батай, тем не менее, не обходит вниманием «…переход от изначального противопоставления между животностью-божественностью с одной стороны и человечностью с другой к противопоставлению, которое все еще доминирует сегодня, и которое царит в умах даже чуждых всякой религии, между животностью, лишенной любого религиозного смысла, и человечностью-божественностью»[62]62
Bataille 2009: 141–142.
[Закрыть].
Статус животных изменился. Они больше не боги. И, однако, следы их родства с богами и людьми остаются и после тотемизма. И древние греки делят с ними свой космос, и в средние века они все еще живут в том же мире, что и люди – в мире божественного творения. В отличие от первобытного искусства, изображавшего человека под маской зверя, в живописи средневековья у животных, даже в бестиариях, часто человеческие лица. И не только у животных – у детей тоже на удивление взрослые лица. В мире творения, сделанном по образу и подобию Бога, присутствуют лишь многообразные вариации на тему одного и того же лица – вернее, лика. Сингулярность и инаковость средневекового образа соотносится с универсальностью и тождественностью Бога.
В той мере, в какой божественное присутствовало в каждом элементе творения, закон имел силу не только над людьми: средневековая юридическая система распространялась и на животных. Если в эпоху тотемизма животных приносили в жертву, то в средневековой Европе их можно было казнить и отлучать от церкви. Животные подлежали наказанию в судебном порядке. А это значит, что они считались вменяемыми и несли ответственность за любое совершенное ими «преступление» и за весь причиненный ими вред. Формально их юридический статус был близок к человеческому, что и отражалось в таких со всей очевидностью абсурдных практиках, как суды над животными.
В наше время мысль о том, что животных можно судить по человеческим законам, кажется дикой. Сегодняшняя юридическая система по большей части не предполагает ответственности животных, но зато склоняется в сторону признания их прав, дрейфуя таким образом в направлении новой формы включенности, которая, парадоксальным образом, отсылает к более раннему состоянию «животного в законе». Как если бы, после долгого периода исключения нечеловеческого животного из просвещенного и рационального мира, когда юридически оно было приравнено к вещи, нам, современным людям, вновь не терпелось принять их в свой мир закона и права.
Суды над животными не являются, конечно, исключительно средневековым феноменом. Они практиковались и до, и после Средневековья (вплоть до сегодняшних дней). Йен Джирджен, автор статьи, подробно описывающей и анализирующей феномен судов над животными, упоминает в числе прочих подобную практику – о которой известно совсем немного – в Древней Греции:
На самом деле не существует непосредственного свидетельства того, что такого рода суды действительно имели место. Однако, вероятнее всего, судебное преследование животных могло преследовать ту же главную цель, что и преследование в Греции неодушевленных объектов: избавиться от скверны, которая из-за этого преступления «загрязнила» сообщество. В ходе судебного процесса, если истцы по факту и закону объявляли животного виновным, его, скорее всего, казнили. Его тело затем надлежало «выбросить за границы», чтобы очистить землю от скверны[63]63
Girgen 2003: 106–106.
[Закрыть].
Одно из свидетельств находим у Платона:
Если подъяремная скотина или иное какое-нибудь животное убьет человека (исключение здесь составляют те случаи, когда это постигает атлета, выступающего на общегосударственном состязании), то родственники должны выступить судебным порядком против убийцы; дело разбирают агрономы, выбранные в любом числе каким-нибудь родственником. Уличенное животное убивают и выбрасывают за пределы страны[64]64
Платон 2014: 311.
[Закрыть].
Греческий суд над животными связан, таким образом, не столько с идеей наказания, сколько с идеей избавления от скверны и поддержания сообщества в безопасности и чистоте его границ. Все, кто несет беду, должны быть выброшены за пределы. Не потому, что они совершили преступление, а потому, что их поступок становится причиной несчастий. Как утверждает Вальтер Хайд, греки верили, «что моральное равновесие сообщества было нарушено убийством и что кто-то или что-то должны быть наказаны, иначе беда – мор, засуха, поворот человеческих судеб – завладеет этой землей»[65]65
Hyde 1916: 698.
[Закрыть].
Избавляясь от таких опасных элементов, греческий космос пытается восстановить свой хрупкий баланс. В свою очередь, средневековый мир управляется по закону совсем иному, чем слепая воля богов. Христианский закон известен, он дан людям, должен быть понятен и тщательно соблюдаем. Но даже самое совершенное законопослушание не освобождает от вины, поскольку, как мы знаем, вначале было грехопадение.
По мысли Джирджена, средневековая Европа знала, в общем и целом, два типа судов над животными – оба проходили почти так же, как и суды над людьми. В светских судах «обычно проводились процессы над отдельными домашними животными» или расследовали дела и наказывали животных, которые «причинили физический ущерб или смерть человеку», тогда как юрисдикция церковных судов распространялась скорее «на группы диких животных, такие как рои насекомых» или на животных, которые «нарушили общественный порядок (что обычно означало уничтожение урожая, предназначенного для человеческого потребления)». Среди животных, которых судили индивидуально, были свиньи, коровы, быки, лошади, мулы, ослы, козы, овцы и собаки. Церковным судам подлежали главным образом кроты, мыши, крысы, звери, птицы, улитки, черви, саранча, гусеницы, термиты, различные жуки и мухи, а также другие насекомые и «паразиты» и даже угри и дельфины[66]66
Girgen 2003: 99.
[Закрыть].
Несмотря на нетрадиционность своих подсудимых, и религиозные, и светские суды относились к этим актам очень серьезно и строго следовали правовым традициям и формальным процедурным правилам, установленным для осуждаемых за преступления людей. Община за свой счет обеспечивала обвиняемое животное защитой, и эти адвокаты приводили сложные юридические аргументы в пользу своих подзащитных животных. Животные, проходившие по уголовным делам, иногда содержались в тюрьме вместе с человеческими заключенными. Доказательства рассматривались и приговоры выносились так, будто подсудимым был человек. В конечном итоге в светских судах, когда дело доходило до наказания (обычно смертной казни), суд прибегал к услугам профессионального палача, которому платили точно так же, как и в случае более традиционных подсудимых[67]67
Ibid.
[Закрыть].
Животных, приговоренных к смертной казни, чаще всего сжигали на костре, вешали или обезглавливали. Среди множества историй Э.П. Эванс, в книге «Уголовное преследование и смертная казнь животных» (1906) задокументировавший около двухсот случаев судебных преследований животных и отлучений их от церкви в период с IX по XX век, пересказывает, например, следующую. В 1938 году Фалезский трибунал приговорил свинью к отрубанию ноги и головы, а затем повешению за то, что она разорвала руку и лицо ребенка, который от этого умер. Свинья была казнена в человеческой одежде на городской площади перед ратушей[68]68
Evans 1906: 140.
[Закрыть].
Суды над животными не всегда заканчивались смертным приговором. Так, в 1712 году в Австрии собака якобы укусила за ногу члена муниципального совета. Собака была осуждена и приговорена к одному году так называемой Narrenkötterlein – чему-то вроде позорного столба или железной клетки, устанавливавшихся на базарной площади для богохульников, гуляк, хулиганов и других нарушителей спокойствия[69]69
Ibid.: 175.
[Закрыть].
При всех серьезных идеологических различиях в греческих и средневековых формах осуждения провинившихся животных есть у них и нечто общее, и нельзя не согласиться с Джирдженом, который объясняет эту общность в терминах порядка. Ранее речь уже шла о порядке, мера которого оказывается применима к животным, бегающим туда и сюда через границы запрета и врата закона.
Теории, фокусирующиеся на порядке и контроле, особенно полезны в понимании мотивов, стоявших за судами. Предполагается, что греки и средневековые европейцы изначально проводили такие суды, чтобы учредить когнитивный контроль за беспорядочным миром ‹…› Другими словами, суды над животными произросли из заботы о порядке. Людям нужно было верить, что природный мир закономерен, даже если некоторые события, такие как убийство человеческого детеныша свиньей, казалось, бросали вызов всем разумным объяснениям. Тогда они обратились к судам[70]70
Girgen 2003: 119.
[Закрыть].
Я уже упоминала доктора Буцефала, «нового адвоката» Кафки. Конечно, животное-адвокат – фигура фантастическая, она живет в литературе. Но вот адвокаты животных – это вполне действительные представители средневековой правовой системы. Как отмечает Эстер Коэн, эти люди «относились к своей работе очень серьезно, посвящая огромное количество времени, багаж знаний и юридического опыта защите своих клиентов»[71]71
Cohen 1986: 123.
[Закрыть].
Одним из самых известных таких публичных защитников животных был Бартоломе Шасене, который позже стал первым председателем высшего суда Прованса (пост, соответствующий главному судье) и внес важнейший вклад в развитие французской правовой мысли XVI века. В 1522 году в деле, которое впоследствии поможет ему утвердиться в качестве выдающегося исследователя права, Шасене был назначен к защите крыс из Отена, обвиняемых в уничтожении урожая ячменя в этой провинции. Оправдывая неявку своих подзащитных в суд в ответ на официальную повестку, Шасене сначала заявил, что его клиенты живут в разных местах и в разных деревнях, и одна-единственная повестка могла не достичь адресата. Суд согласился, и вторая повестка была оглашена во всех приходах, где обитали крысы. После того как крысы не появились по этой второй повестке, Шасене объяснил, что в этот раз их неповиновение было обусловлено тем, что путь в суд – долгий и трудный; далее он утверждал, что крысы испугались кошек, поджидавших их на пути…[72]72
Girgen 2003: 101–102. О деятельности Шасене – в частности, подробные протоколы защиты древесных червей – см.: Барнс 2005: 69–91.
[Закрыть].
Подобными объяснениями, однако, не исчерпывался весь арсенал защиты животных перед судом. Со временем аргументы становились все более и более общими, тонкими и рациональными. Адвокаты, защитники животных, среди прочих, стояли у истоков гуманистической мысли. Их главный довод сегодня звучит банально, но в свое время он был, конечно, революционным: мы не можем судить животных, потому что они не обладают разумом. Показателен отрывок из подобного выступления:
Во-первых, призывать к суду можно только того, кто способен рассуждать, кто в состоянии свободно действовать и кто в состоянии понимать смысл преступления. Но так как животные лишены света разума, которым одарен один лишь человек, то, следовательно, и процесс, затеянный против них, недействителен ‹…› Но удивительнее всего то, что над этими бедными тварями хотят произносить анафему, на эти бедные существа хотят обрушить самый суровый меч, имеющийся в руках Церкви для наказания преступников. Но эти животные не могут совершать ни преступлений, ни грехов, ибо для того, чтобы грешить, нужно обладать разумом, который отделял бы добро от зла и указывал бы своему владельцу, чему нужно следовать и чего нужно избегать. Животные не могут быть изгнаны из лона Церкви, никогда не бывши там. Это может быть направлено против людей, владеющих душою, а не против неразумных животных. Так как душа этих животных не бессмертна, то их не может поразить анафема[73]73
Речь представителя животных, взятая из собрания материалов, собранных Гаспаром Балли (1568), цит. по: Артемов 2003.
[Закрыть].
Появление гуманистической аргументации в защиту животных – решающий шаг на пути становления рациональности Нового времени. Парадокс заключается в том, что именно такой гуманизм становится затем основой отношения к животным как к вещи (я имею в виду прежде всего их правовой статус) и исключения их из мира людей за отсутствием у них разума и других достоинств, которые человек традиционно приписывает самому себе. Классическая гуманистическая защита животных выстраивается на идее превосходства человека над животным (которая часто шагает в паре с идеей превосходства человека над человеком, основанной на предположении о том, что последний больше похож на животное, чем первый). Адвокаты заявляли перед судом: мы не можем обвинять животных, потому что мы вообще не можем с ними говорить, потому что они не могут нас понимать, они не знают закона и чужды ему. То есть, по сути, требовалось признать их в каком-то фундаментальном смысле невменяемыми.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































