Текст книги "Страх"
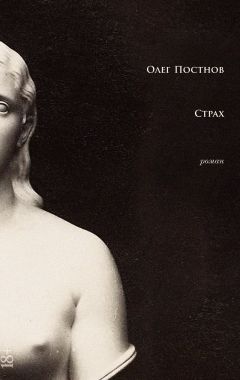
Автор книги: Олег Постнов
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
VIII
Моя жизнь у деда, когда мы оставались вдвоем, была всегда размеренной и спокойной. Утром, еще до завтрака, я шел на речку и принуждал себя окунуться на миг в ее студеную воду (она питалась, я знал, из подземных ключей, а потому редко бывала теплой). Затем, весь дрожа, в мурашках с головы до пят, я выбирался на кладки и приникал к горячим струганым доскам, подставляя спину солнцу. Тому же солнцу подставляла спину огромная черепаха, жившая в заводи и тоже выбиравшаяся погреться на кладки невдалеке от меня. Я никогда не задирал ее, и она, должно быть, скоро прониклась ко мне хладнокровным рептильим доверием, так что дремала, подняв мешковатые веки, после чего неспешно и гордо ползла боком назад, в свой затон. Короткий всплеск сопровождал ее уход, а к тому времени я и сам успевал высохнуть и проголодаться.
Завтрак на воздухе был во вкусе деда, хозяйственных нужд хватало лишь часа на два, и я опять был предоставлен себе, чаще всего пускаясь в странствия по деревне или в лес на велосипеде. Я навещал орешник, реже дубраву (до нее было далеко, и все же к осени я собирал всегда коллекцию желудей) либо другую речку, Тростянку, маленькую и мелкую, петлявшую в лесу. В одном месте в ней тоже была запруда из старых бревен и – выше – совсем крошечный став, прогревавшийся к полудню до дна. Вода лилась из него сквозь бревна журчащей струйкой, и тут-то я плескался вволю, нагишом, смутно мечтая о чем-то таком, что, в общем, противоречило моей невинности. Но лес был пуст, и я покидал его, выезжая на шоссе, ведшее к Мигалкам. По карте деда я знал, что где-то дальше, за Мигалками, тоже в лесу, есть и третья речка, Диканька, но туда добраться мне не хватало отваги. Уже и Мигалки всегда на свой лад настораживали меня. Это было древнее село, со старинным кладбищем при въезде (надписи на могилах, каменных и роскошных, были с крестами ятей и хвостами еров, с датами прошлого века: не чета нашим, старым и новым, холмикам и венкам). Вдоль улиц тянулся везде высокий глухой забор, а дворы закрывали, как шапки, вершины крон. Всякий раз я чувствовал, что тут мне не место, что это уже самый край отведенного мне мира, а дальше все чужое, может быть, не опасное, но такое, чего я не мог, да и не должен был знать… Это было похоже на «Плакучие Ивы». И я поворачивал скромно назад свой руль и снова мчался сквозь жаркий день к привычным местам, к какой-нибудь лесной тропке, начало которой было вблизи от деревни деда. Дед любил, чтобы я поспевал точно к обеду.
Обед начинался всегда с крепкой наливки, которую дед пил по полрюмки, а мне давал яблочный сок. Посуда из буфета шла в ход, и я спешил доесть суп или кашу, орудуя тяжкими ложкой и вилкой с червленой серебряной вязью на рукоятях, чтобы успеть посмотреть на цветное дно, где изображались то город Керчь с вымпелом меж облаков, то танец крестьян, то просто славянский узор, похожий на вышивку с тех подушек, на которых дед имел привычку вздремнуть после еды. Пока он спал, я устраивался у этажерки и листал монументальные тома Элизе Реклю, «Историю» Гельмольта или читал Пушкина и Шевченко. Тот и другой были у деда в полных изданиях, без картинок, способных настроить на легкомысленный лад, так что я читал сонно, но серьезно.
Вечер порой бывал отдан поливке сада. Еще до моего рождения дед проложил от реки к дому водопровод – сцепленные между собой ржавые узкие трубы с кранами там и сям; к этим кранам привинчивался шланг, а внизу на деревянном поплавке укреплялся чахлый моторчик, который дед всегда бережно выносил в обнимку из сарая, затем поил пробной кружкой воды, но он все равно потом кашлял и глох, и приходилось все начинать сначала. Когда же вода шла хорошо, то на всех сгибах водопровода поднимались вверх тонкие, как флер, фонтанчики, расцвеченные закатом, словно крылья стрекоз. Шланг оживал, прекращал хрип и вдруг пускал толчком воду, крепко пахшую травами, ряской, глиной и гнилой прошлогодней листвой. Дед спрашивал снизу:
– Ну як?
И я выкрикивал бойко:
– Гаразд! (Довольно!) – силясь унять питоньи ужимки шланга. В грязи по колено я обливал помидоры – позже их аромат потряс меня в вовсе не подходящий миг, – а дед подымался вверх с реки, следя и тут, чтобы не было «гры», однако рассказывал кстати байки про цыгана, который нанялся было работать, а сам то шел спать, то заигрывал с жинкой, а то так просил у пана лопату выкопать колодец: не носить же воду по одному ведру! В последнем случае я в душе одобрял его.
Уже были сумерки, когда дед из шланга мыл крыльцо и асфальт перед домом, наполнял две чугунные бочки по бокам крыльца на каждый день – для клумб, – потом ополаскивал мне и себе ноги, и я погружал совсем озябшие ступни в благотворное тепло носков. Слабый чай с ягодой был, как всегда, предвестником сна.
Но теперь, после визита Иры, все изменилось. Я стыдился сказать себе, но, словно амур хартию, разворачивал на ночь книгу: не потому, что хотел читать, но потому, что боялся гасить свет. Позлащенная бронза лампы внушала мне бодрость, меж тем как глаза слипались, и нужно было занять ум и воображение, слишком падкое до кошмаров, в которых по логике сна без веских причин подменялись, смешиваясь друг с другом, чопорная гостья в белом и старуха с плешью меж ног. Теперь я читал «Карамазовых» – в трех пухлых карманных томах Всемiрной библiотеки, изданных еще в начале века и найденных на той же полке. Шевченко и Пушкин были слишком просты на мой вкус, а кроме того, «Пиковая дама», как и «Причинна» (которой открывается «Кобзар»), слишком близко, казалось мне, касались некоторых из тех тем, которые я склонен был избегать в уме на ночь. «Карамазовы» затягивали – хоть я тогда плохо понимал, в чем там дело, – но наконец сон властной рукой, уже против моей воли, склонял меня к подушке, и я радовался всякий раз, открывая глаза и видя, что на дворе давно утро.
Дед скоро заметил перемену во мне. Вдруг он стал заглядывать в мою комнату в те часы, когда обычно я прежде просыпался, бранил за «лень», гнал на речку, но это приводило лишь к тому, что я потом по полдня слонялся сонный, и он сменил метод. Он имел привычку просматривать на ночь газету. Старые номера он никогда не выкидывал вон, они скапливались в столовой и спальне и потом относились наверх, на чердак. Там они пылились годами, нарушая правила пожарной безопасности, как, впрочем, и бо́льшая часть тамошних дедовских запасов; разумеется, при его педантизме никакого действительного вреда от этого не могло быть. Однако теперь, отложив очередной номер и выключив в столовой свет, дед заходил ко мне наведаться, не намерен ли я последовать его примеру. Спать на сеновале он с некоторых пор избегал. Я отнекивался как мог, но однажды, ничего лучше не придумав, спросил у него напрямик, нет ли ключа от дверей моей спальни: замок (правда, ржавый) и его скважина, полуприкрытая язычком, похожим на старомодный галстук, были на месте. Дед заметно помрачнел, сказал, что ключа нет и никогда не было, и с этих пор прекратил расспросы, хотя я часто стал замечать на себе его взгляд, слишком пристальный, чтобы быть случайным. Было похоже, он хотел поговорить со мной – и не решался. Я тоже не решался, однако, Бог знает почему, стал чувствовать себя спокойней. Порядок сна возобновился, а вместе с тем и «Карамазовы» подошли к концу.
И все же – все же случались ночи, когда я долго не мог уснуть. Белая двойная дверь во тьме маячила смутным пятном перед моими глазами, я пытался вспомнить, открывалась она или нет в ту ночь, и наконец доходил до того, что лежал под простыней весь мокрый от пота. Свет, однако, я уже не включал. Сливы за окном покачивались под теплым ветром, сухо шелестела акация, и сквозь неплотно прикрытую штору порой видна была звезда – почти в самом зените. Май уже кончился, июнь был в разгаре, и огромный месяц из ночи в ночь рос за моим окном. Мне кажется, именно он – его слишком яркое сияние впервые навело меня на мысль пойти во двор: все было очень хорошо видно в лунном свете – так мне казалось. Тут я обнаружил, что за пределами спальни мой страх вовсе исчез. Весело обежал я двор, весь в лунных пятнах и тенях таких глубоких, что сердце всякий раз стукало, но уже от другого, трепетного чувства, которому трудно было найти имя. Словно бы сам собой оказался я на реке. Лягушки с кладок покидались стремглав в пруд, заслыша мои шаги, хор их стих вблизи, но вскоре возобновился за моей спиной. Черный, в изломах, ствол старой вербы казался еще черней и изломанней, чем днем, зато цепь, окружая его, отблескивала древним волшебным блеском. Я отвязал лодку, поймал в воде полвесла, давно зацепившегося за камыш и набрякшего, и, повергая с него при каждом взмахе в реку водопады брызг, погреб прочь от кладок, во тьму, в сторону става.
Поселок спал. Даже на улицах фонари не горели, и лишь на том берегу, у станции, подымалось вверх белое зарево. Был слышен шум последней электрички. Месяц светил мне в спину, и это было удобно: русло реки лежало передо мной, словно лезвие в черном шелке, узкое и кривое в своих извилистых берегах. Я греб и греб, уже миновав поворот, когда внезапно вздрогнул и уронил весло. Прямо передо мной, у «Плакучих Ив», горел огонь. Но это был не фонарь и не лампочка. Близко, у самой воды, в этот поздний час кто-то развел костер, и живое пламя стояло ровно, как язык свечи, бросая вниз по реке багровую рябь: она доходила почти до самой моей лодки и тут гасла, как бы тонула в воде.
Вряд ли зная, что делаю, я взял кое-как весло и поплыл к огню, стараясь понять, есть ли кто-нибудь у костра, но уже и так видя, что там сидит на корточках гадкая старуха: ее тень, похожая на крыло птицы, высовывалась среди теней кустов. Саму ее я тоже как будто различал и даже понял, что она смотрит в сторону, мимо меня. До берега оставалось ярда два-три. Один ярд. Старуха не шевелилась. Нос лодки глухо ткнулся в берег, весло заскребло по песку. Я привстал – и альбом иллюзий вдруг вновь сыграл со мной свою шутку. У огня сидела девочка.
Но это (так я думаю сейчас) был уже другой альбом, не скучное приложение к «Занимательной физике» с дедушкиного чердака. Это был, верно, альбом Ашера, роскошный глянцевый том из тех, что так легко купить здесь, в магазине искусств, двадцать лет спустя (вперед, мушкетеры!), альбом, где изящный росчерк пера заставляет течь вспять ручей, мешает между собою верх и низ и две стаи уток и где, раз оказавшись на свою беду в своем бреду, уже никогда нельзя найти выход из многоэтажной галереи.
Она подняла глаза, а я, шлепая по воде, подошел к костру.
– Как тебя зовут? – спросила она.
Я ответил. Теперь я видел, что она была белобрыса, кудрява, вряд ли старше меня, похожая больше на куклу Иры, чем на саму Иру, хотя и без пятен косметики.
– А тебя? – Мой голос дрогнул.
– Антония.
– Как?!
Она повторила.
– Это редкое имя, – сказал я.
– Это латинское имя. – И, помолчав, добавила: – Я католичка.
Признаюсь, я мало что понял из этого. Религия была всегда мне чужда, а тогда особенно, что ж до католиков, то они рисовались мне, с легкой руки Реклю, угрюмой сектой в капюшонах, державшей в страхе злобных еретиков. Ни то ни другое никак не вязалось с маленькой девочкой у костра посреди теплой украинской ночи. Прочитанный Достоевский тоже пришел мне на ум.
– Меня окрестила бабка, – пояснила Антония, приглядываясь ко мне. – Ты ее должен знать.
Я опять смутился, поняв, что речь идет о старухе.
– Тетя Глаша? – спросил я на всякий случай. – Ты ее внучка? Да?
– Да.
– Она же сумасшедшая!
– Это как сказать. – Антония взяла длинный сук и поворошила им угли. Костер вспыхнул на миг сильней, рассыпав вокруг сноп искр. Теперь я лучше разглядел ее. Она была в длинном белом платье, старомодном, на мой взгляд, с длинными шитыми рукавами, с кружевными манжетками и воротничком. На ней, кроме того, были туфли – узкие, дамские, на каблуках, и это тоже было странно.
– Она меня учит, – продолжала Антония.
– Учит? Чему?
– Например, разводить костер.
– И часто ты его разводишь?
– Сегодня впервые.
«Тоже, наверно, чокнутая», – подумал я с досадой.
– Вот так учеба! – сказал я вслух. – И это все?
– Нет, не все. А ты часто плаваешь по ночам?
– Нет, только в первый раз.
– Вот видишь!
Я опять ничего не понял. К счастью, на старуху она совсем не была похожа и сумасшедшей отнюдь не выглядела. Почему-то это было приятно мне. К тому же я вдруг осознал, что она говорит по-русски чисто, без акцента, который для русского уха бывает всегда смешон в Малороссии.
– Ты, должно быть, дочка хозяев, – догадался я, ткнув рукой в сторону усадьбы: я подумал о том, что никогда прежде не видел ее здесь, в деревне.
– Это да, – кивнула она. – Но это неважно.
– А что важно?
– Тебе сказать? – спросила она вдруг, вперив в меня исподлобья взгляд, очень пристальный. «Все же чокнутая!» – решил я.
– Сказать.
– А ты не забоишься?
– Чего?
– Меня.
– Вот еще! – Я даже хмыкнул. – С какой стати? – Давешний гривенник припомнился мне. – А ты сама, – сказал я, – ты-то не забоишься? Твоя бабка как-то прокляла меня. Ты это знаешь?
– Это так и должно быть, – кивнула Антония сухо.
– Почему это? Что за вздор!
– Потому. Потому, что она ненавидит твоего деда.
– Вот как! – На миг я и впрямь почувствовал холод под ложечкой. – А за что?
– Ты его сам спроси… Ну, все! – Она вдруг вскочила. – У тебя в лодке есть ковш?
Я нагнулся, пошарил во тьме и протянул ей ржавую банку.
– С водой, – велела она.
Я зачерпнул воду.
Она взяла банку, что-то быстро шепнула над ней и плеснула в костер. К моему изумлению, он тотчас погас, хотя воды в банке было мало, пожалуй, с две трети. Потом, подобрав подол, она вошла в лодку, села у носа и так же властно произнесла:
– Теперь греби.
Я оттолкнулся веслом, лодка качнулась, я толкнул еще и сам сел на руль. Мы уже были посреди реки. Течение было слабым, я легко развернул лодку. Когда утром я спросил деда, за что его может так не любить деревенская дурочка, божевильна, он, казалось, только того и ждал. Он даже вздохнул с облегчением, отложив грабли (он собирал на газоне сор), и повернулся ко мне.
– Атаман Орлик – слыхал о таком? – спросил он строго.
Я наморщил лоб.
– Что-то как будто… – сказал я.
– Ну, вспоминай.
Я честно попробовал.
– А, мы учили в школе. Он был махновец, да? Зеленый…
– Он был мой двоюродный брат, – сказал дед.
IX
Дед, конечно, ничего не объяснил мне тогда. Молчала и Тоня (так теперь я звал ее) – оттого, может быть, что я сам, как это ни странно, вовсе не хотел все до конца знать. Мне почему-то чудилось – любопытный факт! – что все это мало касается меня. Все это было где-то, не здесь, где-то в прошлом, таком далеком невпрогляд, что им ведал на всех правах лишь учебник в школе, а также его законный жрец – наш скучный историк с астмой, по совместительству ведший географию в старших классах, а нас отпускавший до звонка, если урок был сдан. Что до меня, то мои смутные грезы (лес, Тростянка) вдруг стали обретать плоть, и это было в тысячу раз важней и интересней, чем дрязги дедов, из которых к тому же едва ли не треть давным-давно была в могиле. Между тем уже в первую ночь, отплыв вдвоем от усадьбы, мы замерли средь кувшинок на краю пруда, я положил весло, Тоня встала – спиной ко мне, чуть извиваясь для равновесия, – по-взрослому просто сняла с себя туфли, держа их за каблучки, затем неспешно, но все-таки быстро подняла подол к шее и, вынырнув головой из воротника, кинула платье мне на колени, сказав:
– Не замочи. Хорошо?
И уже совсем голая соскользнула в воду. Теперь это повторялось каждую ночь. Я вовсе забыл свои страхи, едва досиживая до того часа, когда можно было идти в постель, и потом, затаившись, слушал, спит ли дед. Его храп был сигналом к бегству. Потом, возвратясь домой хоть и до третьих петухов, я валился спать уже без тени мыслей о привидении, твердо веря в то, что, как бы там ни было, наш Пилат, куратор птичьего двора, буян и забияка, с честью выполнит вовремя свой куриный долг (так оно всегда и случалось, конечно). Луна меж тем набирала силу, костер был больше не нужен, я и так уже издали, чуть не с кладок, видел во тьме белое платье Тони, когда она ждала меня, и лишь спустя день или два, уже для своих целей, симулируя правило навигации (тут же измысленное на ходу и бесстыдно фальшивое), стащил с чердака и повесил на шест, ближе к носу, дедовский старый фонарь с керосиновым баком. Дед пожал плечами, но керосина не дал, я его скрал кое-как сам на кухне. Тоне, однако, фонарь понравился, и, как я вскоре узнал, она ничуть не была против, когда я откручивал посильней фитиль, стоило ей раздеться. Это тоже вошло в ритуал. Правда, нужно сказать, и прежде, плавая под луной, Тоня любила вдруг опрокинуться на спину, словно русалка из «Вия», «…и облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали по краям своей эластически-нежной окружностью»… Впрочем, как раз перси были у нее еще совсем детские, нежные, едва начавшие набухать – если только не считать сосков, больших и твердых. Зато пушок между ножек отсвечивал лунным блеском, и вода в виде маленьких пузырьков обсыпа́ла его, когда Тоня, как в сказочном лесу, скользила меж сонных стеблей кувшинок и лилий, провожавших ее в путь мерным и гибким покачиванием. Потом я помогал ей забраться в лодку и норовил сам вытереть ее всю той рогожкой, которую она всегда с этой целью брала с собой. Она и тут не сопротивлялась – даром что весь поселок мог видеть нас у моего фонаря, захоти только кто проснуться вдруг среди ночи! Но когда я раз прильнул к ней, ловя ее губы, она отстранилась тотчас и строго сказала:
– Конечно, ты можешь меня поцеловать. Но помни – я тоже тебя не люблю.
– Тоже?
– Да. Как моя бабка.
Я смолчал. Была ночь полнолуния. Мы пристали к берегу у «Плакучих Ив». Луна касалась их крон, клонясь к закату, – утро близилось. Как всегда, быстро, легко, Тоня вышла из лодки и, не прощаясь, пошла по аллее вверх, к усадьбе. Туфли она несла в руке. Шорох шагов затих прежде, чем я взялся за весла. Мне было зябко в моей матроске. Звезды гасли в низких густых облаках, но мне не хотелось спешить. Теперь, уже бескорыстно, мне нравилось плыть по реке с фонарем, любимый Гек Финн приходил на память, а вместе с ним и другая, огромная река, которой я никогда не видал, но которая тоже могла быть моей.
Я все же сильно продрог, даже луна канула в тучи, и когда я вышел из сарая, где прятал весла, то припустил к дому почти бегом. Проснувшись в полдень и взглянув в окно, я решил на миг, что еще не светало. Плотный туман стоял стеной. Дождь барабанил в крышу. Вяло одевшись, я вышел на веранду. Сад чах под дождем, из стоков лилось в чугунные бочки, и градусник показывал – впервые в июне и на моей памяти (впрочем, слишком короткой тогда) – только +10.
X
Дед встретил меня известием, что с утра был град. Побило вишню, а огурцы с помидорами он успел прикрыть. Холод – дурной гость в деревне, особенно летом. Наш дом запирался, как корабль в шторм, и дед спешно брал крайние меры. Так и теперь, еще до моего подъема, им была растоплена в кухне печь, огромная, как дом Мазепы, с множеством окон, заслонок и отдушин, с вереницей наборных конфорок из колец, каждое из которых вкладывалось в другое – и так до последней крышки, накрывавшей огонь. Печь была построена самим дедом, и сверху, под крышей, был водружен котел, вода из которого, закипев, стекала по трубам в батареи. Так прогревался весь дом. Огонь гудел в топке, как смерч в пустыне, сажа и известь вступали в борьбу, мешаясь на стенках у дымохода, вокруг ниш и под потолком, и все это вместе создавало тот веселый ад, который так мил душе, далекой от хозяйственных хлопот. Любитель жанра здесь легко нашел бы предмет для кисти. Все же, подкладывая бревна в огонь и вороша уголья в подзоле, я не был вполне в ладах со своей совестью. Ведь я первым заметил холод еще ночью – видел, как «чорт украл луну», – но, конечно, не смел об этом и заикнуться.
Дни ненастья – особые дни, и я вовсе не уверен, что помню их все подряд, один за другим, хотя в этот раз и считал их тайком, и даже слушал прогноз погоды, в который не верил. Дед верил, отвергая зато совершенно Бога, и тем удивлял меня. Впрочем, все было так, как всегда. Из погреба вынимались мед, варенья, травы, кипятился чай, та же наливка шла в ход – дед предварял простуду и с этой целью ставил даже в кладовой ведро для малых нужд, чего, вообще-то, не делал; по большим справам, однако, приходилось идти в клозет – узкую будку с крючком внутри и щеколдой снаружи. Для этой цели с вешалки брался ватник – в нем дед ходил и на куриный двор, и в сарай за дровами. На ночь он приносил короб угля. Клозет помещался как раз за сараем, в самом углу двора, и это было, не считая кладок, единственное место, откуда были видны вдали «Плакучие Ивы». Но кладки сразу же залило – река вышла из русла, – а сквозь дождь и ветер в наступавших сумерках я не мог различить ничего и спешил назад, к печке. Блюда к обеду и ужину тоже были другие. Дед позволял запекать в углях картошку, к ней шли маринады из зимних запасов, которыми дед жертвовал неохотно и как бы уступая погоде, но, кажется, тоже считал их полезными в смысле простуды. Вечером, после «Новостей», мы садились за шахматы.
Тонкие и высокие готические фигурки лежали у деда в старой банке из-под американского сгущенного молока (бывший «подарок Рузвельта»). Доска была черно-красной, как роман Стендаля. Дед строго отстаивал право на первый двойной ход – где-то он вычитал о нем чуть ли не до войны, – и потому партия с ним всегда, казалось мне, обретала особый смак, пряный вкус азарта, хотя я не мог бы сказать, в чем тут было дело. Но этот его «дуплет», как-то связанный и с его двустволкой (тоже всегда меня волновавшей и не дававшей мне на свой лад покою), взламывал линию пешек щербатым углом – он ходил всегда е2–е4 + d2–d3, – и после того на час для меня переставал существовать иной мир, кроме этого, нового, в клетку. А в этом новом, клетчатом мире желанное и страшное, которые составляют (и тогда уже составляли для меня) горизонт жизни, тут отступали прочь, подбирая хвосты, те хвосты, что тянутся к нам из будущего, и под высокой неяркой люстрой (дед экономил свет) фигурки все ближе сходились на своем бранном поле, между тем как он умело сопрягал «тактику» со «стратегией» (та же его теория шахмат, верно, из той же забытой книги), готовя мне исподволь разгром, внезапный и сокрушительный. В утешение – сколько помню, я ни разу не был расстроен фиаско, – дед порой вынимал из стола свою коллекцию монет, и это был для меня небольшой праздник. Рыцарский полудублон с гербом и мечом – король коллекции – завораживал меня до того, что даже часто мне снился. Дед сам тоже его любил. Там же, за шахматами, из проговорки деда я узнал невзначай, что пресловутый Орлик «был отличный стратег» – хотя играл, понятно, людьми, а не пешками. Дед, впрочем, сразу прикусил язык, а на мой невинный (с виду) вопрос стал рассказывать о себе, как он мальчиком пел в хоре и истово верил, но потом приходской поп заподозрил его в шашнях со своей дочкой и на исповеди все хотел, чтобы дед сознался. «Кайся, отроче», – гнусил поп. Деду каяться было не в чем, он невзлюбил попа – а вместе с ним и Бога… Потом он включил телевизор – он болел за «Динамо», – а я вернулся к Пушкину и Реклю. Дни шли. Погода не улучшалась.
В конце концов я все же вытянул из деда кое-что. Прежде всего я узнал – вскользь и немного – о своей давней родне. Моя бабка – сводная старшая сестра деда – была полька и даже известная в Польше певица. Дед показал какой-то старый варшавский журнал с ее фотографией: юная девушка вполоборота, голая грудь, живая птица на изящно поднятой вверх руке. Непринужденность позы. Шалость в глазах и улыбке. Игривый изгиб бровей. Журнал хранился в специальном конверте – должно быть, из-за голой груди: дед явно стеснялся снимка. Куда охотней он говорил о своей более старой и прямой родне, к примеру о собственной бабке. Та, по преданию, в позднем своем вдовстве была крайне набожна и так прилежна в праведной жизни, что даже прославилась в округе как святая, разумеется, местночтимая. По некоторым известиям (впрочем, сплошь устным), она возглавляла в Любаре женский униатский монастырь, бывший в соседстве с мужским католическим. Этот слух сообщал и ряд ярких, вряд ли бывших на деле подробностей в духе народного жития. Так, например, эта самая бабка-униатка Глафира до самых даже старческих своих лет читала якобы Символ веры тайком на свой лад, а именно: в том спорном месте об исшествии Святого Духа, которое у латинян зовется filioque, она произносила не «от отца и сына», как требует западный обряд, а «от отца истинна», чем будто бы даже навлекла на себя гнев какого-то шляхтича, польского пана, расслышавшего слова. По преданию, он чуть тут же и не убил ее у алтаря – времена были простые, – но вдруг был усмирен почти одним только ее взглядом. Кончина ее, самая праведная, воспоследовала лишь лет семь спустя и была прославлена знамениями и чудесами. Сам дед как атеист всему этому верил плохо, к тому же не мог сказать точно, была ли святая Глафира его бабкой или, может быть, прабабкой: предание допускало путаницу лет. Но, во всяком случае, две ее дочки, рожденные в браке, продолжали как будто оставаться в Любаре, хоть жили розно. И опять-таки тетка Орлика, а моего деда мать, хоть не была сама святой, однако ж крепко держалась веры, уже православной, подняла одна четверых детей (двое умерли уже в юности), умножила как могла достояние семьи, погибшее в революцию, и наконец скончалась тоже праведно, при полном сознании и стечении родни, со свечой в руках, с молитвой и с точным собственным предсказанием дня, часа и даже, говорили, минуты своей кончины. Это дед уже видел сам. Потому не удивительно, что другая моя бабка, дедова родная сестра, была, как и он, с детства истовой христианкой. Но только, в отличие от деда, проклятый поп ничем не смутил ее: она умерла в монастыре, уже в тридцатые годы, и именно так, как того требовал семейный обычай и обряд: со свечой и молитвой. Наконец, Орлик был «шалопай», весельчак и певун. Он ничего не смыслил в политике, но в военном деле – в «стратегии» – был гений. Зеленые воспользовались им. Махно водил с ним дружбу. Он помогал им в их замыслах, однако имел свой отряд. Красные нашли его в тифе, в бреду, и тотчас, вытащив из избы на сырой украинский снег, расстреляли почти в упор из десяти линейных винтовок.









































