Текст книги "Страх"
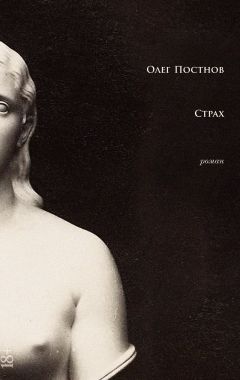
Автор книги: Олег Постнов
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
XIV
К Рождеству дед прислал подарок. Это были Апостолы на церковнославянском, книга, по которой он когда-то учил меня читать: я так и выучил полуустав по ней. Книга была семейной. Кажется, она досталась деду от той самой сестры, что скончалась в монастыре. Он хранил ее особо и всякий раз перед уроком выдавал ее мне, так сказать, из своих рук. Для него самого, несмотря на весь его атеизм, она, верно, значила многое – так всегда мне казалось. И, во всяком случае, теперь в ее присылке был явно заключен какой-то особенный смысл, может быть, символ или знак того, о чем дед так и не смог – а потом не успел или не счел возможным – поговорить со мной с глазу на глаз. И о чем, в свою очередь, я тоже молчал.
Впрочем, с годами (вдруг побежавшими теперь для меня куда быстрей, чем прежде) его обиняки, как и недомолвки моей матери, стали уже вполне понятны мне. Как-то, словно бы сам собой, я узнал, что хотя немцы и были слухом, зато Орлик, который слухом отнюдь не был, в какой-то из своих вылазок – возможно, это был глубокий рейд на восток с горы близ Яремчи (Прикарпатье), где он прятал до времени свои войска, – явно не в добрый для него час повстречал все-таки старшую сестру бабки Глашки, совсем тогда юную, чуть не пятнадцатилетнюю девку. Слух, как водится, все перепутал. Расстреляли Орлика красные, а не немцы, в Гражданскую, а не в Отечественную войну. Но Орлик – сам или со своими хлопцами (я вижу их в толстых мокрых бурках с капюшонами, с саблями на боку и с теми тачанками, которые, согласно БСЭ, разумеется, «…обладали высокой маневренностью и представляли большие трудности для регулярных (т. е. красных) войск») – действительно обидел, как говорили тогда, сироту. Или даже долго обижал ее, так, что она от этого сошла наконец с ума и от него сбежала. Она-то и была божевильна – она, а не пьяница Глашка, но померла давно, еще до войны, в повальный голод в тридцать четвертом… Когда ее хоронили (тут снова слух), на ней было платье с мережкой, белое, с вытачкой у плеч: то самое, без сомнений, в котором Орлик ее и застиг. Тогда же, вернее, чуть позже, два года спустя по ее смерти, мой дед ставил дом – и вот, чуть не в первую ночь новоселья, в спальне явилась мара… В чистой и ясной душе деда, я хорошо это понимал, не могла уместиться мысль ни о призраках, ни о проклятии, ни тем паче о кровной мести, между тем он, конечно, знал, что и бабка Глашка, и мухобойник Артем, и страшный Платон Семеныч (завхоз лесопильного комбината), и даже, кажется, кузнец – все они приходились родней сумасшедшей покойнице, как и (добавлю от себя) Тоне. Впрочем, тут начиналась уже моя тайна. И думается мне, мои обиняки, а может быть, и мой бред в те три недели, когда я – как оказалось – был на краю смерти (двусторонняя пневмония, едва укрощенная деревенским врачом), а также, конечно, и новые слухи в деревне – все это вместе в свой черед тоже открыло деду и матери истину, которую сам я не думал от них таить, но к которой много лет был, как ни странно, совсем равнодушен.
Вообще многое из того, что составляет мир и обычный живой интерес подростка, кто бы он, в конце концов, ни был, миновало тогда меня как раз из-за этого моего равнодушия. Я потерял невинность, почти не заметив этого, но, кажется, именно потому снискал себе странный покой, бестревожную юность, много лет чтения и размеренного труда. Школа вовсе не доставляла мне хлопот, и я мог позволить себе делать и любить то, что хотел. Как сказал подражатель Фома (эта фраза сейчас в ходу), «везде я искал тишину, но обрел ее лишь в одном месте: в углу, с книгой».
С душевным трепетом – словно можно еще что-нибудь там изменить, невзначай нарушить, как бы сдвинуть неловким словом события с их привычных мест – всматриваюсь я в те годы. Мой «угол» – это была квартира тетки по отцу, Лизаветы Павловны Мелиховой, всегда с охотой меня у себя принимавшей. Это и впрямь была новая жизнь и новая родня: прежде я как-то вовсе был далек от нее. Тетка жила в районе первых Парковых улиц, в скучном месте Москвы, Бог весть почему всегда связанном в моем воображении с Востоком. Что было тому причиной – маленькие базарчики на площадях, низкорослые ли дома и такие же вдоль них деревца (после украинского леса они все казались мне почти карликовыми), – трудно сказать. Грохот тоннелей сменялся постукиванием колес – метро выходило наверх, – и вот уж я сбегал с платформы в пыльный узенький переулок, в конце которого дом тетки выделялся путаницей трех этажей и крыш – не слишком оригинальной архитектуры, все же приятной после типовых застроек близ моего окна. Обилие ковров на стенах, колченогая шаткая мебель, телевизор с круглым экраном, всегда занавешенным рушником, безвкусный фарфор на полках и книги, книги – все это было по́лно для меня того очарования, которое после никак не можешь найти, вернувшись назад из дальнего путешествия. Но я не путешествовал никуда, зато просиживал часы на диване, развернув Стерна, или Крузое (у тетки были старые издания), или Мельмота-Скитальца, – пока она наконец не звала на кухню обедать. Лизавета Павловна была англоманкой. Она преподавала языки, брала уроки на дом, и ей-то именно я как раз и обязан той чистотой своего английского (Royal British), который здесь, в Америке, вызывает порой смех. «Let us begin with our pho-ne-tic drills», – морща от усердия носик, тянула тетушка. Я послушно соглашался и рассказывал ей главу из «Людей Тумана», которую только что прочел, или описывал игру «совсем маленькой кошки», вытканной на кухонном полотенце, или старался изобразить, как я скажу комплимент одной из ее учениц. Тетушка поправляла. В ее исполнении язык Свифта и Блейка был так нежно-галантен, что ему позавидовал бы Шодерло де Лакло. Я добавлял к этому педантичность Дефо, которым тогда увлекался, или романтический пассаж в духе Мэри Эджворт, или, на худой конец, что-нибудь такое, что, на мой взгляд, мог сочинить Чарльз Лэм. Люк сказал мне как-то, что я говорю как сноб. Впрочем, в Принстоне, я думаю, этот грех простителен. А менять что-нибудь мне теперь уже лень… Тетушка тщетно пыталась при этом свести меня в самом деле с кем-нибудь из своих учениц, всякий раз, на ее вкус, красавиц; ей, верно, хотелось пустить в ход то оружие, которое я благодаря ей обрел. От нее же как-то я узнал – она простодушно призналась, – что мой отец чуть ли не сам просил однажды ее содействия в этом. Помнится, я был тронут: я никак не ждал от него подобной заботы обо мне. Впрочем, не был и удивлен: если меня не влек неукротимо (по известным причинам) прекрасный пол, то он-то в свои пятьдесят, как я выяснил позже, любил порой платить ему дань, как и во все иные годы своей жизни.
Что до меня, то тетка не преуспела. Какая-то Кристина, о которой она все твердила мне, занимала порой мой ум благодаря звучности своего имени, – но мне было пятнадцать-шестнадцать лет, а я все так же покойно ездил к тетушке, ни с кем не знакомясь, читал по субботам и воскресеньям ее книги, зимой засиживался до темноты и проводил у нее чуть не весь день летом. Прогулки в Измайловском парке стали для меня необходимой привычкой, составив мой моцион. Как и в детстве, я был один – и так же не замечал этого. Уединение, особенно осенью, было только приятно мне. Когда вечерело, я шел к метро тем же узким проулком с деревцами вдоль домов – и вот уж за толстым окном пустого вагона плыла ночь, дальние огни тихо двигались вспять и вдруг обращались в грохочущую вереницу, освещавшую бок тоннеля. Поезд нырял вниз. Мелькали станции, всё более пышные, с той гадкой роскошью, что изумляет – еще до сих пор – иностранцев; центр близился, народ сновал у дверей; я вставал и готовился выходить. Наш дом был рядом со станцией. Постовая будка отсвечивала зеркальным стеклом. Роскошный особняк посольства одной крохотной державы был погружен во тьму. Двор, как всегда, был пуст.
И все же существовало нечто, что выпадало из этой ровной и ясной канвы моей жизни, что нарушало исподволь строгий ее ход, вновь и вновь вплетаясь в нее, помимо моей воли, словно чужеродная нить. И это были сны. Я плохо помнил, что видел, грезя; однако все чаще просыпался с чувством не то утраты, не то томления по тому, что могло бы быть – где-то там, когда-то, – но чего не было здесь; я, впрочем, и сам не знал, что это такое. Объяснения в духе Фрейда, конечно, только смешили меня. Но был мир – зеленоватый, призрачный, очень цепкий мир сна (впоследствии лишь бессонница ослабила его хватку), по утрам не желавший долго покидать меня. Между тем я не мог вспомнить, что же в нем было еще, кроме той же потери, но память удерживала прилежно одну только мысль о ней. Иногда среди книг – гравюр Блейка, а еще чаще Бердслея и Байроса[1]1
Франц фон Байрос (1866–1924) – австрийский художник эпохи декаданса, известный благодаря своим эротическим гравюрам.
[Закрыть], которые я находил в избытке у тетки, – промелькивало что-то как бы знакомое, какой-то узор, арабеск. В тот миг он значил для меня подчас больше, чем вся картина в целом, но все равно я не мог бы сказать о нем что-либо, даже самому себе. И все же, нельзя утаить, я спешно захлопывал альбом, заслыша вблизи шаги моей доброй Лизаветы Павловны, хотя она, видит Бог, уж конечно, не осудила бы мой интерес. Подозреваю, у нее были свои счеты с этим миром. Мое томление между тем росло, я был похож на героев Новалиса, чьи чувства порой реальнее их самих, удивлялся себе, но вовсе не знал, что́ предпринять и нужно ли вообще тут что-нибудь делать. Время, однако, шло.
По обоюдному молчаливому уговору, к деду я больше не ездил. Не то чтобы это был суровый запрет – раз или два в эти годы я прилетал ненадолго в Киев, но там жил больше у Иры или ее родителей, тогда еще не разведенных, в деревне же показывался совсем уж на один день – чаще на вечер, как прежде Ира, – пил с дедом по старинке на веранде чай (хотя дорос уже и до его заветной наливки), ночевал в той же спальне, но утром шел, вздохнув, к электричке, и, провожая меня до ворот, вздыхал и дед. Откуда-то я знал, что он как-то раз открыто не подал руки мухобою Артему и этим даже «опозорил» его, и так же «опозорил» и Платона Семеныча – при всех, в конторе. Но изменить то, что было, он все равно не мог. О Тоне он не заикался. Впрочем, тем же путем, так сказать из воздуха, я знал, что она живет где-то в Киеве, учится чуть ли не на художественных курсах, но по-прежнему мало волновался о ней и вопросов не задавал. Сама деревня казалась мне прежней, лишь кое-где местами она ветшала, порой виднелись и новые постройки, а подле станции лесопильный завод развернул строительство домов «городского типа». Покамест были поставлены лишь бетонный забор и серые вышки кранов. Зато кроны «Плакучих Ив» – насколько я мог судить издали, идя за сарай в клозет, – из году в год редели. Я уезжал, и вновь по праздникам дед слал открытки и письма. В письмах он жаловался на одиночество: Клара Ивановна – «кума» – померла, хозяйство шло кое-как, не хватало сил, мать Иры бывала редко. Моя мать выбиралась (не каждый год) только на месяц-два – и это было все, дед знал, на что он мог рассчитывать. Впрочем, как писал он сам (по другому поводу), «я наконец уже совсем стар». И это была, конечно, правда.
XV
Не знаю уж, был ли виноват Байрос, или Бердслей, или ученицы моей тетки (среди которых и впрямь попадались прехорошенькие, она все же настояла как-то на своем в смысле знакомства), или никто вообще не был виноват, но только мое равнодушие, больше похожее на онемение, вдруг прошло. Равновесие нарушилось, заводь дала течь (словно те бревна на Тростянке), и целое озеро теплых грез внезапно хлынуло в мои сны – и еще больше в явь: теперь уж нельзя было сомневаться, в чем тут дело. Мне было семнадцать лет. Был апрель, оттепель. Москва таяла, дождь сыпал брызги на еще не сошедший снег. И я с веселым изумлением понимал, глядя вслед какой-нибудь шляпке с помпончиком, с легкомысленным мягким шаром (они вошли тогда в моду), что любая из них вдруг может (гипотетически) свести меня с ума, – как прежде, с тем же веселым чувством, точно так же знал, что ни одна отнюдь на это не способна. Отец был рад моему безумству – он уж подозревал неладное – и, раз его заметив (я, как водится, все прилежно скрывал), на все лады поощрял его. Как понимаю теперь, обрадовалась ему и мама, но у нее были свой резон и свои расчеты. Май прошел кое-как, отец кашлял, бросал курить, а в начале июня, в последние свои школьные каникулы, я был отряжен в Киев – впервые надолго. Мать просила тотчас наведаться, как там дед. Тут не было ее вины: даже если б она могла заглянуть за кулисы моих снов (уже бесстыдных, но еще сносных, еще наряженных в одежды романтизированных причуд), то и там не нашла бы ничего страшного. Не знаю, право, как это объяснить. Но после ночи на сеновале – даже теперь! – Тоня как будто бы вовсе перестала существовать для меня. Возможно, на этот случай где-нибудь во вселенной наличествует свой закон в какой-нибудь тайной Книге Знаний. Возможно, что тут просто был обман зрения, который легко понять. Так праздный визитер паноптикума, созерцая витрины, конечно, не помнит, что где-то есть и режиссер, и декоратор, вполне живые, реальные люди. И уж подавно не знает, как и зачем брать их в расчет. Он ошибается – за свои деньги. Ошиблась и мать; я тоже, верно, чего-то недоучел, может быть, каверз мира; но теперь, глядя с горы, словно Арсеньев Бунина, я не могу, однако ж, представить, чтобы этого не случилось тогда со мной. Тогда – и именно тогда – не было никаких разумных оснований для страха. Прошлое действительно стало прошлым. И могло в полной мере исподтишка заявить мне свою власть. Никто не знал этого. И я уехал.
Я остановился у Иры. Она жила отдельно от своих «предков», как она их звала (словцо из ее лексикона), на самой окраине Киева, куда, правда, подвели метро. Этот район (район Дарницы, для тех, кто знает город), может быть, именно в силу наземного метрополитена казался мне отчасти похожим на мой «восток» – район тети Лизы. Те же базарчики пестрили вид, даже с балкона Иры. Я, впрочем, не склонен был вяло созерцать их пустую жизнь или сидеть тут в углу за книгами, хотя сильно обманется тот, кто решит, будто я только и ждал случая пуститься во все тяжкие: у меня был совсем другой план.
С давних пор Киев был мне известен едва ли не лучше, чем Москва. Он встретил меня тем же теплым летним туманом, брожением вод (июнь был дождлив), влажными толпами под куполками зонтов, уютной уличной суетой, в которую было приятно вмешаться, – и я ничего не имел против. Выехав в центр, я садился в троллейбус, изучал маршрут и выходил на конечной, где-нибудь на Валу, возле Кирилловской, совершенно пустой в непогоду. Или же, обогнув с двух сторон Печерск, мной всегда нелюбимый, пробирался сквозь лес в Выдубицкий монастырь, к которому вовсе не ходил никакой транспорт. В ту пору, как помню, там был институт (кажется, геологии), а в старой звоннице – склад или гараж. И такой же гараж я нашел у ворот Покровской церкви, неподалеку от Миколы Доброго, того самого, что описал Булгаков. В букинистических магазинах я грелся и отдыхал. Кафе я избегал по инстинкту – в них всегда была грязь и убожество кухни, – кроме разве что одного, на Львовской площади, подкрепившись в котором я совершал отчаянные спуски на Подол, минуя всеми признанные пути, зато находя в избытке инвентарь чужой закулисной жизни, усыпа́вшей склоны и не видимой ниоткуда, как только с одной, дощатой и многоколенчатой, похожей отчасти на кладки лестницы, извивавшейся между круч и выводившей в конце в неразбериху улиц, тупичков и улочек вроде Дегтярной, Кожемякской и целой массы безымянных, проходя по которым видишь, что тут вряд ли что-нибудь изменили века. Тут были избы, дворы с кузнями, стояли телеги, деготь послушно пах из году в год, оправдывая название, а кроме него, пахло воском, ламповым маслом, где-то гудел керогаз, где-то, верно, дубили и кожу, и угрюмый мастеровой в проулке взирал с изумлением на пришлеца, так что странно было подумать, что, дойдя, к примеру, до Воздвиженской, можно вдруг попросту сесть в трамвай… Именно здесь, на одном из склонов, я как-то нашел случайно одно занятное строеньице, сразу занявшее важное место в смешном балаганчике моих грез. То была будка, чуть больше отхожей, – весенний оползень развалил ее. Крыша треснула пополам, стало видно нутро, все в ошметках обоев, с широкой тахтой внизу: она-то и занимала весь пол. Сладострастие строителей предусмотрело и свет: из стены высовывался рожок с абажуром, розовым, как и обои, и до сих пор целым. Дверь была прочной, с крючком изнутри, а мера стыдливости не допустила щелей в стенах: все они были забиты накладными рейками, теперь торчавшими порознь, как усы. Воображение бушевало, я натягивал капюшон – дождь опять моросил – и устремлялся дальше, наверх, в поисках новых явлений мира, столь щедрого на гостинцы, если их ищешь. Я прилежно искал.
Мои ночи вряд ли были праведней моих дней – и наоборот. Я скитался по городу, но странное дело: мои помыслы, их разгул ничуть не толкали меня к людям, к женщинам, я как бы вовсе не замечал их. То, что мерещилось мне, не шло ни в какое сравнение со скудной реальностью будней, на которую только одну я и мог бы рассчитывать за порогом фантазии, и я не спешил перейти порог. Я видел древний город в тисках повседневности, которой я бежал, меж тем как он сам пьянил меня – и оттого мои прогулки заканчивались не в веселом доме (коих в Киеве во все времена было в избытке, о чем писал еще Чехов, большой, говорят, их знаток), а в Музее живописи и скульптуры, выходившем в огромный парк. Здесь, уже в холле, едва войдя, я, скинув в гардеробе плащ (когда-то тут был зал, а в нем, я помнил, Рокуэлл Кент, четыре картины), я замирал пред нагим мрамором Праксителя, и тонкие ризы танцорки – этот смешной эвфемизм – не были вовсе преградой мне и этой глубоколонной (по слову Мея) девице, даром что ей не хватало рук или головы!.. Я шел по лестнице вверх уже хмельной, уже трепещущий, смеясь, впрочем, в душе тем удивленным и почтительным взорам, что бросала мне вслед старушка-привратница, верно, решившая про себя, будто я крупный знаток, – я простоял с полчаса перед Фидием (конечно, копией, и не слишком удачной) и уже предвкушал невинную похоть галлов, осененную стаей псевдобиблейских херувов, пухленьких мальчиков, подымавших с Венеры последнюю пядь драпри, – тот же эвфемизм и того же пошиба, ибо все они, всей стаей, прилежно смотрели туда, шушукаясь и улыбаясь, – и я тоже смотрел туда с резной галереи, а рядом бесстрастная бонна бормотала девчушке: «Стиль рококо, Франция», – и, сощурясь, читала: «Фуке. 1712 год». На воспитанницу я не глядел. К чему? Ее пресная плоть была мне скучна, как и ее веснушки и запах детских духов, верно, дозволенных той же бонной. Но зато, помню, искренне был удивлен Иосифу, отстранившему руку жены Потифара, чья сочная прелесть гибла под тяжестью цепи, символически брошенной ей на грудь… Остужать ложноклассический пыл я заглядывал в Музей русского искусства, степенный и строгий, полный губернских властителей, но без их нервных и тоскующих жен. Здесь, за иконным залом, следовала коллекция старых миниатюр, в пышном своем однообразии способных тягаться – так мне казалось – с онегинской строфой. Это был тесный, но теплый закуток, за дверью которого начиналась главная анфилада зал, и я не без досады услышал сзади тот же менторский тон надоевшей бонны, объяснявшей важно, как в словаре, родословную графов Румянцевых. Я поднял глаза. Миг настал. Бледная девушка исчезла. Рядом со мной стояла Тоня, слегка улыбаясь, внимая старухе, но искоса глядя на меня. Я помню, что пол шатнулся у меня под ногами – дорогой, вощеный, инкрустированный паркет. И на один миг я ухватился за витрину; это был вынужденный жест.
XVI
Конечно, это была она! Я не мог ошибиться, да и она, как видно, давно узнала меня. В замешательстве, но уже не шатаясь, я шагнул к ней – и она тотчас чинно присела, повернувшись затем к бонне (и наконец-то ее прервав), чтобы представить меня. Я поклонился. Это было кстати. Та вдруг заиграла глазками – она оказалась очень живой и краснощекой старушкой, – протянула мне руку так, как это было в ходу до войны, обозвала меня соседом, спросила о родне, и через миг я был огорошен двойным, как выстрел, открытием: хозяйка «Плакучих Ив», мифическая детская писательница, стояла передо мной, болтая без умолку и беззаботно вынырнув в мое бытие из не ею придуманной старой басни (она уже, впрочем, давно ничего не писала сама). Но этим нежданным явлением – эффектный кивок в финале, когда занавес уж закрыт, – она прервала вакханалию теток, бабок, внучек, внучатых племянниц, старших и младших сестер, а также прочих родственниц без названия и без имени, как мертвых, так и живых, давно уже осаждавших мой ум: Тоня была ее дочь.
Мы вошли в анфиладу. Я откровенно рассматривал Тоню (а не картины), силясь вообразить – стремление, общее для мужчин, в моем случае безуспешное, – что эта девушка прежде уже бывала моей. Совсем маленькая, стриженая, в простом длинном платье и с завитком у виска, она и впрямь пользовалась духами не в моем вкусе, так что мой боковой взгляд долго мог бы быть обманут там, среди венер, как это, должно быть, и случилось. Про себя я заметил – довольно бесстрастно, впрочем, – что она была похожа на инфанту Веласкеса из испанского зала со шпалерами из «Дон-Кихота», где сам хитроумный идальго (по воле не менее хитроумного живописца) скакал на плафоне во весь дух, конским брюхом вниз, между двух облаков. Все было так. Но теперь мне хотелось выяснить – праздный вопрос! – давно ли, в самом деле, она узнала меня. Оба музея были рядом, не составляло труда перейти из одного в другой. Говорила меж тем с прежним жаром одна ее мать, которую я плохо слушал, вскользь лишь отметив фразу о том, что она много лет не была «на даче»: «надо бы съездить, все там прибрать…» Дочь слегка улыбнулась. Но несносная дама, как видно, решила, что нет оснований прерывать осмотр. Я был подключен к числу ее слушателей, ей нужных для оправдания своей эрудиции (до сих пор Тоня была в единственном числе), – и, таким образом, менторский тон вновь сменил болтовню у очередной рамы, так что, хотел я того или нет, но вынужден был примкнуть к этой вздорной экскурсии, с тоской вспоминая число зал впереди и за поворотом (там висел Васнецов). «Все же ее белесость, – подумал я про Тоню, уже нарочно не спуская с нее глаз, – даже, пожалуй, альбиносость… ну и словечко… впрочем, нет, к ней не подходит… однако требует более темных одежд». Она опять усмехнулась. Вид у нее был такой, будто она слышала эту мою мысль.
Мы плыли меж тем к передвижникам. Я их терпеть не мог. Мое воображение, раз пущенное в ход – распущенное (признаюсь под страхом гадкого каламбура), – теперь нипочем не хотело угомониться и бойко рисовало мне возможные следствия этого моего нового знакомства. В Москве отец всегда любил литературные «круги». Я был вхож в пару именитых домов – и мог теперь это ввернуть (когда получу право слова), болтая с Тониной мамой. Я мог быть затем приглашен и к ним. Я прежде слыхал, что у них был приятелем некто Ч***, тоже детский писатель с недетским, однако, свободомыслием, кое он маскировал, кажется, под похождения шахматных фигур, попадавших в забавные ситуации, – и вот с него-то, пожалуй, мне и следовало начать. Что-то ведь я когда-то читал – и его, и ее. Лесть – лучший проводник, это известно всем. Я был бы зван, стал бы являться, так сказать, в среду к обеду или, возможно, на субботний вечер, потолковать у камелька, между тем как мы с Тоней под вывеской старой дружбы, пожалуй, могли бы…
– О! – воскликнула вдруг ее мать, оборвав себя. – Вам это вряд ли будет интересно; но я непременно, непременно должна посмотреть… – Она растянула все три «е» по два раза, и раньше, чем я понял, в чем дело, словно по волшебству, улизнула в боковой зал: коллекция фарфора, русский фаянс. Там минут на десять она, должно быть, сама превратилась в какой-нибудь чайник – просто так, для удобства, ведь ей пришлось же там как-то молчать! Она исчезла, мы остались вдвоем. Посетителей кругом не было. Вообще никого не было. Старушка в углу дремала на стуле, не перетянутом ленточкой: мирный музейный страж. Блики от окон пересекали паркет. Мне показалось, шесть лет исчезли – если не целый век. Шесть лет – большой срок в этом возрасте (цитирую: Алданов). Но мы стояли друг против друга – так же, как и тогда, на бурке или, может быть, возле лодки на берегу. В любом случае игра памяти была не в мою пользу: у меня сох рот.
– Чем ты занята? – спросил я (может быть, следовало говорить «вы»?). Я ожидал услышать что-нибудь о тех курсах, рисунках, училище…
– Я назначаю свидания, – сказала Тоня беспечно, глядя на меня так, как я сам глядел на нее, но словно с насмешкой.
Я оторопел.
– Свидания?..
– Да.
– Какие? И с кем?! – пролепетал – не то вскрикнул – я.
– Разные. С разными, – был ответ. Тоня смотрела на меня, уже явно смеясь.
– Ты шутишь, – сказал я ровно: я все же быстро овладел собой (и даже сейчас этим горд).
– Это была бы глупая шутка, – строго возразила она.
– Что верно, то верно.
Улыбка ушла с ее губ.
– Но я не шучу – вот в чем дело. Это на самом деле так.
– Ты ведь как будто бы католичка?
– Ты это помнишь?
– Как видишь. – Я хотел добавить, что это почти все, что я про нее знаю. Но почему-то не стал.
– Что ж, – она тряхнула головой – как и раньше, в детстве. – Отец Гвидо меня исповедует.
– Да? Так у него, верно, дурной сон – у отца. А что твоя мать? – Говоря по совести, я не хотел упускать инициативу. С ней, как я знал, это было небезопасно. Я все равно уже проиграл, с первых слов, это было ясно, но держался как мог покамест.
– Она сама старая б…, – сказала Тоня, не понижая голос. Старушка на стуле прервала дрему.
– Ты хочешь сказать – ты в нее? – спросил я, криво усмехаясь.
– Ты имел случай это узнать.
– Почему ты мне это говоришь?
Она пожала плечами.
– К чему ходить вокруг да около? Ведь ты этого хотел?
Я почувствовал, что краснею. Это было уж слишком.
– Хорошо, – сказал я. – Так назначь свидание мне.
– Требуешь доказательств?
– Положим.
– Изволь. Мы обсудим этот вопрос.
Она опять улыбнулась.
«Соглядатай» Саврасова – виноват, «Созерцатель» (воспетый, кажется, Достоевским) – изо всех сил делал вид, что смотрит вдаль.
– Как у тебя это бывает? – продолжал я, боясь теперь паузы. Мы медленно обходили зал, будто плясали мазурку: без фигур, во сне. Впрочем, и то: мне казалось, что я давно грежу – заодно с ней.
– Что именно?
– Ну – свидания.
– Очень просто. Назначаю их здесь.
– Где – в музее?
– Нет, в парке. Возле Шевченко. Знаешь?
Я, разумеется, знал. Сад был университетский, он был виден в окно. Памятник – очень грубый, похожий на барельеф, вынутый из стены, – стоял при входе. Сейчас его заслоняла тень.
– Так вот, у правой руки – это серьезно, – продолжала Тоня. – А у левой – так. Кофе попить.
– И тебе это нравится?
– Что – кофе пить?
– Нет…
– А – отдаваться… Когда как. Как всем.
Я молчал, смотрел на нее. Больше я ничего не мог придумать. Клянусь, я был рад (глупой радостью труса), когда ее мать, воркуя, нагнала нас. Шишкин мне показался импрессионистом. Буйство Васнецова мне просто не с чем сравнить.
Наконец, внизу, в вестибюле, гигантское зеркало меж резных колонн отразило нас – я подавал ей плащ, – и краем ума (видно, что очень эстетским его краем) я подумал еще, как мы с ней хороши: чуть усатый вертлявый юноша в черном – а́ la де Ренье – костюме и крошка-блондинка в его символических лапах. Конечно, метаморфоза имела тут место: мне как-никак удалось забыть шесть лет, и, в отличие от нее, сам себе я казался чужим, посторонним (чего и требовал жанр). Этот чужой спросил очень просто, с галантным изгибом в поясе:
– Так когда мы свидимся вновь?
(Вот он, этот вопрос! Я слышу его и сейчас, и зеркало памяти так же услужливо, как тогда, и никто не мешает.)
– Завтра, в полдень, – ответила Тоня, щурясь.
– Возле какой руки?
Он все же шепнул ей это на ушко, наклонясь к ней, мой реньеровский франтик! Он все же боялся – не то упустить, не то ошибиться и быть в дураках…
– Это ты решишь сам.
Мне трудно передать оттенки ее интонации. Там была ласка – и презрение. И смех. Что ж, я их заслужил.
Низкий поклон мамаше (она тоже его заслужила) – и вот уж я шел один через сад, как раз мимо Шевченко. Из серого под дождем он стал зелено-пегим, как и – несколько дальше – Щорс. «Завтра в полдень», – сказал я себе. А ровно час спустя, с телеграммой в кармане, я гнал такси в аэропорт. Отец уже был в больнице. Он умер внезапно, от инфаркта, в тот же день. Мать слегла, тетя Лиза казалась тенью. И я хоронил его.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?







































