Текст книги "Страх"
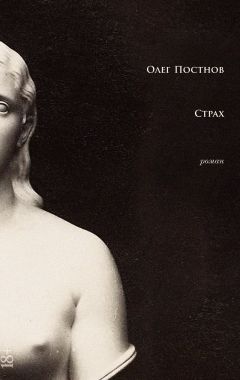
Автор книги: Олег Постнов
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
XVII
Признаться, я вновь был сбит с толку – да так, что вовсе не знал, что теперь предпринять. Все произошло слишком скоро, и я, как мне казалось тогда, ничего не успел. Что я, собственно, видел за те десять жалких минут в музее, которые подарила нам пухлая дама в обмен на свой фаянс (а ведь я смотрел во все глаза)? Голую девочку в лодке? Ее же на сеновале? Бойкую девушку в платье, чей беспримерный цинизм, так мило шедший к ее стриженой челке и большому тонкому подвижному рту, был, хотелось мне верить, не одной только позой? Да, хотелось бы верить… Бог мой! Неужто и впрямь я хотел бы знать, уже наверняка, навсегда, без права что-либо изменить или взять назад, что она тогда точно мне не солгала? Что она была шлюхой и любила это? И даже этим гордилась? И бравировала наугад? Или я все не совсем так понял? Или понял совсем не так? Мне было семнадцать лет, и я был плохой моралист: я слишком долго ждал.
Дом был в трауре. После отца – а затем его похорон, поминок, всех скорбных визитов и церемоний – в доме остался какой-то скорбный бедлам, который мы с матерью никак не могли прибрать. Наша московская квартира и без того всегда казалась мне не в меру пыльной, перегруженной всяческой чепухой из всех стран света, которую отец с удивительным постоянством вез в дом. Его взгляд на мир, верно, требовал сувениров, но, когда его не стало, их убогая цель – лживая самосохранность – стала колоть глаза (так мне чудилось, по крайней мере). Днем я уныло слонялся по комнатам, глядя то на россыпь ракушек из Индии в его кабинете, то на выставку зажигалок и штопоров в буфетном углу под охраной его фотографии во временных рамках с крепом, уже начинавших коробиться снизу, как от огня (дурной знак!), то на свалку его вещей в спальне, и при его жизни редко видавших шкаф, а теперь распространившихся на все стулья, кресла и на кровать (мать спала в бывшей детской). Тетя Лиза через день бывала у нас, но и у нее как будто тоже опускались руки. Впрочем, как знать? Весь этот хлам, как бы там ни было, скрывал невзначай трагедию вещей нужных, настоящих – каких-нибудь забытых на кухне (уже навек) отцовских очков или часов, словно ждавших его руки, – помогая удержать слезы матери, а порой и мне. Ночь заставала меня врасплох, все с той же горькой задачей в мыслях. Я послушно ложился, силясь решить ее. Это не удавалось. По спальне распространялся печальный полусвет, вдали и внизу был слышен ровный гул города, казалось, уже утро, но, взглянув на часы, я видел тени их стрелок у верхних цифр и вновь бессильно падал в подушку. И все-таки ночью мне было легче. Я был занят на свой лад: я совершал смотр улик.
Что же я, собственно, помнил? Десять минут – мизерный срок. Тонкая жилка у виска – жалкий трофей. Призрачный холод ладоней; своенравный нос (я не мастер эпитетов); драгоценные раковины ушей, украшенных крошкой нефрита; странно прозрачные глаза с зеленью (я думал, что давно забыл их); тугая грудь под платьем – ее-то я отлично помнил… Собирательный образ череды слов легко, однако, оживал для меня к ночи. И вот теперь мне предлагалось поверить, что острый ее язычок, который она чуть высунула (я видел в зеркало), попадая руками в мною поданный плащ, касался того, о чем не смел я подумать, и был так же опытен, как и ее пальцы с лопатками ноготков, о которые я успел ободраться. И ее губы, и рот, и детский, совсем еще детский стан, и она сама, вся, как тогда, в сарае, будто открылась мне вдруг для моих фантазий, сбросив одежду, ибо теперь-то я не сдерживал воображения, а подхлестывал его. Весь арсенал живописцев, ваятелей, мастеров декора, наконец, поэтов и сочинителей всех стран и веков был, так сказать, под рукой, к моим услугам. И как раз по ночам я был вовсе не против в душе, чтобы это все – наш разговор, ее разврат – оказалось правдой; меня не томила, как днем, вздорная мысль о том, что вот, эти шесть лет, пока я блюл чистоту… Впрочем, и днем в этой мысли было изрядно фальши: я блюл чистоту не для Тони и хорошо это знал. Зато по ночам, при некотором порыве чувств, я, словно гностик или русский сектант, был способен себе представить, что некая связь между нами так-таки есть. Что подобно тому, как в ряде религий нужно грешить, чтоб спастись, ибо наши дела на земле зеркально отражены на небе, так и моя чистота была на деле контроверзой (теперь весьма для меня сладострастной) разврату Тони – мнимому или былому (тут-то я и впрямь хотел – крещендо, – чтобы он был). Конечно, опять получался вздор из тех, что Бердяев зовет «фантазмы», возбуждавший, однако, раз за разом мой пыл, – при этом равно бесплотный и бесплодный. Ибо я все равно не мог уже что-нибудь изменить. Зато я мог с успехом всю ночь напролет наслаждаться этой хитроумной моделью (браво, Лже-Василид!) – и вот истоки тех моих поздних бессонниц, чей счет и смысл уже давно утрачены мной. Но тогда сон наконец наступал, и в нем вновь хоронили отца, зеркала́ были в ткани, и в одном из них что-то скреблось, дергалось, как в «Портрете» Гоголя, словно желая скинуть завесу, и я просил мать дать мне клей, чтобы сладить с отставшим краем.
Конечно, существовали и днем вполне здравые поводы для меня срочно уехать в Киев. Я так и не повидал деда. Я забыл по оплошности свой гардероб у Иры. Строя ночью воздушные планы этого быстрого перелета, я находил вполне уместным выяснить адрес Тониной матери под миловидным, странным предлогом: тетя Лиза, как оказалось, с давних пор хорошо знала Ч***. Но все это таяло утром, между тем август кончался, кончился, – и вот уже в синем мундирчике под распахнутой курткой, как раз введенном тогда вместо прежней мышиной формы для малышей, а теперь обязательном для всех, даже старших, я шел по осенней Москве в школу. Был последний учебный год.
Трудно сказать, что́ в конце концов произвело на меня решающее успокоительное действие: школьные ли будни, не оставлявшие, в общем, сил для ночных бдений (а заодно и вводившие жизнь в привычные рамки, не столь уж траурные), или попросту время, которое уже давно норовило бежать все быстрей и быстрей, приобретая отчасти опасный разбег на поворотах, – но только я и впрямь успокоился. Не бушевал по ночам. Не жал (непристойным образом) подушку. И, главное, грезил днем все реже и реже. Впрочем, об этом – о снах наяву – еще нужно кое-что сказать: уже пора это сделать, пусть даже в интересах правды.
Собственно, в уме я решил свою задачу (хотя, верно, многие найдут, что не лучшим образом). А именно: я решил, что прежде всего до Киева все было правильно; что, при всех благотворных изгибах форм (Пракситель, Фидий etc.) и линий (Бердслей, Маргини́, или тот же бездарный Фуке, или даже невинный Веласкес), чисто механический половой акт, простое соитие недоступно мне. Так, скажем, гимнастика по утрам жизнерадостного семьянина или, к примеру, его же ежевечерний взбрык, который он зовет про себя и вслух словом «брак», может быть лишь смутной мечтой для какой-нибудь ночной бабочки, завсегдатая злачных мест. Я не отрицал – упаси Боже! – ничьей чистоты помыслов, связанных с этими вещами. Я представлял орга́н и венец. Я только считал, что как раз в моем случае смешение плоти (термин аскетов) несет в себе некий особый, возможно, даже профетический смысл, далекий, впрочем, от аскезы, но который, однако, нельзя так просто сбрасывать со счетов, и что мое воздержание – такое долгое и упорное – знак его. В семнадцать лет, я думаю, это простительный максимализм. К тому же я с ним не слишком носился; я просто махнул рукой на Байроса из альбомов любимой моей тети Лизы:
Затем, что был герой раздет,
Попал рисунок под запрет, –
как писал Бердслей своему другу, тоже порнографу, – и занялся английским языком и словесностью. Приведенный стих, кстати (или некстати), – один из первых шагов на этой стезе. Спустя год я поступил в университет.
С благодарностью, как и дом тети Лизы, вспоминаю я эти годы, утро у кафедры, жидкий университетский чай возле прилавка в буфете с толстовским названием «Три корочки хлеба», эти самые корочки в железном контейнере, корешки МБА и ту свою новую, особую чистоту, которая тоже ведь может быть мечтой – vice versa – у какого-нибудь метящего в святые юноши после приступа неудержимого самообладания… Со мной, таким образом, все было в порядке. И однако – я, конечно, удержался от официальной регистрации этого факта где-нибудь в медицинском листе – даром для меня прошло далеко не все. Это касалось в первую очередь помянутых мной выше снов. «Не все в них было сном» – откуда-то всплывшая цитата…
Я не вполне уверен – я опять не вполне уверен, – но, кажется, это началось именно после смерти отца. «Портрет» Гоголя лишь повторил, усилив, романтическую традицию, однако я своими глазами видел иногда, проснувшись утром, что, так сказать, брызги моего сна, словно лужица от чашки кофе, оставались на миг наяву – хотя и уже стремительно подсыхают. Бывало по-разному. То все еще шевелилась занавеска на двери (визит усопших); то рядом со мной постель была теплой и смятой (я обнимал во сне Тоню); то снова зеркало шалило со мной: мое отражение застревало в зеленой мгле и, если быстро скосить глаза, можно было увидеть весьма странные вещи; то, наконец, в пору моих бесцельных блужданий по разгромленной трауром квартире зеленый сумрак выползал из углов, и я видел – опять-таки краем глаз, – как в нем корчились разные отцовские вещи.
Было бы ложью сказать, что я был равнодушен к этому. Холодный озноб, похожий на тот, что предвещает горячку, окатывал всякий раз меня – и вот теперь, уже студентом, я всерьез боялся любых простуд: не потому, что они вредят здоровью (глупая тавтология), но потому, что уже первый микроб опрокидывал меня в зеленый мир или, по крайней мере, был способен туда меня отправить.
Тоня как-то была причастна к этому – я не сомневался; но как? Два или три раза я летал в Киев, однако не искал ее, даже вовсе не делал попыток ее найти или увидеть. Днем я опять – и еще больше, чем прежде, – забывал ее. Она была безразлична мне, я несчетное число раз твердил себе это. И кроме того, говоря всю правду, я недолго оставался на высоте своих юных гордых принципов в отношении собственной чистоты. Разобравшись с метафизикой, я как-то сам собой перестал видеть в них смысл и потому легко преступал их. К концу университета все, что осталось от них, – привычка не продолжать случайные связи дальше тех границ, за которыми они могли быть опасны, то есть в самом деле как-нибудь связать меня. Но в них не было ничего такого, к чему я привык во сне. Или перед сном – чтобы быть точным. И вот эти-то ночные прелюдии во всем их бесстыдстве и разгуле, верно, и явились, как думаю, главным звеном в цепи, конец которой терялся в зеленом мире, не желавшем отнюдь отпускать меня. Это была моя Тень – в значении Шамиссо или Юнга. И потому мне лишь стоило промочить ноги, чтобы она дала о себе знать.
Проглядывая написанное, я вижу, что этот пункт – отказ от добровольного, к тому же столь долгого поста – следует объяснить подробней. Но странное дело: у меня не сохранилось от того времени никаких особенных чувств, ни воспоминаний, более того, вглядываясь назад, в ту смутную и не слишком счастливую мою жизнь, я нахожу себя не столько отдавшимся так называемым удовольствиям, которые, в общем, были, может быть, нужны и полезны на свой лад (об этом после), сколько тщетно пытающимся найти в себе внутреннее равновесие, чем дальше, тем больше ускользавшее тогда от меня. И с этим я ничего не мог поделать. Я вижу печальные одинокие свои вечера, у себя дома, в гостиной или же на кухне, по-прежнему с книгой в руках – словно я все тот же святой Фома, но без былой радости чтения, – буквы плывут, наливаясь красным, и я уже не в силах отогнать дрему, между тем сквозь нее прорывается вдруг сознание какой-то странной, будто бы уже окончательной, навсегда решенной кем-то и неизбежной для меня неустроенности в этом мире, причины которой мне не удается сыскать, тем более что ничто как будто не препятствует мне ни в моих делах, ни в планах. Наконец книга валится из рук; я направляюсь в спальню, находя слабое, но зато реальное, живое утешение в белизне моего постельного белья и в удобстве моей кровати, и иногда – эти случаи можно считать за счастье – мне удается тотчас уснуть… Так идет моя жизнь, не предвещая перемен, и я, верно, давно, даже, может быть, навсегда смирился в душе с нею.
Такою виделась мне та пора. И действительно: так прошли годы. Я был верен себе сколько мог и настойчиво гнал прочь зеленые искусы. Как и прежде, я почти ни с кем не водил знакомств. Единственное исключение, заслуживающее упоминания, пожалуй, составляет мой бывший школьный, а теперь и университетский приятель, у которого я раза два бывал в доме и который в ответ раз-другой навестил меня. Фамилия его была Штейн. Он был швед по происхождению, даже, кажется, не из простых, но при этом полный профан как в геральдике, так и в гипербореях. Зато его французский был выше всяких похвал: обстоятельство, странно отразившееся на его русской речи, ибо по-русски он говорил с тем удивительно легким изяществом, которое утратилось в наш век, но в котором, поговорив с ним час, я невольно стал подозревать главную тайну русской классической литературы. Однако, если не считать этого, я никогда не встречал более нескладного и далекого во всем прочем от изящества человека. Он нависал над собеседником углом. Его лицо казалось дружеским шаржем на обоих его родителей. Он был, правда, исключительно чистоплотен, в том числе, как я понимал, и в интимных отношениях, так что, почитая себя уродцем, был застенчив до безумия и, понятно, одинок. В этом он составлял мне забавную противоположность, которая – как знать? – и определила, быть может, то, что мы все-таки время от времени общались. Он, думаю, был бы для меня идеальным собеседником, когда б к его душевной чистоте, кристальной, как у увальня Гончарова, примешивался хоть на грамм цинизм доктора Вернера; но, конечно, этого не могло быть, и я вскоре уставал смотреть, как он краснеет, сто́ит мне прочитать свой новый перевод из Верлена, что-нибудь вроде «Я весь в мечтах о девичьих красах…». Он, конечно, и сам был их не чужд, но я (вероятно, довольно жестоко) предоставил ему парить средь этих туч на свой лад и на свой страх и риск, а сам остался в стороне. Мое одиночество, таким образом, и тут ничем не нарушалось. Порой я оставался и вовсе один. Мать чаще, чем прежде, ездила теперь в Киев. Она дольше гостила у деда и всякий раз привозила что-нибудь с собой: то старый глиняный сервиз, то иконку святого Пантелеймона (наследие прабабки), то опять какую-то утварь, знакомые с детства графины в решетках поверх стекла, словно мой лодочный фонарь с керосинкой, то медаль с Мицкевичем из дедовского кабинета, то, наконец, тарелку с Керчью. Ни мне, ни ей очень не нравились – по понятной причине – все эти подарки. Мне они не нравились еще потому, что разрушали детство: тот заповедник, который я совсем не хотел переносить в столицу и который здесь был даже враждебен мне. Я видел, что чужаки – все эти вещи – не приживались на наших полках, как-то с трудом устанавливались на них. Зато потом (как я заметил со страхом) как раз они охотней всего участвовали в моих тайных зеленых играх. И легко попадали в коллекцию моих снов, меняя там свой облик, словно личины из «Вия». Нет ничего удивительного поэтому в том, что наяву мой взгляд прилежно избегал их. Вообще с годами я выработал ряд ходов, что-то вроде душевной профилактики, которые позволяли мне прогонять Тень или хотя бы держаться подальше от нее. В конце концов, как известно, и время лечит. Нужно, однако, добавить – истины ради, – что я никогда, ни на одну минуту и ни за что не согласился бы признать, пусть даже в виде гипотезы, что история моей второй, призрачной, жизни есть всего только болезнь. Благо на этом никто и не настаивал.
XVIII
В 1990 году я прибыл в Киев впервые в командировку (я только что поступил на работу в одно из тех мест, где по старинке еще интересовались английской литературой). Едва ступив на перрон – на сей раз я ехал поездом, – я понял, что меня ждет сюрприз. Город жил странной жизнью, которая вряд ли повторится в этом, да и в любом другом веке. Весь день казенная надобность кое-как удерживала меня в стороне (я отмечал командировочный лист, наносил визит приятелям моего начальства – седовласому археологу с подозрительно юной женой), но, лишь смерклось, забежал к Ире бросить вещи и поспешил в центр.
Город кипел. Он был еще частью России, но двуцветные флаги висели повсюду. На всех углах шли с лотка значки с трезубцем. Даже интеллигенция, Бог знает зачем, цепляла их. Уже открылись притоны (прежде подпольные), разнузданные листки, чей пыл смиряла лишь убогая фантазия авторов, стоили рубль. За ту же цену можно было купить новые откровения всех апостолов и Девы Марии: они воскресли вдруг, основав свою секту и обогащая горожан придурковатыми пророчествами. Кроме этой, частной торговли почти еще не было, но все как будто уже было готово к ней. Церковь делилась и ссорилась. В бывшей трапезной Михайловского монастыря обосновалась национальная автокефалия: служители по-монастырски стригли первых иноков. Листовки с молитвами раздавали бесплатно. В бывшем Государственном планетарии под самым куполом вновь был открыт костел. В переходах под Крещатиком шли митинги. Там было душно так, что у очкариков в первый миг запотевали стекла: весна была ранняя, но холодная. Везде вдоль людных мест, также и в переходах, и у дверей метро вереницей стояли нищие и продавцы цветов. Кое-где гремели оркестры: им кидали трешки в футляры от труб. Лавка букиниста возле подземной чайной (похожей на кафе у Львовской площади и потому тоже любимой мной) выставляла пышные, как гробы, волюмы в золоте и сафьяне: «Мужчина и Женщина», «Великое Освобождение» (на обложке перо разрывает цепь крепостничества), трехтомник К. Р.: о нем до сих пор жалею, хотя не знаю, зачем он, собственно, мне, особенно здесь, в Штатах… Тут же, на полу подле лавки, сидел в шелковых шароварах старик. Странный инструмент, похожий на огромную полую тыкву, лежал у него на коленях. В толпе шептались, что кровавый бандурист опять в городе. Это значило: жди событий. Он хрипло пел «Наливайко», ударяя по струнам, почти беззвучным, и страшно поводил вывороченными наружу пустыми глазницами, лишенными век. Ему испуганно подавали.
Прошло три дня. Я был у деда – он слеп и глох. Все же он очень был рад мне, хотел меня видеть и говорить. Мы сидели на веранде. Чай был совсем слабый, сахар лип к ложке. Было зябко и скучно под едва тлевшей лампочкой. Та же старенькая радиола все так же лживо обещала круиз, даром что краска почти совсем слезла с ее панели и буквы расплылись. Не могу повторить все, что говорил дед. Его мысли путались – больше, чем у меня той ночью, – а я был рассеян и вял. Кажется, он говорил, что теперь видит мир будто сквозь дым. Он был похож на очень старую, высохшую стрекозу. Мне было его жаль – но словно бы издали. Я больше молчал. Сад зарос, это было ясно даже весной. Дом был едва отоплен. Кое-как я заночевал в сырой спальне и утром вернулся в Киев. Мне не хотелось уезжать совсем, но казенная надобность требовала этого. Я решил лететь назад самолетом.
Первое («павловское») повышение цен, о котором вряд ли уже кто-нибудь помнит, опустошило на несколько дней авиаагентства: билеты были без очереди. Я купил свой в небольшой кассе университета и, сложив деньги и паспорт в карман плаща – у меня оставалось еще сотен пять, – бездумно двинулся прочь, направо от пресловутого Шевченко; пересек бывший Бибиковский бульвар, спустился по Владимирской до Прорезной, пересек и ее и тут, свернув во дворы, углубился в этот район Верхнего города. Я прежде часто гулял здесь. Дворы мне были знакомы, и я наконец вышел к Михайловскому проулку, к дому № 22 (там, кажется, теперь банк), к тому самому, от которого берет начало лестница, известная любителям городской экзотики. Она огибает дом, и, спустившись по ней, пешеход оказывается как бы в ущелье из старинных зданий, тогда как с верхней площадки он может видеть панораму Киева, Крещатик и – на той его стороне – весь в темных садах Печерск. Этим зрелищем, вполне эффектным на закате (было часов пять), мне, впрочем, и без того известным, я любовался недолго и поспешил вниз, как всегда, предпочитая лабиринт открытому, пустому месту. Лестница, Бог знает почему, была усыпана желтым песком, непохожим на уличный. Я вскоре достиг ее изножья. Проулок на вид был пуст. Я, впрочем, тотчас понял свою ошибку. Эти улицы, как и квартиры (или как частные дворы), обладают одинаковым свойством: в них неловко войти просто так. Праздный гость вызывает здесь удивление. Я стал невольным свидетелем блеклой жизни носатых старух, детей в подворотнях (домов № 14 и еще одного, ближе к лестнице; не помню номер, а жаль: именно здесь точность очень уместна). Я миновал перекресток улицы Софийской (со скучным окончанием у самого храма) и поворот на улицу Аллы Тарасовой (удивительно: ничего не знаю о ней). Деловая трусца кошки перешла в аллюр, хотя улыбчивый колли вряд ли что-нибудь замышлял… Еще пара арок, еще один поворот. Смешная девочка на непокорном самокате. Снова старухи. Снова дети. Дом № 12 был, кажется, позади. Из-за крыши соседнего (10-го?) выступил край тучи. Мог пойти снег.
Я не берусь теперь поручиться (эндоастос в силе), что заметил их сразу же, зато сразу подумал, что оба – и он, и она – в черном. Кажется, они шли со стороны Житомирской, то есть навстречу мне. Молодой человек первым привлек мое внимание. Я еще подумал вскользь, что с год или два назад я одевался так же, как он: просторный плащ, шляпа из тех, что бросают тень на лицо, придавая фигуре пустую важность. Даже ворсинки усов (когда я их рассмотрел) были похожи на мои – только теперь я их старательно брил. Он был брюнет – как и я. Он напоминал реньеровского пижона. Не знаю, что думал он обо мне, и тоже не могу поручиться, что оба они не глядели вовсе в мою сторону, но когда они остановились передо мной, то смотрели вниз, под ноги. Что-то в них было не так, хотя и теперь не знаю точно, что именно, – как и вообще не уверен, что существует подходящее слово. Я ожидал, он спросит, который час.
– Не хотите ли ее купить? – спросил молодой человек, слегка мне кланяясь и подымая взгляд. Ни в его тоне, ни в глазах не было и тени шутки.
– Ее?
– Да. Вот эту девушку.
Вечерело. Вопросы из тех, что пришли (толпой) мне на ум, были излишни: я это знал сам. Он не был похож на сводника, она – на проститутку. Речь явно шла о другом. Люди больше говорят, когда их не спрашивают. Это правило не знает исключений. Я кивнул.
– Да. Хочу. – И, стараясь не сменить тон, прибавил: – Сколько?
Он, однако, не удивился. И не стал болтать. Странно вздохнув – не то с облегчением, не то с грустью, – он поклонился еще раз. Я все же не думал, что сумма окажется такой крупной. Решив, что я сомневаюсь (я вовсе не сомневался, скорее нервничал), он сказал:
– Это маленькая цена. Все, что на ней, – он кивнул в ее сторону, – тоже ваше.
Неожиданность мысли (я сразу понял, что мне-то она в голову не пришла) освежила меня. Я достал бумажник. Пока я считал деньги, молодой человек смотрел на мои руки, и, так как прием умолчания на сей раз не удался, я спросил:
– Откуда вы знали, что при мне есть сколько нужно?
– Мне просто повезло.
– Вот как? Занятно. – У меня осталось рублей пятьдесят. – Ну что ж. Скажите тогда, каковы мои обязанности. Так сказать, инструкции к покупке. Они есть?
Он принял деньги и тотчас их спрятал – куда-то в плащ.
– Разумеется, нет, – сказал он. – Раз вы платите, вы хозяин. Впрочем, я не советовал бы вам убивать ее: вряд ли кто-нибудь сможет гарантировать в этом случае вашу безопасность.
В этот миг девушка подошла ко мне. Взяла меня под руку. И негромко спросила:
– Ну? Мы идем?
Это были первые слова, что я от нее услыхал. Молодой человек поднял шляпу. И, легко повернувшись, канул за угол. Тьма сгустилась еще. Мы остались вдвоем. Мы опять остались вдвоем. Кажется, я хмурился и все еще не находил слов. Кое-кто решит, пожалуй, что в данном случае это не важно. Нет, это не так. Тогда это было важно. Это важно даже и теперь. Здесь, как и во всем с некоторых пор, я хочу точности. И подробностей. Они необходимы мне. Они вообще необходимы: на них стоит мир. Поэтому не будем пренебрегать ими. Даже если они займут лишних десять строк. Вот они:
Серый апрельский день. Движение туч к дождю. Перекресток двух улиц. Несколько сот рублей, отданных без торговли. Сделка, которую осудить велит здравый смысл и простое чувство порядочности. К великому сожалению, мне (я, конечно, кривлю душой, я кривлю рот, я вообще кривляюсь), да, к великому, величайшему даже сожалению, мне, о мой читатель (на чью благосклонность рассчитывать старомодно), именно мне – и таким, как я, заметим себе это, – отказано навсегда в даре находить покой на дне колыбели из заповедей и силлогизмов. Мне несносна скука. Мне по душе история человека, который посвятил всю жизнь табаку. Он знал все сорта, а свою страсть объяснял цинически тем, что никотин портит здоровье. Я приветствую его: это прививка цинизма. Из того серого дня, что давно минул, с того перекрестка двух старых улиц в изменившемся много раз с тех пор городе, из-под начавшего исподволь капать дождя, против которого, впрочем, у меня был зонт в сумке, из глубины года – из его середины, виноват, из его первой трети, ведь был апрель, – я приветствую всех, кто читает эту повесть, эту глупую хронику, эту исповедь без конца, о конце которой мне только предстоит еще порадеть. Я приветствую всех, кто попал в мою лодку. Всех глупцов и святош. Всех странников в страну Морию. Всех тех, кто меня слышит. Или не слышит. Просто всех, без разбора. Усопших и живых. Равнодушных и увлекшихся. Далеких и близких. Спящих и тех, кто покинул сон. Словом, всех. Всех. Здесь уже очень уместно равенство. Точность и равенство. Без них нельзя. Никак нельзя. Итак, привет!
– Привет, – сказала Тоня очень устало. – Это опять ты.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?







































