Текст книги "Тайный шифр художника"
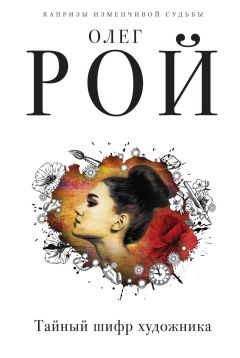
Автор книги: Олег Рой
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Заслушался, – искренне отвечал я, послушно отхлебывая из кружки.
Рассказчик усмехнулся, помолчал и снова продолжил после паузы.
– Я, брат, как после первой откинулся, поклялся, что найду всех тех легавых, что меня с папой прописали на казенные харчи. Точнее, меня-то на харчи, а папаша мой Лаврентия Палыча всего на две недели пережил. Только того к стенке успели поставить, а мой… Темное дело: то ли сам себе путевку к апостолу Петру оформил без согласования с ментами, то ли помогла какая добрая душа…
Угрюмый помолчал, глядя на что-то, только ему видимое. Но я аж поежился – из прищура высверкивало обжигающее ледяное пламя.
– Списочек, что я тебе для знакомства подкинул, тогда еще длиннее был… – говорил Угрюмый. – И я злой был, не слушал никого, навострил лыжи всех легавых положить, в алфавитном порядке. Да не удалось, спекся на самом первом, на гниде этой прокурорской. Мне наводку дали, что будет он на даче с девочками отдыхать… А это рыло мусорское решило, как порядочный, на выходные семью на лоно природы вывезти. Прикинь, вваливаюсь я к нему в субботу вечером с пушкой наперевес, а там вместо шлюх – жена-пианисточка и дочурка белокурая шести годков от роду, чистый ангелочек в белом платьице. Что мне делать было? Расписывать папу-каина при ребенке? Как говорил Мазай, сын за отца не отвечает, а дочь так и подавно. Нет, я ему, конечно, рожу порихтовал, стоматологом поработал забесплатно и, говорят, немного скинул цену ливера, но сильно не уродовал. И то мелкая, хоть и деваха, в меня вцепилась, орет: «Не трогай папу, дурак!» Небось слов покруче и не слыхивала еще, воспитанная. Я плюнул, поздравил мусора пинком под зад и сделал ноги. Далеко не ушел, конечно, тут меня и подмели… Ну что, повторим?
Я кивнул, и Угрюмый жестом подозвал лысенького Толяна:
– Повтори и прикинь на зуб чего-нибудь. Нарезочки какой, того-сего. Ну ты сам наблатыканый, сообразишь.
Толян понимающе кивнул и молниеносно испарился, прихватив пустые кружки, а Угрюмый продолжил:
– Мне Мазай тогда хорошего врача притаранил… адвоката, в смысле. Отмазали меня по максимуму, я даже под дурака косил, дескать, ролики за шарики зашли на почве зажмурившегося папы и последующей отсидки. И прокатило. Восемь лет мне впаяли, да и послали не в строгач, а на усилок, да еще как раз туда, где сам Мазай чалился. У нас там семья нарисовалась – папа Мазай, мы с Байбутом танкисты, Рэмбрандт приблатненный, Гвир общак считал и банчишку метал, Лом мужичил, Тихий кашеварил… Меньшой так, подай-принеси шестерил, это теперь он, надо же, ажно помощник депутата, хрен моржовый… А Апостол нашим штатным кольщиком был.
– Апостол? – переспросил я. – Андрей Зеленцов, что ли?
– Я его не крестил, – довольно резко ответил Угрюмый, – не секу, Андрей он или Фаддей. Да и без надобности мне. Но художником он был отменным… Бог его в глаза поцеловал, так говорят. Гений был Апостол, век воли не видать, всю жизнь зону топтать. Да что говорить – сам глянь.
Он встал и ко мне повернулся спиной.
Без очков я вижу плохо, поэтому до этого только заметил, что у Угрюмого на спине большая таттуировка, но не расмотрел, какая именно. Но тут разве что слепой не увидел бы нарисованную на его теле, от шеи до самых ягодиц, девушку… Нет, ангела. Не кем иным, кроме как ангелом, это создание быть не могло, столь сияющей и небесной была ее красота. Но в то же время и абсолютно живой.
– Это твоя девушка? – спросил я нерешительно, даже с опаской. – Очень красивая…
– Кто? – удивился он. – На плече, что ли? Это матушка моя. Хм. Девушка… Красивая, да. Тоже, кстати, Апостола работа.
Я перевел взгляд на его плечо – там действительно был наколот еще один портрет, изображавший женщину лет сорока, явно похожую на Угрюмого. Нарисовано было мастерски – но лицо куда попроще, хоть и приятное, и выразительное, однако красивым я бы его никак не назвал.
– А на спине кто? – уточнил я.
Угрюмый взглянул на меня с явным беспокойством:
– Грек, ты в парилке, случаем, не перегрелся? Не с одной же кружки пива тебя эдак развезло, что бабы везде мерещатся? На спине у меня церквуха, ты что! Храм Христа Спасителя, тот, что большевики взорвали.
Глава 5. Настоящее Искусство
Угрюмый выволок меня в моечную, заставил принять контрастный душ, а потом притащил в раздевалку. Я, как за спасательный круг, схватился за свои очки, нацепил их и вновь посмотрел на его спину.
Да, татуировка действительно изображала храм Христа Спасителя, взорванный в начале тридцатых годов. Сейчас его вроде бы собирались восстанавливать, даже закладной камень возле бассейна поставили. Изображение на спине Угрюмого отличалось буквально фотографической точностью, но… Я видел снимок, где храм был почти таким, как на татуировке. Но там он был полуразрушен, как будто фотограф документировал снос (не одним же взрывом уничтожили такую махину). На спине же Угрюмого все было наоборот – храм не то строился, не то реставрировался. Хорошо были видны центральный и один из боковых куполов, еще два купола стояли как бы в лесах, без крестов. Храм был запечатлен со стороны Москвы-реки, и я даже разглядел несколько фигурок, подымающихся к нему по лестнице от Кропоткинской набережной.
Но почему мне вдруг померещилось девичье лицо? Да и померещилось ли? Даже когда я рассматривал татуировку «вооруженным глазом», стоило сморгнуть – и сквозь купола и пилястры проступал ее лик. По-ангельски светлый и по-человечески печальный. И уж точно ничуть не похожий на портрет матери Угрюмого.
Нечто похожее я видел в каком-то из журналов, то ли в «Науке и жизни», то ли в «Знание – сила». Назывались они вроде бы перевертышами или оптическими иллюзиями. Смотришь на рисунок – и видишь то ли чашу, то ли два профиля или то ли старуху с крючковатым носом, то ли отвернувшуюся молодую женщину. Но изображение на спине Угрюмого не шло ни в какое сравнение с картинками в журнале – это было настоящее произведение искусства…
В дверях возник лысенький Толян с нашим заказом, сделанным еще в бассейне. В мгновение ока он расставил бокалы, тарелки с закусками и все так же безмолвно испарился. Ну как есть джинн из восточных сказок. Правда, у джиннов не бывает фартуков, да и денег они, кажется, не берут, а Угрюмый сунул в предусмотрительно оттопыренный карман зелененькую бумажку.
– Слышь, Грек? – внезапно нахмурился он. – Может, зря я тут распинаюсь…
– Да ты что?! – очень искренне возмутился я. Мне и вправду безумно хотелось услышать продолжение истории. – Ты думаешь, я…
– Если б я так думал, тебя бы здесь не было, – мрачно констатировал Угрюмый. – Ты пацан правильный, нутром чую. И ты, Грек, сердца на меня не держи, я всю жизнь один, верить никому не привык. Не верь, не бойся, не проси. Слыхал небось?
Я молча, но выразительно кивнул.
Видимо, на моем лице читалась нужная пропорция интереса и сдержанности, ибо Угрюмый, прихлебнув пива, продолжил рассказ:
– В общем, братуха, в шестьдесят третьем чалился я по второй ходке. Зона была мордовская, не Сочи, конечно, но и не Норильск какой-нибудь вечномерзлотный. А по порядку и вовсе чисто курорт. Усилок, конечно, но правильный, не красный, не козлячий, все по понятиям. И компания подобралась что надо, во главе с Дедом Мазаем.
– А что он был за человек, этот художник, как вы, то есть ты его назвал? Апостол? – мне почему-то это было особенно интересно.
Угрюмый на время застыл с кружкой в руках, глядя, будто сквозь стену.
– Что за человек, говоришь? А кто его знает… Я так сам до конца и не раскусил. Когда первый раз его увидел, решил, что лох лохом. И погоняло у него было божественное, потому что он не от мира сего, как сказал Рэмбрандт, который с ним вместе к нам в хату попал. Ну да нам-то что до него за дело? Мы ж не беспредел и не малолетки, чтобы салагу прессовать. Так что зажили спокойно-дружно, все чин чинарем. Мы к нему, Апостолу то есть, не лезли, и сам он все больше молчал, сидел тише воды ниже травы. Но вел себя по правилам. Малявы, то есть посылки, ему приходили часто, так он сам, без предъявы, нес все в общак. А там чего только не было! И белье хорошее, да не наше, а забугорное, и чай индийский, и галеты импортные, и мясо сушеное, и табак, да какой! Уж на что Мазай был тертый пахан, видал и Крым, и Рым, и прочие достопримечательности, а и то говорил, что отродясь такого табачка не тянул. Но, кроме передачек тех, Апостол ничем и не светился. До тех пор, пока кой-чего не приключилось.
Была у меня фотка матушки моей покойной, небольшая такая, шесть на девять. Хранил я эту карточку под подушкой, берег как зеницу ока. Да только не сберег. Полаялся с вертухаем одним, гнида он был редкостная… Так это быдло краснопогонное, живого ежа ему в ливер, знаешь как мне отомстил? Устроил шмон на хазе, достал карточку мою и сжег, падла, прямо у меня на глазах. До сих пор его харя вонючая у меня перед глазами стоит, точно в замедленном кино – как он лыбится, пока из кармана зажигалку вытягивает, как чиркает, как к уголку карточки огонек подносит… Кинулся я, конечно, на него, да удержали. А когда я расшвырял всех, уже и поздно было. Сгорела матушка моя дотла.
Угрюмый сделал большой глоток пива и на мгновение отвел взгляд.
– В общем, закопать я этого вертухая тогда не сумел, упекли меня в карцер. Я не в себе был, все орал, что зажигалку его ему в жопу затолкаю стыковочным методом. В холодильнике, конечно, увял, но все равно решил, что мочкану урода. Вот как откинусь, так сразу и порешу. Знаешь, Грек, мне без той фотки жизнь сразу протухла, как вчерашний борщ на жаре. Вот странная штука – пока у меня фотка была, я как-то не особо на нее и смотрел. Довольно было, что она у меня есть. А как вспыхнула она и опала пепелком на пол – так словно все нутро мое так же сгорело и пеплом рассыпалось. Будто жизнь моя кончилась вместе с тем огоньком, что матушкину фотку поедал…
Он снова глотнул пива и помолчал. Молчал и я, чувствуя, что в данный момент любые слова будут неуместны, но понимая, что на этом рассказ явно не окончен. И оказался прав.
– Пока я в карцере парился, вертухая этого спешным делом в другое место перевели, в Узбекистан, на солнышко, – продолжил после долгой паузы Угрюмый. – Не спасло это его, я его и там нашел, когда откинулся… Ну да не об том речь. А о том, что вернулся я в хазу, сел на шконку, в стену вперился и сижу, как в столбняке. Сколько просидел, не знаю. Мазай со мной заговаривал, но я даже не помню, о чем. Потом остальные с пахоты приперлись, потом на ужин повели. Я свою пайку даже не попробовал, покрутил ложкой да отставил. А как вернулись в барак, подходит ко мне Апостол.
Тут Угрюмый глянул на меня и вдруг заметил:
– Глаза, кстати, у него были прям как у тебя. Только и того, что без очков. Он всегда так же исподлобья смотрел, как бычок. А говорил тихо-тихо, и голос у него был глухой, точно бесцветный. Сел он рядом со мной на шконку, на меня не глядит и говорит этим своим бесцветным шелестом: «Я тебе ее нарисую».
Я сначала вообще не допер, о чем он. А он повторяет: «Нарисую портрет твоей матери».
И такое меня вдруг зло взяло… «Что ты нарисуешь, гитару на стенке?!» – ору.
Апостол отшатнулся, но смотрит упрямо, ровно так, без страха, хотя когда я быкую, и не такие в штаны накладывают. Гляжу, подходит к нам Рэмбрандт и заявляет: «Пацан дело говорит, Угрюмый». И зыркнул на Деда Мазая, Дед сперва на меня, потом на Гвира. А тот уж тащит карандаш с бумагой.
Угрюмый сделал еще один глоток:
– Прикинь, Грек, тридцать лет водой смыло, а помню так, будто вчера. Взял, значит, Апостол тот огрызок карандаша, взял листок, который ему Гвир из блокнота выдрал, а я на руки его смотрю, глаз отвести не могу. Пальцы у него были длинные, как у пианиста, но сильные, мужские. Он листок на край шконки положил, на голую доску и стал малевать… Вот не поверишь, Грек, минуты не прошло, как мы все вокруг него, как сопляки вокруг мамки сидели и смотрели. Он малевал так, как лабух в филармонии симфонию лабает за большой пианиной. Я тогда в жизни уж разного видал: баб красивых, бабла немерено, стволы, перья и прочую годноту, но такого, как этот Апостол рисовал… Как Рэмбрандт сказал, «не от мира сего». Вот ведь глянешь на него – обычный хмурый лох, таких на каждую зону вагон с прицепом. А когда он малевал, ты себя чувствовал так, будто нет вокруг ни стен, ни решеток, ни колючки, ни легавых с «калашами»… Будто жизнь не из дерьма состоит, а есть в ней и вправду и свет, и добро…
Я с удивлением глянул на Угрюмого и заметил у него в глазах… слезы! Выходит, плачут не только богатые в телевизоре, но и урки со стажем тоже так могут. Никогда бы не поверил, что такой, как Угрюмый, способен плакать, как обычный человек – не выть от боли, не материться от злости, а плакать, вспоминая, как кто-то рисует. Рисует!
В тот момент я решил, что слезы Угрюмого – воспоминание о первой встрече с Настоящим Искусством. Ясно, что это должно было стать потрясением. Но довольно быстро – стоило чуть-чуть поразмышлять – я понял, что дело тут совершенно в другом. Угрюмый, как ни крути, был не безграмотный пацан-беспризорник. Дом полковника НКВД – не сарай, где тупой дикарь в фуражке с синим околышем каждый вечер глушит водяру, вспоминая свои «подвиги» в подвалах Лубянки. Такие тупые монстры в системе, несомненно, были (кого там не было – так это белых пушистых кроликов), но достаточно копнуть документы (а я все-таки архивист), чтобы понять, что образованных людей хватало и в этой среде. И детей своих они воспитывали, может, и в строгости, в чем нет ничего дурного, но не в тупости. И в Третьяковку водили, и в прочие музеи, благо жили в Москве.
Так что Угрюмый в тот давний вечер, с которого пролетело добрых три десятка лет, потрясен был не «открытием искусства». Там, на нарах мордовской колонии, он оказался свидетелем истинного чуда творчества гения. А мои банальные размышления об «открытии искусства» сродни стереотипу, что, мол, все, кто оказался в зоне, – сплошь примитивные чудовища, дебилы и выродки рода человеческого. Не всегда это так. Ох, не всегда. Разные они. Да и законопослушные граждане порой бывают гораздо более страшными монстрами, чем реальные убийцы.
– Короче… – начал было уже успокоившийся Угрюмый, но тут, прямо по закону подлости, запищал его пейджер. Чертыхнувшись, он взглянул на экран и нахмурился:
– Не выйдет у нас, Грек, толковища, – буркнул с досадой. – Дельце одно нарисовалось, придется мне срочно срываться. Одевайся. Или ты еще поплескаться думаешь?
– Нет, я с тобой, – отвечал я и, видимо, не ошибся – Угрюмый одобрительно кивнул.
Пока я одевался, он сунул пейджер в борсетку, оглянулся по сторонам, вытащил перетянутую резинкой пачку купюр и передал ее мне, улыбнувшись:
– Ты про бабло-то, поди, и забыл с моими сказками. Эх, Грек, местами ты такой лох, аж смешно. Держи и ныкай поглубже, пока нас не секут. Тут три косаря, все честь по чести.
Такого я совершенно не ожидал и здорово обалдел. Пусть мой работодатель и озвучил предварительно сумму, но я до последнего не был уверен, что мне заплатят такие деньги. И уж тем более не ожидал, что расчет будет произведен сегодня и сразу полностью.
Видимо, догадавшись, о чем я думаю, Угрюмый хлопнул меня по плечу:
– Что варежку-то разинул, Грек? Давай прячь бабло, и двинули. И учти, терки наши не закончены, дела еще впереди могут быть. Так что черкни-ка мне свой номерок, чтобы я знал, где тебя искать.
Я записал ему в блокнот номера своих телефонов, и домашнего, и рабочего.
Посреди лестницы Угрюмый вдруг остановился, будто вспомнил о чем-то, и после короткой паузы проговорил:
– Чудно, право… Обычно я никогда ни с кем о себе не треплюсь. А тебе вот столько рассказал без стрема. Черт знает, почему…
Дальше мы шли молча до самого такси, благо этого добра у Сандунов всегда хватало. О чем-то коротко переговорив с водителем, Угрюмый обернулся ко мне:
– Ну, бывай, Грек. Надеюсь, скоро стакнемся.
А потом, крепко пожав руку, добавил:
– Береги себя.
– И ты себя береги, – ответил я, пожимая его жесткую, точно судорогой сведенную ладонь.
После полуголодных, почти нищих последних лет лежавшие во внутреннем кармане три тысячи баксов заставляли меня чувствовать себя буквально миллионером. Впрочем, так оно и было, если считать в рублях: курс уже подбирался к восьмистам деревянных за доллар, так что мой нынешний заработок можно было при желании превратить в два с лишком миллиона рублей. Но желания такого у меня, разумеется, не было: я, может, и странный, но не идиот, а только идиот станет сейчас менять зелень на неуклонно падающие рубли.
От одной мысли, что и сколько я могу позволить себе на такие деньги, голова шла кругом. Машину, причем не только «Жигули», а даже иномарку, поездку за границу, собственный бизнес… Но, поразмыслив, я решил, что с крупными тратами лучше подождать. Так что две тысячи я заныкал подальше, а на мелкие расходы тысячи хватило, что называется, за глаза. Я притащил домой несколько битком набитых сумок с едой, приоделся сам и свозил маму в Лужу – на рынок в «Лужники», где мы купили все, что ей понравилось, а также два хороших спортивных костюма и новый плед для отца, и в завершение приобрел новенький японский телевизор взамен нашего, доживающего уже последние свои дни, дряхлого черно-белого ящика.
Я надеялся, что такая обновка порадует отца, но просчитался. Как я уже говорил, родители вообще не одобряли моих левых заработков. Благодаря Невзорову и ему подобным внезапное улучшение нашего финансового положения пугало их чуть ли не больше, чем нищета. Как, наверное, все люди старого закала, они были твердо уверены, что большие деньги неразрывно связаны с большими неприятностями. Я с самого начала пытался объяснить, что у меня есть «крыша», так что не стоит беспокоиться, – но, разумеется, без толку. Само понятие «крыша» было в глазах моих родителей чем-то непристойным – ведь это же бандиты, разве может приличный человек иметь дело с бандитами? Да и доверять бандитам ни в коем случае нельзя. Сегодня они тебя крышуют, а завтра пристрелят или взорвут – вон сколько об этом пишут в газетах и говорят по телевизору!
В общем, по логике моих предков, нужно было держаться от любого бизнеса (бывшего для них синонимом криминала) как можно дальше. Интересно, что бы мы в таком случае ели? Впрочем, в их возрасте менять установки тяжело, почти невозможно. Мне их было, в общем, жалко. Они ни в чем не были виноваты, они честно трудились всю жизнь и ожидали, что по завершении трудового пути их будет ждать обеспеченная и защищенная старость. Но все перевернулось и разлетелось в клочья. Скопленные за много лет сбережения сгорели на сберкнижках, пенсий хватало разве что на хлеб, новости, раньше полные неправдоподобно бодрых рапортов о перевыполнениях плана и досрочных сдачах, теперь, кажется, специально создавались с установкой «все плохо, а дальше будет еще хуже» – все это не добавляло не только оптимизма, но даже простенького спокойствия.
Новенький телевизор стал чем-то вроде последней капли. Смотреть-то отец его смотрел и лично мне никаких особых претензий не предъявлял – на это его терпения пока хватало, – но прочей окружающей действительности доставалось на орехи. Каждый вечер папа, кипя от возмущения, пересказывал мне услышанные за день новости и никак не мог успокоиться.
– В стране черт знает что творится! – бушевал он. – В Перми какого-то прокурорского генерала средь бела дня застрелили в туалете ресторана. Причем киллер настолько ничего не боялся, что еще и прикурил у его охраны. А те даже не помнят, как он выглядел. Очень характерно. Куда страна катится?! А у нас в Москве помощника депутата Шевченко на заводе стройматериалов спустили в камнедробилку. Следователи говорят, хорошо, голову сразу оторвало, хоть опознать смогли. «Хорошо», ты понимаешь?! Перемололи человека в кашу, а они говорят – хорошо!
Обычно я пропускал отцовские монологи мимо сознания, но тут сразу навострил уши:
– Как, ты говоришь, фамилия помощника депутата? – На память отца я полагался, как на свою. Даже перенесенный инсульт ее не повредил. Похоже, способность запоминать всякую всячину у меня заложена на уровне генетики, мама на память тоже никогда не жаловалась и каталогом в своей библиотеке почти не пользовалась.
– Как у украинского поэта, Шевченко. – Отец нахмурился, как будто насторожился, – Павел Владимирович вроде…
– Вадимович, – машинально поправил я, тут же припомнив даже кличку бывшего сокамерника Угрюмого – Меньшой.
– Ты его знаешь, что ли? – В голосе отца послышались нотки уже явного подозрения. Вот я дурачина, кто меня за язык тянул?
– Слыхал где-то, – соврал я. – Или читал, что ли. Кажись, в какой-то газете писали, что помощников депутатам надо бы тщательнее отбирать, у него вроде две судимости было.
– Одна, – поправил отец. – По молодости. Но снятая давно, он сидел еще в шестидесятых… – Папа покачал головой. – Темнишь ты что-то, Фаня…
Вот терпеть не могу, когда он так меня называет. Да и вообще – наградили имечком! Какой из меня Феофан Грек! Я не то что икону, я кошку-то толком не нарисую. А если попробую, несчастная животина будет похожа на кого угодно, от бегемота до крокодила, но только не на кошку…
В записи свои я все-таки заглянул. Как и в газету с криминальной хроникой за неделю. И окончательно убедился, что погибший помощник депутата Павел Вадимович Шевченко и сидевший в мордовской колонии зэк по прозвищу Меньшой, самый юный из той веселой компании, моложе даже Апостола – на момент ареста Меньшому было всего девятнадцать, – одно и то же лицо.
Еще один человек из списка Угрюмого мертв.
Не просто мертв – изувечен. Но, что странно, не до неузнаваемости. Как будто убийца специально заботился о том, чтобы жертву опознали. И с телом Мамазяна обошлись так же. Хотя там, конечно, вопрос опознания не стоял. Но если не для затруднения опознания, зачем уродовать тела? И кому это вообще могло понадобиться? Первой, конечно же, приходила в голову мысль об Угрюмом, который разыскал с моей помощью своих сокамерников и теперь расправляется с ними, возможно, за что-то мстит… Да, Угрюмый действительно из тех, кто годами может вынашивать планы мести и ни за что от них не откажется. Но подобное объяснение не вяжется с его отношением к Деду Мазаю, которого он, как я был уверен, и безгранично уважал, и даже любил. Хотя… А что, если все это было враньем, спектаклем для единственного зрителя в моем лице? Может, Угрюмый – гениальный актер, а я – доверчивый лох? И он сам, по своим каналам, как-то вышел на Мазая, убил, надругался над телом, а потом на голубом глазу пришел ко мне с полным списком, чтобы найти остальных, кого он еще не разыскал? А получив от меня информацию, продолжил расправляться по списку… Так, а когда убили господина Шевченко?
Я взглянул на дату в газетной статье. Все произошло восьмого апреля. Восьмого, а Угрюмый отдал мне список девятого. Девятого, когда ни Мазая, ни Шевченко уже не было в живых. Как и еще одного из «великолепной семерки», Байбута, которого пристрелили полгода назад. И даже если, предположим, там обошлось без Угрюмого и он о Байбуте ничего не знал, все равно список из пяти имен был бы короче – а значит, и дешевле. С какой стати Угрюмому так мне переплачивать?
Зазвонил телефон, отец снял трубку и крикнул:
– Сынок, это тебя!
Я подошел к аппарату в своей комнате, у нас их было два еще с советских времен – один у меня, другой на кухне.
– Алло!
– Здорово, Грек! – услышал я знакомый голос. Правду говорят – помяни черта, он сразу появится. Мне опять внезапно вспомнилось предсказание цыганки.
– А я тут трубой обзавелся, – прохрипело в трубке сквозь шипение и треск. – Запиши номер.
– Поздравляю, – откликнулся я.
Я и сам мечтал о мобильнике, этом чуде техники, казалось, пришедшем к нам из будущего. Разве не здорово всюду носить с собой телефонную трубку, по которой можно звонить даже с улицы? Но стоила такая роскошь чуть ли не штуку баксов, и позволить ее себе могли только «новые русские» в малиновых пиджаках. Правда, с недавних пор и я тоже мог себе позволить… Но пока не решался, да и смысла не видел. Я ж почти все время проводил на работе, где телефон был под боком. Да и моих коллег по архиву наверняка кондратий бы хватил, увидь они меня вдруг с мобилой в руках.
– Записал? – уточнил Угрюмый. – Молоток. Ну что, пацан, еще подзаработать хочешь?
– Спрашиваешь, – хмыкнул я.
– Тогда завтра, часиков в семь, подвали в кабак «Времена года». Знаешь, где это?
– Да, в Нескучном саду.
– Ну тогда бывай.
И Угрюмый тут же отключился. Минута разговора стоила полтора бакса, и мобильная связь была весьма дорогим удовольствием. Даже для Угрюмого.
Этот звонок заронил в душу ростки надежды. Раз Угрюмый не просто назначил новую встречу, но и дал мне свой номер, значит, я ему еще нужен. А раз так – хочется верить, что избавляться от меня он не собирается. Во всяком случае, пока.









































