Текст книги "Жизнь прес-мы-кающихся. Сборник рассказов"
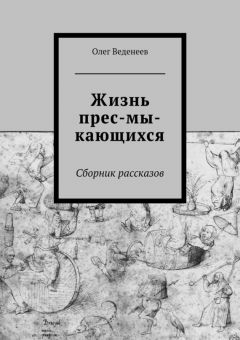
Автор книги: Олег Веденеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Исповедь
Я люблю этот храм. Он стоит на горе, на самой высокой точке в округе, откуда открывается великолепный вид: с одной стороны, на заснеженные поля, по краю которых виднеется темная полоса далекого леса, с другой – на деревеньку. Природа этого края скромна до аскетизма. Да и человек за прошедшие столетия сделал все, чтобы свести на нет березовые рощи, выловить рыбу в реке, катящей за холмом свои тяжелые медленные воды навстречу Волге. В последние годы в деревне растет яркой ягодной порослью коттеджная застройка. Мухоморно-карминовые, лазурные, салатовые, охряные, «бедра испуганной нимфы» и «жженого кофе» стены и крыши новостроек смотрятся отсюда, с высоты, цветными пятнами стекляшек старого детского калейдоскопа, вываленными в серую, гармонично-аутентичную действительность. Экономную красоту природы быстро заменяет эстетика свалки, но все же вид с холма на деревню, шестьсот лет носящую имя татарского царевича, когда-то разбивавшего тут бивуак со своей бандой по пути от одного разграбленного населенного пункта к другому, греет мне душу чем-то безнадежно родным. Как пестрый бабушкин платок.
Храм легкий. В отличие от древних, намоленных, выстоявших в годы богоборчества, с пропитанными мУкой давящими каменными сводами, эта церковь на горе – новая, построенная по образцу древних русских «кораблей». По теплому срезу дерева, по шероховатой поверхности сруба взмывают невесомые высотные доминанты. Первая – честный параллелепипед, огромным спичечным коробком встающий за затейливо резным крыльцом, разрывается вдруг пустотами с повисшими, звонкими от мороза колоколами под дощатой, запирающей небо в колокольне крышей. Вторая, точно позади первой, растет из стен шестигранником, сужается кверху зеленой жестью и сходится в золотую маковку купола. Есть еще третья – луковка на бочке, стоящая на «корме», в одном ряду, как капитанская рубка за двумя «мачтами» храма-корабля, увенчанного горящими на солнце православными крестами. Сюда приходят люди, их следы видны повсюду. Они ежедневно старательно убирают снег, лишая духовный парусник его физически зримых волн, и тогда небо подергивается бесплотной пеленой и в бесплодной борьбе с людским рационализмом подсыпает новые порции снежной каши.
Храм маленький как будто детский. Минуешь корабельный нос с двойными шлюзами-дверьми (меж них живет смиряющий гордыню женского пола склад косынок и юбок до полу) и попадаешь в длинный, светлый в четыре окна холл, предваряющий залу у деисуса. Справа – общая вешалка для верхней одежды, скромные лавки и столик для желающих вписать имена покойных и болящих сродников в поминальные списки. Замечаю приметы времени: по бревенчатым стенам цивилизация шьет свои правила белыми уродливыми стежками проводов, кровит утробу тела-храма красным щитком пожарной сигнализации. Сразу за крайним окном в углу справа – огромная облитая золотом икона целителя Пантелеимона, рядом берестяная – Николая Угодника. Слева – прилавок, где принимают требы, меняют на деньги иконы, свечи и календари. Дальше – Распятие. Все близко, рядом, только руку протяни! Из глубины полукруглой залы глядят лики святых, Богородицы, Иисуса Христа. Добрые глаза вечности блестят белками – искрят позолотой утвари, подмигивают горящими свечами. Кажется, что в напоенном дымным ароматом воздухе спрессованы тысячелетия. Звучит древний язык богослужения, понятный интуитивно, хотя и не до конца. Язык предков, который здесь не барьер на пути смысла, а мостик в родное, где тебя, безусловно, ждут, где тебе рады всякому. Главное, прийти.
Крещеный, но не воцерковленный. Это обо мне. Я ничего не знаю о правилах, кроме самой малости, подсмотренной случайно, забравшейся в память впрок, помимо воли. Она из тех времен, когда в доме моей покойной прабабки стояла в красном углу крохотной кухонки огромная, украшенная розами из фольги икона Николая Чудотворца, которую я, маленький, побаивался.
Юркая старушка делает знак, и я склоняю голову, подражая тем немногим богомольцам-прихожанам, стоящим рядом. Потом быстро отхожу от стены, освобождая дорогу молодому батюшке, щедро раздающему дымные ароматные облака. …Солея, аналой, клир, причт, амвон, камилавка, епитрахиль – цепочка красивых старинных слов (значение большей их части мне неизвестно) всплывает прошлогодними листьями со дна взбаламученной памяти и ранит осколками полузнаний – свидетельством моей позорной церковной полуграмотности. Мне сложно, я не знаю, как спросить, не понимаю желаний других. Поэтому общаюсь знаками («Пройди сюда, зажги тут»). Я сейчас на одном уровне с этим трехлетним, шатающимся вокруг мамкиной юбки. Он прячется за край материи и улыбается мне, смешно загибая свой игрушечный пальчик. Может, его устами сейчас улыбается сам Господь Бог? Почему-то вспоминаю, как малыши делают в сугробе «снежных ангелов»: падают на спину и водят руками, печатая взмахи несуществующих крыльев. Я тоже когда-то давным-давно…
Пожилой мужчина с окладистой бородой с трудом встает на колени. Крестясь, касается лбом пола. Вижу полу его застиранной фланелевой рубахи в крупную клетку, и иллюзия моей сопричастности мгновенно разрушается. Да! Я не понимаю смысла происходящего! И не хочу больше обезьянничать! («Смущаюсь? Неудобно? Ну, что делать… Кто виноват?») Мне хотелось бы стать пылинкой, незаметно впитывающей в себя благодатную атмосферу, но нет – я довольно крупная особь и «дергаюсь», боясь сделать ошибку, подпинываемый вечными русскими вопросами.
Это неправда, что в храм ходят только старые и больные. Когда сегодня я приехал в половине восьмого утра, за полчаса до начала службы, черным, зимним, морозным утром, у ограды (деревянной, теплого цвета) уже грелся маленький автомобильчик. Его закутанной в платок невысокой и хрупкой водительнице (вот она стоит справа от меня, опустив глаза) на вид не больше двадцати. Не могу представить себя в ее годы, пробирающимся в церковь по темной заснеженной трассе. Что она просит у Бога? …Похоже, любой носит в себе боль, до поры не подозревая о ней, пока не набухнет фурункул, и звенящее страдание не потребует внимания.
Служба продолжается, в храме прибывает людей. Я знаю, что ближе к концу (к причастию) пойдут потоком родители со своими чадами, и станет тесно. Но это неважно. Я здесь для того, чтобы исполнить задуманное. «Кто к исповеди?» – раздается молодой голос, и я понимаю, что время пришло. Справа от царских врат в стене открывается дверца, священник занимает уголок на солее. По ступеням к нему уже поднимается бородач во фланелевой рубашке. На клиросе поют, заглушая звуки негромкой речи. Охраняющая тайну исповеди воздушная и звуковая волна условна, и меня это смущает. Молодой батюшка с едва пробивающейся бородкой в чем-то убеждает старика, и тот кивает. Толпа двигает меня вперед, ближе к ним. Мне отсюда еще не слышно, но там, где люди прикладываются к мощевику, уже возможно расслышать каждое слово. Каяться прилюдно? Как это по-русски, когда любая тайна секрет Полишинеля! Может, стоило как Родион Раскольников? Так ведь примут за пьяного… В мире ничего не меняется. Прогресс штука относительная. В церкви это понимаешь особенно остро.
Люди вдруг расступаются. Я чувствую, что тот, кому дают дорогу к алтарю, вовсе не жаждет этого. Он смущен повышенным вниманием к своей персоне. Плотный немолодой седой человек, бывший мэр, адвокат. Приехал с внуками – двумя белобрысыми пацанами. Диакон в сияющем облачении расплывается в улыбке. Но исповедующий молодой батюшка, к моей вящей радости, не реагирует на сильного мира сего. Значит, есть вещи и поважнее…
«Исповедники?» – слышу. По ступеням вверх поднимается хрупкая девушка, замеченная мною в начале службы. Рассказывает. Сбивается. О чем они там говорят? Толпа придвигает меня к самой иконе, крещусь и целую мощи святой Матроны Московской. Верую! И стыдной радостью радуюсь тому, что «не слышно»! И отсюда слов не разобрать! Но теплое чувство от сокрытия сокровенного сменяется страхом… Моя новая хрупкая знакомая в слезах, почти в истерике, принимает благословение, целует крест. Ей помогают спуститься. Какие же грехи заставляют так биться это хрупкое двадцатилетнее сердце! И что же тогда будет со мною?!
– Есть исповедники?
– Есть! – говорю, делая неуверенный шаг вперед и вверх.
Странно, но звуки здесь не те, что внизу. Я слышу все, но иначе, и этот сложный акустический эффект, возможно, есть следствие присутствия моего визави. Батюшка. Странно думать так о человеке, который сильно младше меня, но всеми формальными признаками (одежда, приличествующая сану) и неформальными (честный прямой взгляд, светлые глаза) отделен от меня, грешного мирянина. Значит, батюшка. Но все-таки язык не поворачивается назвать его отцом, поэтому говорю нелепо простое:
– Я никогда не делал этого прежде. Мне нужна помощь.
Кажется, он кивнул. Слушает.
Исповедь. Ведь это не игра или формальность, не плачь в жилетку, не сеанс психотерапии, не способ выявить вольнодумство как когда-то при царях. Моя болезнь застарелая, я даже не знаю, как выглядит выздоровление. Несколько поколений моих ненабожных предков рассматривали веру как часть культуры типа ансамбля ложкарей. Или, может быть, узды для обуздания страстей, рационально полагая, что устоявшийся порядок вещей лучше хаоса, и в то же время, посмеиваясь над жеребячьим сословием, но генетически, на задворках подкорки, все-таки держа вероятность чуда (а вдруг!) И тут я со своим фурункулом в надежде истечь гноем… Зачем я здесь!? Потому что верую? Потому что хочу использовать все возможности (снова «а вдруг!»)
Как ему это объяснить? Есть же какие-то формулы, дай зацепку!
Но он молчит и слушает.
– Грешен! – говорю. – Грехов много. Главный – гордыня, мать всех пороков. (Себе молча: «Где же я вычитал это?» Ему мысленно: «Христа ради, не молчи!») Завидую много. Прелюбодействовать случалось. Но не убил никого. Смертных грехов вроде нет…
– Чужое брали?
Ну, наконец-то, спросил! Смысл вопроса доходит до меня не сразу, так я радуюсь началу диалога. Быстро признаюсь, что в детстве воровал мандарины (дело давнее). Кое-что заимствовал из магазинов самообслуживания. Но все по мелочи и относительно безобидно, хотя теперь, конечно, раскаиваюсь.
– К колдунам, магам ходили?
Я мотаю головой, пытаясь вспомнить: а может было? И вдруг понимаю, что волшебство поэзии и прозы (вот ведь!) отчасти попадает под названный критерий. Мой многолетний профиль: рождать слова и смыслы, вкладывая их в уста руководителей, дурачащих чужим красноречием население. Что это, если не волхвование? Ведущий ведун пресс-службы, ведьмак орготдела, белый шаман пиара! С утра работаю на губернатора, даря ему эмоциональные речи, вкладывая в уста свои ершистые анекдоты. В обеденный перерыв (только ради денег!) кормлю с руки крохами смысла наших безголосых сенаторов. После полудня бросаю уголек своей фантазии в топку красноречия главного законодателя, чтобы потом (ай да я, безвестный герой с приставкой анти-) погреть руки на феерических гонорарах. Слуга лицемеров! Мастер масок! Днем улыбаюсь, пресмыкаюсь и нежусь в лучах их тварной славы, а когда сгущается тьма, надеваю капюшон псевдонима и строчу статьи (говорят, талантливые) в оппозиционные издания, разоблачая и клеймя, благо аргументов и фактов под рукой уйма, сами заказчики и приносят, чтобы понимал не только генеральную линию, но и расстановку сил. И весело и страшно наблюдать потом, как они ищут источник «слива», осторожно интересуясь моим компетентным мнением… Когда совсем припрет, глубокой ночью сажусь в машину и ношусь оглашенным по встречке, смывая тошноту жизни потоками адреналина… Вон бывший мэр мелко крестится. Ой, как много я про него знаю! Помню его молодым, двадцать лет тому назад, в белом плаще, белой шляпе, белом шарфе, на белом Форде Скорпио (новая модель!) Некому тогда еще было объяснить, что мэр миллионника не черный рэпер… Я как копилка с дерьмом. Творческая единица, ушедшая с головой в дебри региональной политики. Иной гордился бы, я ужасаюсь!
Как же сказать ему это все и сразу, вывалить и покаяться?
Открываю рот, и в голову лезут куколки Вуду да воспоминание далекого детства, когда, в попытке вылечить зарождавшуюся миопию, я был оплеван водой изо рта старухи, по ветхости принимавшей клиентов на полном икон дому.
– Грех это большой! – говорит священник. – Грех!
Я разочарован.
– А еще, – говорю. – Я алкоголик (это неправда).
В его честных глазах загорается знакомый мне ученический огонек. Батюшка начинает говорить штампами, наверное, созданными когда-то такими же, как я, пройдохами. Учит трезвости в темпе вальса: клише-клише-штамп. Как он сейчас похож на мою потасканную клиентуру, разве что абсолютно искренен! Верует. Не буду его разочаровывать. Все-таки я почти в два раза старше.
Сзади очередь. Надо торопиться.
– Простите! – говорю, извиняясь за ложь.
– Молитесь утром и вечером!
(Едва не вырывается подлое «Натощак?»)
Он накрывает мне голову, читает молитву, потом я целую крест и спускаюсь к людям, в мир.
«Причастники!» Сначала дети. Мэр приподымает внука, и тому достается ложечка вина с частицей просфоры. Замечаю, что священник улыбается, выделяя бывшего градоначальника, также как это ранее уже делал его помощник. Вдруг вспоминаю, что экс-мэр в числе попечителей (его имя выбито на мраморе у двери) и корю себя за то, что не сдержал мысль, привычно мостящую благими намерениями известную дорогу. …Раскаялся. Прощен.
«Чего ты ждал? – говорю себе. – Духовника? Наставника? Какой совершенной форме следовало явить себя, чтобы удовлетворить твои извращенные ожидания? Не хватило удара молнии, испепеляющей твои грехи, пришибающей того беспокойного бесенка, который стрелял глазами в хрупкую двадцатилетнюю (было же!), искал изъяны во внешности степенного старика, уязвлял молодостью священнослужителя?»
– Ваше имя?
Представляюсь.
Священник подносит мне чашу, иподиакон осторожно подхватывает материей мой подбородок. Ощущаю во рту привкус вина и отхожу в сторонку – схожу на берег, чтобы не мешать другим пассажирам храма-корабля. Дальше плыть самому.
На крыльце, оставленном три часа назад ночному мраку, меня встречает яркое зимнее солнце. Оборачиваюсь и, прежде чем надеть шапку, осеняю себя крестным знамением.
И пусть я прежний гнилой псевдоинтеллигент. С фурункулом. Не знаю, чем это объяснить, но мне, правда, стало легче.
Пегас
Согбенный человечек с красными глазами лихорадочно колотил двумя пальцами по клавиатуре. Ему было не так много лет, чтобы показаться старым, но и молодость его давно уже осталась позади. Человечек был лохмат, небрит и неопрятен тем особым видом глянцевой неряшливости, которая обнаруживает себя идеально выутюженными джинсами и яркими свитерами на фоне всеобщего доминирования костюмов и галстуков. Он спешил и нервничал, иногда начиная быстро-быстро моргать. Губы шевелились, помогая языку выталкивать в пространство новорожденные фразы. Плечи поднимались и опускались. Казалось, все его тело ходит ходуном. Ноги ерзали под столом: когда он задумывался, правая голень, перехваченная ладонями, быстро влезала на колено левой ноги, создавая позу полулотоса, чтобы через секунду спрыгнуть обратно на пол. Центром притяжения его маленьких глазок, спрятанных под очки с толстенными линзами, был монитор компьютера, где скакали друг на друге, совокуплялись, рвались на части, одним словом, творили сущее непотребство слоги и буквы русского алфавита. Обрывки фраз-клише прятались за актуальными «бантиками» как шлюхи, скрывающие свою потасканность. Однокоренные противились инцесту неблагозвучностью масла масляного и тут же бывали разлучаемы друг с другом. Синонимы сливались с антонимами в бесстыдные оксюмороны. И главным дирижером всего этого лингва-бардака была мысль – то острая как бритва, то тупая как валенок она бросалась в самую гущу, загребала из котла сознания пригоршнями, с пылу с жару, горячие, шевелящиеся как вареные раки слова, чтобы подбросить их в топку свального литературного греха. Человечек был настолько увлечен и сосредоточен, что если бы сейчас вдруг началось землетрясение, извержение вулкана, или (что более вероятно на этой части суши) пятиэтажное здание областной администрации с колоннами, министрами и казначейскими учреждениями рухнуло бы в пропасть карстового провала, он не сразу заметил бы перемену.
Так было всегда, когда Побудкину ставили срочную задачу. Сначала появлялся кондитерский запах – приторно-вафельный с ноткой шоколада. Потом, стуча каблуками, вбегала его носительница – всклокоченная блондинка из приемной Грачева с запиской, приглашением, телефонограммой, распоряжением в наманикюренной, с разноцветными ноготками, руке и, сделав страшные глаза, говорила: «Олееег! Николай Иванович просил! Срочно!» Или так: «Двадцать минут!» Или даже так: «Он уже в пути, ждет файл на айпад!» И Побудкин откладывал пулемет в counter-strike, создавал в word-е чистый лист, сосредотачивался и начинал строчить. Такова уж судьба записного спичрайтера…
Мысль попала в водоворот сознания и завертелась волчком. Побудкин пропустил свои гибкие тонкие указательные пальцы под стекла очков и потер глаза, но вдохновение не вернулось. Часы над дверью прощались с уходящим временем, и каждая новая секунда все более истерично требовала что-то предпринять. Олег глубоко вздохнул и начал по памяти выстукивать на титульном листе должности и регалии шефа. Он всегда так делал, чтобы сосредоточиться, хотя мог бы просто скопировать. «Руководитель», «лауреат», «член-корреспондент»… Наконец, «вице-губернатор» господин Грачев. Целое мини-резюме, пробегая глазами по которому начальник, должно быть, освежал в памяти лучшие вехи своей биографии, чтобы перевернуть страницу, набрать воздуха и произнести торжественно: «Друзья!» Или: «Уважаемые коллеги!» Или: «Дорогой юбиляр!» А назавтра красноречие шефа, воспламеняемое выученным накануне текстом, рвалось наружу, и открывались шлюзы, из которых хлестало, весь Грачев вспучивался как раздутая банка просроченных консервов, в горле его начинало клокотать, пока, наконец, из уст, пенясь слюной, не вырывалась пряная река сотканного Побудкиным связного повествования.
Были мнения: «Ваш шеф такой грозный!» «Острым словом прибьет, как гвоздь вколотит! А похвалит, как рублем одарит!»
Начальник и вправду был языкастый, потому что Побудкин (бывший журналист, писатель-неудачник) всегда работал на совесть, по-другому просто не умел. Два года его жизни в аппарате Грачева пролетели быстро и без нареканий. И ни разу за все эти 24 месяца экстремально занятый Николай Иванович не удостоил своего спичрайтера личным вниманием. Роль Гермеса стабильно исполняла блондинка. Так было ровно до сегодняшнего дня, когда в воздухе вдруг появились частицы ненавидимого Олегом табака, а за спиной зловеще зазвенело хриплым басом (ни «Здрасьте!», ни «Добрый день!»), приморозило фатально-безнадежным: «Где он?!»
«За мной!» – подумал Побудкин, холодея.
Его кабинет-клетушка без окон сильно смахивал на крысиную нору с интернетом, освещаемую лишь мерцающим экраном монитора, где темнота и близорукость служили отличной смазкой поршням авторской мысли в ярких туннелях воображения. Люди сюда обычно заглядывали, а не заходили. И вдруг в спину Олегу дохнуло таким сквозняком! Таким табаком! Начальство вошло широкой, привыкшей к просторам своего кабинета, хозяйской поступью, шваркнув дверью об угловую стену так, что в памяти спичрайтера всплыла дурацкая поговорка писцов древнего Египта из прочитанной в детстве книжки: «Ухо мальчика на его спине».
Грачев начал без прелюдий и неуместных рукопожатий:
– Задание! Срочное! Ответственное!
«Было когда-нибудь другое?» – думал Побудкин, принимая выражение лица, на котором смирение и скорбь от предстоящей, безусловно, каторжной деятельности были смешаны в странной пропорции с презрением и тем особым видом надменности, которую испытывает принужденный к черной работе гений по отношению к своему патрону-недоумку.
Вице-губернатор, похоже, уловил ход его мыслей:
– Олех, нужна помощь! Это очень важно для меня, Олежих!
Теплое, почти родственное обращение щуки к карасю, пробегая холодком по жабрам, не сулило последнему ничего хорошего. Кроме того, Побудкин терпеть не мог фамильярности. Он никогда не позволял, чтобы кто-то лез в его побудкинскую душу, тонкую, чувствительную, с фибрами, пропитанными эфиром и апломбом несостоявшегося литератора, который хотя и принужден был обстоятельствами к убогой работе спичрайтера, никогда не забывал, что и в его творческом огороде топтался и гадил Пегас.
Пока Грачев своим блеянием со следами заискивания демонстрировал крайнюю степень ошарашенности, заставлявшую путаться в показаниях и блуждать в трех с половиной мыслях, Побудкин никак не мог взять в толк чего от него хотят. Подозревая худшее, он решил использовать непривычное разобранное состояние вице-губернатора для облегчения самому себе любимому намечавшегося трудового подвига и, чтобы избежать потери времени, стал действовать проверенным методом катехизиса.
– Когда?
– Через час!!! …Ёпт, позвонили: «Едь!»
– Что?
– Юбилей!!! …Подарок, знать бы, подороже!
– Чей юбилей?
– Лысого!!! …Э-э. Шестьдесят лет. Полковнику Налбандяну. Вачагану Вазгеновичу. Заслуженному работнику Федеральной службы исполнения наказаний!
– Где?
Этого Побудкину знать было не положено, но он и сам мог бы догадаться, что в одном из пафосных заведений в центре, в другое вице-губернатор вряд ли поехал бы. …Ну, и что с того? Рядовой юбилей, каких было уже десятки. Выходило, что зря волновался?
– Погоди, Олех, не спеши… – вспомнив, что в ногах правды нет, Николай Иванович сел, достал из кармана плаща пачку сигарет и зажигалку, к ужасу табаконенавистника Побудкина закурил и, витая в зловонных облаках, зашептал, почти зашипел своим прокуренным шепотком: – Вачаган двадцать пять лет руководит ИК №2. «Красная» зона, сынок! Там менты сидят, работники судов, прокуратуры, все начальство бывшее. Чуешь, куда гну? Не простой тюремщик, гений! Четверть века на бочке с порохом и ни разу не прокололся! Хитрый лис! Теперь спроси меня, почему я, вице-губернатор Грачев, так этим озабочен? Да потому что все под Богом ходим, Земля круглая, а от сумы и от тюрьмы не зарекайся!
Теперь было ясно, что пребывающий в цейтноте шеф хотел не простое поздравление, а крик души, песнь песней! Такое, чтоб тронуло за душу повелителя царства бывших! Засело у него в памяти на случай попадания поздравителя в отряд титанов тартара №2! Чтобы армянский Аид не уподобился Кроносу, жравшему своих детей! Побудкину была отведена роль Прометея, освещающего красноречием дорогу к сердцу заслуженного работника ФСИН. В момент осознания ответственности он и стал человечком с горящими глазами, строчившим строчку за строчкой под бдительным присмотром дымящего в затылок руководителя.
«Дорогой Вачаган Вазгенович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!»
Далее следовал набор банальностей, без которых было никуда. Они всегда сами выскакивали как черти из табакерки, удивляя автора своей живучестью. «Мясо», искусственно наращенное на слабых косточках смысла. Гниленькие ножки Буша на пиру русской словесности, заставлявшие Побудкина презирать себя.
– Угу! – съел Грачев, пробежав глазами. – Похвалить бы надо!
Олег кивнул и снова бодро застучал пальцами по клавишам.
«Бытует мнение, что главными качествами сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний являются строгость, бдительность и ответственность. Безусловно, Вы обладаете всем этим набором качеств, но у Вас также есть и ещё одно незаменимое – это… (здесь Побудкин задумался на секунду) человечность!»
– Хорошо! – сказал Грачев, затягиваясь. – «Чело-вечность» Жирным выдели, чтоб я не забыл на ней упор сделать!
«Нас давно связывают товарищеские отношения, и я могу уверенно говорить о том, что за Вашей внешней суровостью скрывается человек с большим сердцем и большой душой!»
– Неплохо! – одобрил начальник, гася окурок в чайном блюдце Побудкина. – Подсластили, но не зализали. Теперь бы перчинки!
«В народе популярна шутка о том, что заключённый отбывает в колонии назначенный судом ограниченный срок, а сами сотрудники колонии „сидят“ пожизненно!»
– Смело… – Грачев задумался. – Оно нам надо?
Побудкин знаками показал, что все под контролем.
На экране появилось свеженабитое:
«…Но если серьёзно, то я не знаю другого настолько свободного духом человека как Вы! Отражением этой Вашей глубинной внутренней свободы является чувство огромной ответственности за судьбу других людей, оказавшихся за решёткой!»
– «…Тем более что контингент заключенных в ИК-2 совершенно особый», – дочитал вслух начальник, ведя пальцем по монитору, – Правильно! Совершенно верно!
«…Именно Ваш гуманизм не даёт им забывать о том, что они остаются нашими, пусть оступившимися, но согражданами! Осознание ими вины, раскаяние и возвращение после отбытия наказания в общество законопослушными людьми – вот важнейшие итоги Вашего благородного труда!»
Николай Иванович закурил новую сигарету и помолчал, погрузившись в свои потаенные мысли. Потом встал, сделал шаг до двери и обратно, одобрительно хлопнул Побудкина по плечу.
«Рыба» речи уже шевелила плавниками. Оставалось приделать к ней спортивные состязания, клуб, вокально-инструментальный ансамбль и православный храм, открытые в колонии, что Побудкин и сделал – изящно, ненавязчиво, будто писал о доме отдыха, спокойное течение жизни обитателей которого нарушали разве что «швейное, металло– и деревообрабатывающие производства». Добавил виньетку о многолетнем успешном труде и высоких правительственных наградах. Выразил признательность «за вклад в дело укрепления экономической и социальной стабильности». Поспорил с Грачевым на строчке «Как хороший друг я хотел бы искренне пожелать…», сойдясь, в конце концов, на крепком здоровье, счастье, радости, новых успехах и удачах, благополучии семьи, мире и процветании. Еще минут десять ушло на рихтовку и пудрение материала – мощение абзацев плиткой изящной словесности, умащение фраз и украшение их узором эмоций.
Грачев забрал листы из принтера и, не говоря ни слова, ушел.
«Значит, можно расслабиться, – подумал Побудкин, на всю мощь врубая казенный кондиционер, в момент разогнавший висевшие в комнате табачные облака. – Напортачь я, он сейчас скакал бы тут, махая шашкой: «Олежих, сынок, родной, помоги!»
Можно было снова брать пулемет и идти убивать бесконечных виртуальных террористов.
Зазвонил телефон.
Побудкин снял трубку, продолжая свободной рукой вести бой.
– Привет. Узнал. Добрый вечер, коллега! …Значит, заместитель губернатора Святкин? К Налбандяну? …Тоже идем. И у нас весь в мыле. Ума не приложу, чего они так взбеленились! …Написал. Я ж профи! …Да поделюсь, говна не жалко. …Хочешь совет? На гуманизм дави. Разжалоби, но не унижай. …Пока! …Не за что!
Электронная почта сообщила об успешной отправке письма. И почти сразу же в другом крыле пятиэтажного здания с колоннами другой спичрайтер раскрыл это послание и, закусив губу, стал вгрызаться в безупречные побудкинские строки, ломая хрупкие гармонии, прикидывая на ходу как положить теплый еще текст в основу собственного оригинального сочинения. Побудкин знал, что пройдоха не станет заморачиваться, но ему до этого не было никакого дела. Грачев должен был выступать первым…
Патроны кончились. Враги были повержены. Расслабленно улыбаясь жертвам компьютерной массакры, Побудкин вышел в другое window, лениво набрал в поисковике «Вачаган» и громко рассмеялся, прочитав перевод с армянского: «Пламенная речь».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































