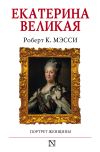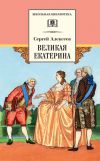Читать книгу "Екатерина Великая. «Золотой век» Российской Империи"

Автор книги: Ольга Чайковская
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Любопытен один эпизод, происшедший во дворце Елизаветы, где были особые покои, куда не могли входить слуги (кушанья поднимались снизу особым столом), и где Елизавета ужинала и проводила время с Алексеем Разумовским и узким кругом лиц. Петра Федоровича эти покои очень интересовали, а поскольку они были через стену с его комнатой и дверь туда была заколочена, он взял плотничный инструмент, просверлил в двери несколько дырок, сам смотрел и приглашал смотреть своих приближенных (позвал было и Екатерину, но та отказалась). Увидев, что дверь вся просверлена, Елизавета Петровна пришла в ярость, устроила племяннику скандал «и так разъярилась, что не знала уже меры гневу своему». Что же она кричала своему наследнику во гневе, потеряв голову? Что великий князь обнаружил по отношению к ней неблагодарность, которая в те времена числилась в ряду тяжких пороков и представлялась чем-то вроде нарушения верности? Она сказала, что отец ее, Петр I, тоже имел неблагодарного сына и лишил его наследства; неизвестно, прибавила ли, что царевич по приказанию отца был пытан страшной пыткой и на ней умер, что отец при ней присутствовал и, говорят, сам пытал царевича, – Екатерина об этом, разумеется, ничего не говорит, но ведь многие знали об этом, и Елизавета не стыдится такой преемственности методов.
Любопытно: она ненавидела Анну Иоанновну, свою предшественницу, эту огромную бабищу («Престрашного была взора, – говорит о ней современница. – Отвратное лицо имела; так была велика, когда между кавалеров идет, всех головою выше, и чрезвычайно толста»); она своими глазами видела низость ее нрава, убожество вкуса (шуты, «ледяной дом»), ее мстительность и зверскую жестокость (чудовищные казни Долгоруковых, Волынского и других); видела, что власть над страной в руках Бирона, бывшего конюха, знала, что у нее, дочери Петра Великого, куда больше прав на российский престол, чем у дочери слабоумного Ивана, недолгого соправителя Петра; и что ей, Елизавете, надо спасать Россию.
И вот теперь, в минуту гнева, упрекая племянника в неблагодарности, она утверждала, что всегда выказывала Анне уважение, «подобающее венчанной главе и помазаннице Божьей; что эта императрица не любила шутить и сажала в крепость тех, кто ей не оказывал уважения; что он мальчишка, которого она сумеет проучить».
«Помазание Божье» не связано с нравственными качествами: подобно тому, как священник, каков бы он ни был – хоть пьяница, хоть вор, – все равно носитель благодати, и крестины или бракосочетание, им совершенные, имеют неоспоримую силу, так и обряд помазания на царство давал правителю невиданное могущество. Перед нами магия христианства, его вера в великую, как бы волшебную силу, не имеющую никакого отношения к добру и справедливости. Надо думать, Елизавета не лукавила, когда говорила о почтении, подобающем любой «венчанной главе», что бы в этой главе ни содержалось. Ее собственная глава была не очень крепка; вместе с тем, как человек умный, она не могла не догадываться, что на российском престоле мог быть кто-нибудь более достойный, но раз уж она венчана на царство и таким образом свершилась воля Божья, она самодержавной властью владеет по праву. Окружающие, по-видимому, думали так же.
Придворные, например, не имели права вступать в брак без разрешения императрицы, и она же должна была назначить день свадьбы, но забывала назначить или почему-то откладывала – так порой длилось годами, – и никто не осмеливался напомнить ей или спросить о причинах отсрочек: все это покорно укладывалось в понятие самодержавности и помазания Божьего.
Нетрудно себе представить, что при такой психической неустойчивости Елизавета Петровна недолго будет благоволить к своей новой племяннице. Екатерина твердо решила, что главная ее обязанность – нравиться императрице, но оказалось, что это не так-то легко исполнить.
Поначалу все словно бы шло хорошо, великой княгине дали в услужение русских горничных (для практики в языке), все они были молодые и веселые, а Екатерина всех моложе и веселей. Среди горничных ей больше всего нравилась Маша Жукова, которая казалась умнее, веселее и общительнее других. Однажды Екатерина позвала эту девушку, ей сказали, что та ушла к больной матери. На следующее утро – тот же ответ. Тут же императрица позвала к себе Екатерину и в крайнем гневе заявила, что Жукова уволена по просьбе Иоганны Елизаветы, которая говорила об этом с императрицей перед своим отъездом. Ложь была слишком очевидна: Иоганна Елизавета этой девушки не знала и просить об ее увольнении не могла. Понимая, что Маша Жукова пострадала из-за нее, Екатерина послала ей со своим камердинером деньги, но оказалось, что девушка со своей матерью уехала в Москву. Тогда великая княгиня решила выдать Машу замуж, нашла подходящего гвардии сержанта, дворянина, он поехал в Москву, дело сладилось, они поженились – и тотчас были сосланы в Астрахань. Это был первый случай, когда Екатерина почувствовала жесткую руку императрицы, но не последний.
Из свиты великих князей стали исчезать люди. В числе любимцев Петра Федоровича были трое братьев Чернышевых, особенно отличал он Андрея, которым очень дорожил, то был их общий друг, Петра и Екатерины. Вокруг этой их дружбы пошли тревожные разговоры, за ними всеми явно шпионили, и вдруг оказалось, что все трое братьев произведены в поручики и посланы служить в Оренбург.
Много позже камердинер Екатерины, причесывая ее, рассказал невероятную историю: он гулял на Масленице в компании, где был служащий из Тайной канцелярии (эта Тайная розыскных дел канцелярия, высший орган политического сыска в России, имела самую мрачную славу и вызывала всеобщий ужас), они отправились в санях кататься в имение императрицы Рыбачью слободу, в гости к управляющему имением. Там между прочим возник спор, в какой день будет Пасха, и хозяин дома решил послать за Святцами, где указаны праздники на несколько лет вперед, к заключенным, которые тут же, в имении, и содержались. Принесли Святцы, и на первой же странице прочли имя Андрея Чернышева, написанное в тот день, когда Петр Федорович подарил ему эту книгу.
Оказалось, что братья ни в какой Оренбург не ездили, а были сразу взяты в Тайную канцелярию и сидели под арестом в Рыбачьей слободе.
Вокруг Екатерины постепенно стал возникать мертвый круг. Специальным распоряжением императрицы никому без особого разрешения не было дозволено посещать ее покои. К ней была приставлена одна из статс-дам императрицы, Мария Чоглокова, которая с небывалым усердием принялась исполнять роль тюремной надзирательницы. Переписка с родными была великой княгине запрещена, свои письма матери она должна была отдавать в ведомство, ведающее иностранными делами, и их сильно редактировали. Все кругом было ненадежно и пахло предательством.
В тот год, 1746-й, она читала Платона.
А 1747 год начался для нее трагически – ей сказали, что умер ее отец. Известие это поразило Екатерину. «Мне дали досыта наплакаться, – пишет она, – но по прошествии недели Чоглокова пришла мне сказать, что императрица приказала мне перестать, что мой отец не был королем. Я ответила, что это правда, что он не король, но что он мой отец; на что она возразила, что великой княгине не подобает долее оплакивать отца, который не был королем, и что потеря невелика». Выговор этот исходил от императрицы.
Екатерина была одинока и ниоткуда не видела помощи. Казалось бы, брак с Петром Федоровичем должен был бы как-то их сблизить, тем более что оба они были одиноки при елизаветинском дворе. Да только был ли ее брак браком?
Вот как описывает она день свадьбы. Утром она пришла в покои императрицы, где уже лежало ее венчальное платье; ее камердинер Евреинов стал было завивать ее челку, но тут явилась Елизавета Петровна, и из-за челки началась целая история. Второй раз императрица пришла надеть на невесту великокняжескую корону, очень тяжелую, потом ее облекли в платье, расшитое серебром, и оно было «страшной тяжести». Торжественное свадебное шествие направилось в церковь Казанской Божией Матери, где молодых и обвенчали. Потом был обед. После обеда Екатерина стала просить графиню Румянцеву, могущественную статс-даму, хоть на минуту снять с нее корону, но та не посмела.
Таков был день. А вот какова была брачная ночь. Дамы раздели новобрачную и уложили в постель. Мы не знаем, каковы были ее чувства, известно только, что она просила одну из этих дам побыть с нею, но та не согласилась. Все ушли, и Екатерина осталась одна. Так прошел час, потом еще час. Она не знала, что ей делать – вставать или оставаться в постели. Великий князь тем временем ждал ужина, а поужинав, пришел к ней, лег и заснул. Екатерина плохо спала, а наутро дневной свет показался ей очень неприятен. «И в этом положении дело оставалось в течение девяти лет, – пишет она, – без малейшего изменения».
Тут мы должны прервать нашу героиню, чтобы несколько ее поправить. Характер великого князя засвидетельствован другими источниками, вполне подтверждающими ту характеристику, которую дает ему Екатерина, и все же полностью доверять ей тут нельзя, в особенности когда дело прямо или косвенно касается власти (а брачные отношения этой юной пары носят характер политический). Мы располагаем краткой записочкой Петра Федоровича, он написал ее Екатерине в 1746 году (примерно на второй год их брака). «Мадам. Прошу вас не беспокоиться нынешнюю ночь спать со мной, потому что хватит меня обманывать, постель стала слишком узкой – после двухнедельной разлуки с вами, сегодня полдень. Ваш несчастный муж, которого вы никогда не удостаиваете этого имени. Петер». Как видно, образ кроткой, брошенной и вечно угнетаемой жены, какой нарисовала в своих воспоминаниях Екатерина, не совсем отвечает действительности.
Даже если бы муж был добр к ней, все равно на него вообще нельзя было положиться: по словам Екатерины, он хранил свои тайны, как пушка – свой выстрел; в жизни двора, в условиях свар, интриг и доносов, свойство весьма опасное. К тому же он никогда жену не защищал. Впрочем, оба они были несчастны: их жизнь была жизнью узников – об этом свидетельствуют письма Петра к елизаветинскому фавориту Шувалову, они без даты, но по многим признакам можно заключить, что Петр уже взрослый человек. «М. Г. Я вас просил через Льва Александровича (Нарышкина. – О. Ч.) о дозволении ехать в Ораниенбаум, но я вижу, что просьба моя не имела успеха, я болен, я в страшной тоске. Именем Бога заклинаю вас, уговорите Ее Величество разрешить мне уехать в Ораниенбаум, если я не брошу эту прекрасную придворную жизнь, чтобы хоть немножко побыть на воле и насладиться деревенским воздухом, то, наверно, околею со скуки и с досады, вы вернете меня к жизни, если сделаете это, и весьма обяжете того, кто останется на всю жизнь преданный вам Петр».
Нетрудно заметить, как унижен этот молодой человек: даже к Шувалову он, великий князь, не может обратиться непосредственно, а делает это через одного из приятелей фаворита. Петр просит, и просьбы его отклонены. Он, как и Екатерина, ненавидит придворную жизнь, как и она, рвется к той малой свободе, которую предоставляет загородное поместье. Если в Ораниенбаум Петра все-таки пускали, то другую настоятельную просьбу – отпустить его на два года за границу – отклоняли неукоснительно. Этот недавний наследник двух блистательных корон оказался в тесной (даже не очень и золоченой) клетке, той же самой, что и его жена.
Как всякий «политзаключенный», великая княгиня должна была думать прежде всего о том, как ей выжить в предложенных условиях. Как сохранить себя и добиться желанной российской короны. «Вот рассуждение или, вернее, заключение, – пишет она, – которое я сделала, как только увидела, что твердо остаюсь в России, и которое я никогда не теряла из виду ни на минуту: 1) нравиться великому князю, 2) нравиться императрице, 3) нравиться народу… Поистине я ничем не пренебрегала, чтобы этого достичь: угодливость, покорность, уважение, желание нравиться, желание поступать, как следует, искренняя привязанность, – все с моей стороны было к тому употреблено».
Автор одной из книг о Екатерине говорит, что в перечисленных методах его неприятно задело слово «угодливость», и считает это ее признание «откровенно циничным». На самом деле программа, изложенная великой княгиней, не только не цинична, она изображает то поведение, которое было приличным, надлежащим и похвальным в окружавшем ее обществе. Слово «угодливость» вовсе не звучало тогда так, как сейчас, и даже так, как оно звучало в грибоедовские времена. В XVIII веке в услужливости и угодливости видели черту добродетели. Человек в обществе должен быть по отношению к родным, сослуживцам, светским знакомым услужлив, то есть готов оказать услугу; угодлив, то есть стремиться сделать так, чтобы другому было хорошо. А уж жена просто обязана была угождать мужу.
Ровным счетом никакого цинизма в екатерининской жизненной программе не было, напротив, было желание противопоставить поведению ее врагов, их злословию, злобе, клевете, всему тому, что было так распространено при елизаветинском дворе, образ, близкий к эталону женской нравственности. Разумеется, «искренняя привязанность» тут под большим вопросом, речь идет о тактике. Осуществление этой программы требовало огромного такта, ума и выдержки, но другого пути у великой княгини вообще не было, ум, незлобивость и обаяние были ее единственным оружием. В будущем эта жизненная позиция дала поразительные плоды, но, будучи княгиней, ни один из пунктов своей программы Екатерина не могла выполнить.
Великая княгиня была в плену, под жестким и злобным надзором. За каждым шагом ее шпионили специально приставленные к ней женщины. Как бы ни старалась она быть услужливой и покорной, как бы усердно она ни молилась, ни постилась, ни отстаивала в угоду императрице бесконечные церковные службы, ей ничто не могло помочь, в этом мире ненависти она была беззащитна.
И все же Екатерина нашла защиту.
Когда она только что приехала в Россию и пребывала в упоении от богатства нарядов, блеска бриллиантов и непрерывности балов, был человек, который предупреждал ее об опасности, – граф Гюлленборг, знавший ее еще в Германии. Граф заметил, что она развита не по годам, и говорил окружающим, «что у нее философский склад ума». Приехав в Россию, он увидел, что девочка «поддается влиянию двора», думает только о нарядах. «Готов держать пари, что у вас не было и книги в руках с тех пор, как вы в России», – сказал он и посоветовал читать Плутарха «Жизнь замечательных мужей», Монтескье «Причины величия и упадка Римской республики» и другие серьезные книги. Екатерина достала некоторые из них, но ей стало скучно, и она бросила книги, чтобы вернуться к нарядам. Гюлленборг стал расспрашивать ее о ней самой, и чтобы граф лучше ее узнал, она написала ему некий автотрактат «Портрет философа в пятнадцать лет» (это сочинение попалось ей на глаза тринадцать лет спустя, и она поразилась точности самоанализа; до нас трактат не дошел (Екатерина сожгла его вместе с другими бумагами в минуту опасности). Граф Гюлленборг отнесся к «Портрету философа» очень серьезно и сказал, что она может разбиться о встречные камни, если только душа ее не закалится настолько, чтобы противостоять опасностям.
Наставления графа Гюлленборга очень пригодились Екатерине. Могучим союзником ее стали книги.
Она заявила приставленной к ней надзирательнице, что запрещает горничным сидеть в ее комнате, как они обычно делают, пусть сидят в соседней. Она давно мечтала об этом – остаться наедине со своими книгами. Надзирательница, пишет Екатерина, «очень бы желала сунуть нос в мои книги, но она совсем не знала по-французски, так же, как и никто из окружающих меня. Часто, особенно вечером, она расспрашивала меня о моем чтении, но у меня был слишком хороший нюх, чтобы это могло ей удаться; мой ответ был всегда очень лаконичен, я просто говорила ей, что, прочитав книгу, я тотчас забываю ее содержание». Режим действительно был более чем арестантский, тут заботились о том, чтобы юная великая княгиня не развивалась бы сверх меры и не умнела. Елизавета вообще выражала неудовольствие тем, что Екатерина «больно умна».
А умная Екатерина умнела с каждым днем. Вот ее образ жизни, каким она сама его описывает:
«Я вставала между восемью и девятью часами утра; брала книгу и садилась читать до тех пор, пока не наставало время одеваться; никто, кроме моих женщин, не вступал в мою комнату… Пока меня причесывали, я продолжала читать. В одиннадцать с половиною я была готова; тогда я выходила в мою переднюю, где обыкновенно находились две-три мои фрейлины и столько же дежурных кавалеров. Скука здесь была не меньшая, ибо по части мужчин императрица в то время с особенной заботливостью старалась заполнить наш двор всем, что она могла найти наиболее бестолкового, и когда случайно она ошибалась в своем выборе, тотчас же изгонялся тот кривой, который казался королем среди слепых».
Невеселая компания эта сама сильно скучала, поэтому то и дело возникали ссоры – так время дотягивалось до обеда. «После обеда, – пишет Екатерина, – я возвращалась в мою комнату к моим книгам».
Она любила читать, сидя у окна. Однажды в Петергофе, где жизнь была несколько свободней, к ее окну подошли граф Кирилл Разумовский, брат фаворита, и князь Репнин, они поговорили несколько минут, и тут в ее комнату «влетела, как фурия» приставленная к ней статс-дама, устроила скандал и заявила, что доложит о происшедшем императрице. Разумовский ответил ей, что не видит тут никакого происшествия и ничего дурного, что разговор был самый невинный и «что придраться к нему могут лишь те, которые всюду, где бы они ни находились, любят устраивать Тайную канцелярию», – формулировка достаточно резкая и очень точная. Но даже такой влиятельный вельможа, брат могущественного фаворита, не посмел ссориться с этой статс-дамой, а предпочел, чтобы задобрить ее, идти играть с ней в карты.
Екатерина и в самом деле была чем-то вроде политзаключенной, с которой запрещено было даже разговаривать.
Конечно, правление Елизаветы Петровны никак нельзя свести к тому ничтожному мелочному существованию, какое описывает автор Записок. При этой императрице шла жизнь огромного государства, по инициативе Ломоносова был создан Московский университет, стараниями фаворита Елизаветы И. И. Шувалова возникла Академия художеств, развилась литература, разгорались литературные споры, возникали новые театры, да мало ли что еще – все это шло мимо пленной великой княгини, ее жизнь проходила даже не при дворе, а в еще более узком мирке, и не ее вина, что она говорит о мелких подробностях жизни. Впрочем, мы должны быть ей тут благодарны, потому что порой именно такие подробности дают нам почувствовать жизнь в ее неповторимой реальности.
Когда двор выезжал в летние резиденции – особенно если Елизавета Петровна была в Царском Селе или Петергофе, а великокняжеская чета в Ораниенбауме, владениях великого князя, – внимание тюремщиков сильно ослабевало. Петр был занят любимым делом – своими собаками, а Екатерина с ружьем на плече в сопровождении егеря или пажа шагала по полям и лесам. В этих походах она крепла – «и загорала, как черт». Тут она могла предаться страсти, второй в ее жизни после чтения, – верховой езде. Екатерина пишет о ней много и с мельчайшими подробностями, тем более что и тут она встречала препятствия. К примеру, Елизавета Петровна запретила ей ездить в мужском седле, а дамское седло великую княгиню не устраивало. «Я придумала себе седла, – пишет она, – на которых можно было сидеть как угодно, они были с английским крючком, и можно было перекидывать ногу, чтобы сидеть по-мужски; кроме того, крючок отвинчивался и другое стремя спускалось и поднималось». Когда по велению императрицы у берейторов спрашивали, в каком седле ездит великая княгиня, те отвечали: «На дамском седле, согласно воле императрицы».
В том-то и дело, что возле Екатерины теперь уже были люди, которые ее не выдавали, и уже не только берейторы старались ей угодить. Намерение великой княгини «нравиться народу» мало-помалу осуществлялось – пока еще на малом жизненном поле. А впрочем, дадим ей возможность похвастаться своими успехами в верховой езде.
Однажды в Екатериенгофе Елизавета приказала ей пригласить на прогулку верхом жену австрийского посла г-жу Арним, которая утверждала, будто она прекрасная наездница. Явилась Арним в мужском костюме алого сукна, расшитого золотом. А Екатерина, зная, что ей ездить по-мужски запрещено, надела амазонку, голубую с серебром, отделанную хрустальными пуговицами, а черная шапочка ее была украшена бриллиантами. Сама Елизавета Петровна, которая знала толк в этом деле, вышла, чтобы посмотреть, как они поедут.
«Так как я была тогда очень ловка и очень привычна к верховой езде, – пишет Екатерина, – то как только я подошла к лошади, так на нее и вскочила; юбку, которая у меня была разрезана, я спустила по бокам лошади». Елизавета была поражена ее проворством и сказала: «Можно поклясться, что она на мужском седле». Появилась и г-жа Арним, жена посла. Она велела привести свою собственную лошадь, «то была старая вороная кляча, – мстительно пишет Екатерина, – очень большая, тяжелая и, как уверяли наши придворные, упряжная из ее кареты. Ей понадобилась лесенка, чтоб влезть. Все это сопровождалось разными церемониями, и наконец с помощью нескольких лиц она уселась на свою клячу, которая пошла не вполне ровной рысью, так что порядком трясла даму, которая не была тверда ни в седле, ни в стременах и которая держалась рукой за луку» (как всякому понятно – величайший позор для наездника). «Г-жу Арним, терявшую то шляпу, то стремена, подобрала и доставила в Екатериенгоф чья-то карета», – эпизод построен по законам комедии (и даже кинокомедии, особенно когда, возвращаясь во дворец уже пешком, г-жа Арним, стараясь поспеть за Екатериной, «попала в лужу, поскользнулась и растянулась во весь рост»).
Между тем как раз в это время относительной свободы и развлечений однажды утром Екатерине пришли сообщить, что императрица уволила преданного ей камердинера Тимофея Евреинова, и это был для нее очень сильный удар, – она говорит, самый сильный за все время ее пребывания при елизаветинском дворе. Преданность Тимофея Евреинова не раз помогала ей в трудный час, кстати, ведь он когда-то помог Екатерине найти Андрея Чернышева, когда тот вдруг исчез в Тайной канцелярии.
И все же со временем ее «тюремный режим» ослабел, она становилась все более самостоятельной и в развлечениях принимала большее участие. Мы можем увидеть юную Екатерину на балу.
В то время соперничество дам при дворе достигало невероятного накала и требовало огромных усилий и затрат – три раза на день переодеться, да еще так, чтобы каждый наряд был великолепнее предыдущего! А у Екатерины средств не было, и она решила отличиться в самом трудном – в простоте. «Я придумала надеть гродетуровый белый корсаж (у меня была тогда очень тонкая талия) и такую же юбку на очень маленьких фижмах; я велела убрать волосы спереди как можно лучше, а сзади сделать локоны из волос, которые были у меня очень длинные, очень густые и очень красивые; я велела их завязать белой лентой сзади в виде лисьего хвоста и приколола к ним всего одну розу с бутоном и листьями, которые неотличимо походили на настоящие; другую я приколола к корсажу; я надела на шею брыжжи из очень белого газу и отправилась на бал. В ту минуту, когда я вошла, я легко заметила, что привлекаю к себе все взоры». Придворные были изумлены. И не понимали, почему вдруг великая княгиня оделась так странно. А ведь это им явилось само будущее.
Екатерина, с ее чуткостью и тонким вкусом, уже почуяла веяние новых времен, уже почувствовала, что елизаветинское барокко с его огромными фижмами, сверканием золота и драгоценных камней, яркими красками, когда парики были снежно-белыми, щеки ярко-красными, а брови угольно-черными (так раскрашивались тогда дамы), все это уже выглядит назойливо и грубо. Глазу хотелось строгости и простоты, а телу – большей естественности и свободы.
Мы можем представить себе, какой была она тогда, в двадцать с небольшим, когда шла дворцовой галереей, чувствуя на себе взгляды двора. Легкая, тонкая, в узком белом платье, никаких украшений, только роскошные локоны, отогнанные назад (красота ее волос засвидетельствована современниками), две розы (совсем как живые!) – одна в волосах, другая у корсажа. Вот и все – естественность самой природы – идеал эпохи Просвещения. Главной ее прелестью было то, что дала ей природа: изящество фигуры, нежные краски лица, сочетание роскошных каштановых волос с голубыми глазами и, наконец, главное – улыбка (о ней знал и Пушкин: «голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую»), впоследствии знаменитая не только в России.
Она, не останавливаясь, прошла через всю галерею и вошла в покои императрицы.
– Боже мой, какая простота! Как! – воскликнула Елизавета Петровна. – И даже ни одной мушки?
Екатерина рассмеялась и ответила, что это для того, чтобы быть легче одетой.
Императрица вынула из кармана коробочку с мушками, выбрала одну и прилепила ее на лицо Екатерине, но той уже не нужны были мушки. Тем не менее она вернулась в галерею, показала мушку всем, кому могла. Ей было очень весело, и в этот вечер она танцевала больше обычного. «Не помню, – говорит она, – чтобы когда-либо в жизни я получала столько от всех похвал, как в тот день. Говорили, что я прекрасна, как день, и поразительно хороша; правду сказать, я никогда не считала себя красивой, но я нравилась и полагаю, что в том и была моя сила». На это ее женское очарование, конечно, не могла не откликнуться молодежь елизаветинского двора.
В то время Екатерина читала Монтескье «О духе законов» – уже тогда тема справедливости, правосудия, законодательства сильно ее волновала – и уже тогда она обнаружила понимание проблемы: «Не знаю, мне кажется, что всю мою жизнь я буду чувствовать отвращение к чрезвычайным судебным комиссиям, особенно секретным» – актуально звучит, не так ли?
В чтении она была упорна – знаменитый «Исторический и критический словарь» Бейля читала два года, отведя по полгода на каждый том. А читала особо – с жаром! Было у нее обыкновение: как бы от избытка чувств тут же, на полях, а порой и прямо между строк делать свои замечания. Так, ее сильно взволновала книга Струбе де Пирмонта, который осмелился грубо нападать на ее кумира Монтескье, упрекая его в непонимании и легкомыслии.
«Удобно называть легкомысленным то, что не легко поддается пониманию, – иронизирует она, – чтобы вам верили, вам надо бы сравняться гениальностью с Монтескье». Негодование: «Как сметь спорить со столь великим человеком!» Время от времени она теряет терпение. «Вот так выводы! – пишет она. – Все это одна болтовня». И даже грубее: «Совсем заврался!» Но для нас наиболее интересен, разумеется, самый предмет спора. Автор книги открыто защищает общественный строй, основанный на рабстве, и с этих позиций нападает на Монтескье: «Крепостной, это его (Монтескье. – О. Ч.) слова, – пишет де Пирмонт, – не может ничего делать по добродетели; а господин приобретает с рабами своими разного рода дурные привычки и нечувствительно привыкает к пренебрежению всеми нравственными качествами». «Однако это совершенно справедливо», – замечает на полях Екатерина. «Возросло ли в Риме число знаменитых мужей, – развертывает свою аргументацию де Пирмонт, – с тех пор, как было уничтожено рабство, больше ли их стало, чем в то время, когда этот удивительный город кишел рабами». «Знаменитый и добродетельный не синонимы, – резонно возражает Екатерина и прибавляет: – Страх может убить преступление, но он также убивает добродетель. Кто не смеет думать, смеет лишь пресмыкаться».
Де Пирмонт: «Свобода или рабство черного люда сами по себе обществу безразличны, все зависит от нравов и законов, могущих сделать их полезными или вредными». «Черт возьми! И почему же автор не продаст в рабство самого себя?» – это Екатерина на полях.
* * *
Остров в устье Невы, ветер, к вечеру он разыграется в шторм. Охота в разгаре, псы гонят зайца, двое охотников придержали коней и остановились – разгоряченные кони вертятся, не стоят на месте. Всадники одни, и встреча эта опасна.
Он – Сергей Салтыков, камергер великого князя Петра Федоровича, один из самых красивых кавалеров елизаветинского двора. Ей двадцать три, она в сапогах, в мужском костюме (Елизавета далеко), ее волосы выбились из-под треуголки и вьются на ветру.
Разговор их горячий, о любви. Салтыков давно уже ходил за ней по пятам, преследовал своими пылкими признаниями – она уклонялась, отшучивалась, спрашивала, а как же быть с его женой, на которой он недавно по страстной любви женился? Он ничего не хочет слышать о молодой жене, не желает принимать никаких резонов – влюблен без памяти.
И вот теперь они вдвоем, охота далеко, разговор получается долгий – собственно, говорит он один, она не произносит ни слова. Он говорит о том, что надо сделать, чтобы их счастье осталось тайной. Екатерина молчит. Салтыков просит разрешить ему надеяться и признать хотя бы ту малость, что она к нему неравнодушна. Тут она отвечает, что не может помешать игре его воображения. Салтыков начинает убеждать ее: он куда лучше остальных придворных и потому заслуживает предпочтения. Она смеется в ответ, но про себя не может не признать его правоты.
– Я прошу вас отъехать от меня, – говорит она, – разговор наш затянулся. Это может показаться подозрительным.
Салтыков ей нравился, и очень, но в условиях слежки и доносов одна подобная встреча может стать роковой.
«Он возразил, что не уедет, пока я не скажу, что я к нему неравнодушна, – пишет Екатерина. – Я ответила: «Да, да, но только убирайтесь», а он: «Я это запомню» – и пришпорил коня; я крикнула ему вслед: «Нет, нет», а он повторил: «Да, да». Так мы и расстались».
А когда охотники вернулись в дом, с моря катили огромные валы, залило весь остров, вода уже билась у крыльца. Компания оказалась в плену, приходилось ждать утра.
– Небо благоприятствует мне сегодня, – сказал Салтыков. – Дает время любоваться вами.
Он уже считал себя счастливым. А ее мучили «тысячи опасений». Думала она и о том, сможет ли управлять двумя головами, его и своей, и понимала, что это будет трудно, если не невозможно.
«Он был прекрасен, как день, – пишет Екатерина, – и, конечно, никто не мог с ним сравниться, ни при большом дворе, ни тем более при нашем. У него не было недостатка ни в уме, ни в том складе познаний, манер и приемов, какой дают большой свет и особенно двор. Ему было 26; вообще и по рождению, и по многим другим качествам это был кавалер выдающийся». Он был темноволос и говорил о себе, что в придворном костюме – белое с серебром – выглядит, как муха в молоке.