Текст книги "Молния Господня"
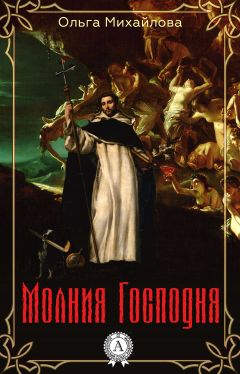
Автор книги: Ольга Михайлова
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Изнасилование?
Леваро с отвращением кивнул.
– Да и не дотащила бы никакая баба трупы-то до погоста.
– Ваша подруга знала убитую?
– Нет, нет, умоляю вас, мессир Империали…
– Как же нет, – изумился, отропев, инквизитор, – когда она сама говорит, что они были подругами?
Леваро вновь замахал руками. Его не поняли. «Да, донна Лаура Джаннини дружила с донной Амандой Леони, но зачем же говорить, что донна Джаннини – его, Леваро, подруга? Для этого нет оснований». Вианданте усмехнулся, но ничего не ответил. В конце концов, старая истина права. Ни один мужчина никогда ещё не попадал из-за женщины в лапы дьявола.
Если сам того не хотел.
На следующее утро, в воскресение, кафедральный собор Святого Виджилио, главный храм города, заполнили горожане. Молниеносное расследование смерти инквизитора Гоццано, поставившее в тупик весь город, наделало много шума, все только и говорили о проницательности нового инквизитора, когда же он, представленный князем-епископом Клезио, вышел на амвон, толпа ахнула и замерла. До этого отрывочные слухи о красоте мессира Империали уже ходили по городу, но распространяли их в основном скупые на слова денунцианты. Агенты Трибунала отмечали в новом инквизиторе талант следователя, о красоте же упоминали вскользь.
Теперь разряженные аристократки и дочки богатых негоциантов пожирали его жадными глазами. Вианданте заговорил, его мягкий голос, как заметил Леваро, гремел под сводами храма словно органный глас и был слышен во всех углах.
– «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. – Так говорит Господь Наш. – Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь и они сгорают».
Женщины обмахивались веерами и не спускали глаз с Империали. Грудь у многих волновалась, видимо, из-за глубокого смысла проповеди. Элиа стоял за спиной Клезио, наблюдая за впечатлением, производимым инквизитором на толпу. Тот завораживал и подчинял себе души, и это почти колдовское влияние Вианданте на паству немного пугало Леваро.
Сам Элиа временами содрогался, вспоминая пережитое им в доме лесничего. Да, ему преподали хороший урок, но больше всего его удивляло, что итогом этого вразумления стали для него самого рабская преданность Империали и ещё большее восхищение. Леваро не мог понять, что влечёт его к этому человеку. Тонкий и изощренный ум, величие ли души или всё же эта неземная красота, к которой он поначалу был склонен отнестись столь пренебрежительно? Неожиданно Леваро испугался таящегося в этой красоте искуса – но для самого Империали. Как удержаться от блуда среди этих давно позабывших скромность и отбросивших женскую стыдливость похотливых баб, жаждущих только мужской плоти? Леваро поймал себя на неприятной мысли: а что если читающий ему проповеди о морали Империали не устоит сам? Велика ли праведность – быть святым в монастырских стенах! Но вдумавшись в собственные желания, Леваро понял, что боится и не хочет падения этого человека. Элиа неосознанно влёкся к нему едва сдерживаемым восхищением, и странно усиливался рядом с ним.
Сквозь пелену мыслей до него доносился глубокий голос Вианданте. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Уже и секира при корне дерев лежит. Помните, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».
После службы по традиции был обнародован указ нового инквизитора, провозгласивший «дни милосердия». Формулы указов были отработаны годами и редко менялись. «Я, инквизитор Джеронимо Империали, назначенный и уполномоченный апостольской властью, всем жителям Тренто, какого бы состояния, ранга и сана они ни были, посылаю приветствие о Господе нашем Иисусе Христе. Прокурор-фискал Священного Трибунала доложил, что с некоторых пор в городе не производилось инквизиции, вследствие чего некоторые проступки против святой католической веры остались без наказания и кары. Сочтя эту петицию справедливой, издаю настоящий указ, предписывающий вам объявить обо всех, кто говорил слова еретические, подозрительные, безрассудные, непристойные, соблазнительные или богохульные против нашего Господа Бога и того, чему учит святая наша мать римская Церковь.
Если вы знаете о колдунах и колдуньях, заключивших тайный или явный договор с дьяволом, творивших непотребное, – надлежит сообщить об этом Священному Трибуналу.
Если вы знаете о людях, утверждающих, что нет ни рая для добрых, ни ада для злых, а есть только рождение и смерть, или богохульства против нашего Господа Бога, девства и чистоты Владычицы нашей Девы Марии – надлежит сообщить об этом Священному Трибуналу.
Если кто-либо хвалил секту Мартина Лютера и одобрял его мнения, говоря, что не нужно исповеди перед священником, что достаточно исповедаться одному Богу, что ни папа, ни священники не имеют власти отпускать грехи, что в освященной гостии нет истинного тела Господня и не надо молиться Святым и иметь иконы в церквах, и не нужно добрых дел, достаточно для спасения веры и крещения, и что клирики, монахи и монахини могут вступать в брак, а брак есть лучшее и совершенное состояние, и что не грех есть мясо по пятницам и в Великий пост и в дни воздержания – надлежит сообщить об этом Священному Трибуналу.
Если кто-нибудь, будучи клириком или постриженным монахом, женился, или, не имея степени священства, совершал таинства Церкви, или какой-либо духовник при таинстве исповеди, находясь в исповедальне, имел с исповедницами бесчестные разговоры – я вменяю всем в обязанность доносить святой инквизиции на совратителей.
Если кто-либо вступил в брак вторично или многократно при живых жене или муже, или утверждал, что блуд или ростовщичество, или лихоимство, или клятвопреступление не есть грех, и что лучше жить во внебрачном сожительстве, чем в браке, и в течение года оставался без причастия – надлежит сообщить об этом Священному Трибуналу.
Надлежит сообщить и о тех, кто подкупал свидетелей или дал ложные показания против других лиц, чтобы причинить им вред и запятнать их честь. Если некто покровительствовал еретикам, оказывая им поддержку и помощь, или совершил гнусное преступление содомии – надлежит и об этом сообщить Священному Трибуналу.
Поэтому настоящим указом убеждаю, в силу святого послушания и в силу верховного отлучения от Церкви, после трех канонических увещеваний – latae sententiae, trina canonica, monitione praemisa – лично прийти ко мне или прокурору-фискалу и заявить об этом, дабы была узнана истина, злые были наказаны, добрые и верные христиане были почтены, и наша святая католическая вера возвеличилась. Чтобы все вышесказанное дошло до всех и никто не мог отговариваться незнанием, ныне повелевается опубликовать этот указ. Дано в Тренто в лето Господне 1531».
Затем было объявлено, что вечером на площади казнят убийц Фогаццаро Гоццано, оглашены их имена и обстоятельства дела, зачитан приговор. Толпа оглушённо внимала, даже шальные мальчишки приумолкли. Все тихо разошлись, но вечером на площади оказалось втрое больше народу, чем днём в церкви. В безмолвии вывели осуждённых. Вианданте настоял на том, чтобы оставить жизнь Джованьоли. Скупка краденого – не дело Трибунала. Лучию тоже отпустили – за ненадобностью.
При мысли о неминуемой склоке между ней и хозяйкой борделя инквизитор улыбнулся.
Глава 4
В которой инквизитор Тридентиума впервые употребляет нецензурные выражения, краснеет до корней волос и, наконец, с интересом всматривается в женские ягодицы, что, в общем-то, не приличествует монаху…
На следующее утро, в понедельник, 10 июля, чиновник канцелярии подал инквизитору опущенный накануне в ящик жалоб письменный донос. Написавший его утверждал, что отец Амбросио Стивалоне, священник церкви Сан-Лоренцо, исповедник маленькой обители капуцинок, не только неоднократно искушал исповедниц, но и развратил их, и из семнадцати женщин добился своей цели у тринадцати.
Из доноса следовало, что Стивалоне, будучи руководителем совести и духовником всех женщин этого монастыря, слывя у них за человека святого, внушил им такое доверие к себе, что на него смотрели как на небесного оракула. Он сказал каждой из них, что получил от Бога особенную милость. «Господь наш Иисус Христос, – уверял он монахиню, – возымел благость дать мне узреть Его в освящённой гостии во время её возношения, и сказал: «Почти все души, которыми ты руководишь в этом монастыре, Мне угодны, потому что в них настоящая любовь к добродетели, и они стараются идти вперед к совершенству, но особенно – здесь духовный отец называл ту, с которой он говорил. – Душа её совершенна, она уже победила все свои земные страсти, за исключением чувственности, которая очень её мучает, потому что враг плоти силён вследствие её молодости, женственности и естественной прелести, которые сильно влекут её к наслаждению. Чтобы наградить её добродетель и сочетать любовь ко Мне с её службой, требующей спокойствия, которого она не имеет, хотя и заслуживает своими добродетелями, Я поручаю тебе даровать ей Моим Именем разрешение удовлетворить свою страсть, но только с тобой. Во избежание огласки она должна хранить на этот счёт самую строгую тайну, не говорить об этом никому, даже другому духовнику, потому что согрешит лишь с разрешения, которое Я дарую ради святой цели видеть её новые ежедневные успехи на пути к святости». Были лишь четыре богомолки, которым отец Амбросио не счёл уместным сообщить это откровение: три из них были старухами, а четвертая – очень дурна собой.
Самая молодая из этих обманутых женщин, двадцати пяти лет от роду, смертельно заболев, исповедалась у другого священника – отца Джулиано Ванетти. С разрешения больной и по её желанию Ванетти и писал Святой Инквизиции о происшедшем. Упомянул он и об опасениях умершей, что всё, случившееся с ней, судя по её наблюдениям, произошло и с другими монахинями. Покойная в течение трех лет имела преступную связь с духовником, будучи уверена, что оскорбляет Бога, но делала вид, будто верит тому, что он говорил, и, не краснея, предавалась необузданным страстям под личиной добродетели. Она прибавила, что совесть не позволила ей скрывать правду, когда она почувствовала близость смерти.
Вианданте перекосило. Он не решился консультироваться с Аллоро. Не хватало девственнику подобных искушений. Осведомлённый о деле прокурор-фискал, прочитав донос, от изумления присвистнул. Дело было столь невероятно и омерзительно, что инквизитор, по совету Леваро, счёл нужным поговорить с князем-епископом Клезио, к которому оба немедля и отправились. Кардинал, едва дочитав донос, выронил бумагу из трясущихся рук. Бог мой!
– Можно ли доверять словам Джулиано Ванетти? Кто он?
Клезио вздохнул.
– Ванетти – старик, человек большой веры. Но почему он не сказал мне?
– А что бы сделал глубокоуважаемый князь-епископ? Покрыл бы грех собрата? – невинно поинтересовался Вианданте.
Клезио встал. Руки, опершись на посох, перестали трястись.
– Узнай я об этом от Ванетти, – ответил он, – я вызвал бы вас, Империали, но посоветовал бы действовать осмотрительно. Преступления такого рода – мерзость сугубая. – Кардинал тяжело дышал и говорил с трудом. – Святой Бернард Клервоский, ведя речь о духовных лицах, говорит: «Если явный еретик восстает, то он выталкивается и погибает. Но когда на добрых нападают духовные лица, как их изгнать?» Григорий Великий в своем «Пастыре» утверждает: «Никто в церкви не вредит так много, как тот, кто, имея священный сан, поступает неправедно». Но – ab abusu ad usum non valet consequentia[15]15
Злоупотребление при пользовании – не довод против самого пользования (лат.).
[Закрыть]. Нет ни одного учреждённого Богом ведомства, не имеющего в числе своих членов ренегатов и выродков. Такие люди марают одежды Христовы и – при подтверждении обвинений – извергаются вон. Да, необходимо установить истину, но дело надлежит расследовать тайно, не роняя достоинства Церкви. Толпа глупа, и в провинности немногих склонна видеть грех всеобщий. Вы меня поняли?
Империали подошёл к князю-епископу и, опустившись на колени, поцеловал полу его парчового плувиала.
Инквизиция проверила и установила, что преступная связь действительно имела место с тринадцатью монахинями, – для этого она пошла путем сбора сведений – способ, которым всегда умела владеть более искусно, чем кто-либо. Двенадцать женщин не обнаружили искренности, как умершая, – сначала отрицали факт, затем сознались, но пытались оправдаться, говоря, что поверили в откровение священника. Что касается духовника, ему дали три обычных аудиенции увещания. Он ответил, что совесть не упрекает его ни в каком преступлении касательно инквизиции и что он с изумлением видит себя арестованным. Прокурор обвинил его по уликам процесса. Они ожидали, что обвиняемый ответит, что факты были действительны, а откровение ложно и выдумано для достижения цели. Монах признал улики, но прибавил: если женщины говорили правду, то и он тоже говорит правду, потому что откровение было достоверно.
Ему дали понять: невероятно, чтобы Христос явился ему в освящённой гостии для того, чтобы освободить монаха от одной из главных отрицательных заповедей Десятословия, которое обязывает всех монашествующих и навсегда. Он ответил, что также такова заповедь «Не убий», а Бог между тем освободил от неё патриарха Авраама, когда ангел повелел ему лишить жизни своего сына; то же нужно сказать о заповеди «не укради», между тем как евреям было разрешено присвоить вещи египтян. Его внимание обратили на то, что в обоих этих случаях дело шло о тайнах, благоприятных для религии. Он возразил, что в произошедшем между ним и его исповедницами Бог имел то же намерение, то есть хотел успокоить совесть тринадцати добродетельных душ и повести их к полному единению со Своей божественной сущностью.
Прокурор заметил монаху, что весьма странен факт, что столь большая добродетель оказалась в тринадцати женщинах, молодых и красивых, но отнюдь не в трёх старых и в одной, которая была дурна собой. Обвиняемый, злоупотребляя Священным Писанием, с упорством основывал свою невиновность на мнимом разрешении во время откровения и, не смущаясь, ответил: «Святой Дух дышит, где хочет».
Настал решительный момент. Его спросили, не имеет ли он что-либо ещё сказать, потому что его предупреждают во имя Бога и Святой Девы Марии сказать правду для успокоения совести. Если он это сделает, Святая Инквизиция с присущими ей состраданием и снисходительностью воспользуется этим по отношению к обвиняемому, который искренне признается в своих проступках; в противном случае с ним поступят согласно с тем, что предписано справедливостью и сообразно с инструкциями и основным законом, так как всё уже готово для окончательного приговора. Обвиняемый ответил, что ему нечего прибавить, потому что он всегда говорил правду и признавал её.
Империали сидел молча, предоставив вести процесс прокурору. До этого лично спустился в каземат и проверил, достаточно ли просторна камера заключенного, поинтересовался у Подснежника, не подвергается ли обвиняемый, упаси Господь, каким-либо притеснениям? При знакомстве с людьми Трибунала Вианданте полагал, что прозвище Подснежник палач мог получить только в насмешку, и ожидал увидеть человека, похожего на встретившегося ему в гостиной Вено Томазо Таволу. Однако Буканеве оказался стройным и щуплым перуджийцем, блондином, отличавшимся весьма смазливой мордашкой, характером незлобивым и добродушным, он был любимцем Гоццано да и вообще всего Трибунала. Леваро, на вопрос инквизитора, справляется ли Буканеве со своими обязанностями, удивлённо пожал плечами. Почему нет? Сейчас Подснежник, которого вообще-то звали Энрико Адальфи, поинтересовался, будет ли применена к еретику пытка? Инквизитор отрицательно покачал головой. Негодяй не извергнут из сана, он – духовное лицо. Да и не запрети этого закон – пытку он не применил бы, ибо Империали… весьма радовали запирательство и горделивая глупость капуцина.
Хвати у дурака ума сказать, что совесть побудила-де его, заглянув в себя с большим старанием, признать, что впал в ошибку, настаивая на своей невиновности, признай глупец свою вину и попроси прощения и епитимьи, заяви, что был ослеплён, считая достоверным явление Христа, ибо должен был признать себя недостойным столь великого благоволения, – идиот уже сошёл бы с одной ступени эшафота.
Признайся мерзавец, что всё – ложь, и на самом деле он придумал всё это как средство, показавшееся самым удобным для удовлетворения похоти, – и в деле не оказалось бы еретика, а налицо был бы просто лгун, лицемер и соблазнитель, из высокомерия являющийся к тому же гордецом и клятвопреступником. Но за это Стивалоне был бы приговорен к заключению на пять лет в монастырь своего ордена, к лишению навсегда полномочий духовника и проповедника, к отбыванию нескольких епитимий со строгим воздержанием от пищи, к занятию последнего места в братстве, где не мог, подобно другим монахам, пользоваться правом голосования по делам общины; кроме этого, он должен был выдержать в монастыре наказание кнутом от руки всех монахов и бельцов, и каждого из них отдельно. Наказание должно было быть исполнено в присутствии секретаря инквизиции после того, как будет прочтен приговор; оно должно быть повторено в монастыре, куда его приведут, при тех же обстоятельствах. И всё.
Правда, если процесс и повернулся бы таким неблагоприятным образом, долго распутнику всё равно было бы не прожить. Джеронимо было известно, какому обхождению среди монахов подвергаются совершившие такое преступление. Многие из тех, кого приговаривали к подобному, ползая на коленях, умоляли о разрешении провести пять лет своего заточения в тюрьмах святой инквизиции вместо отправки в их монастырь. Но теперь он спокойно зачитал приговор нераскаянному еретику и в соответствии с нормами права брезгливо послал развратного подлеца на эшафот, не удостоив аутодафе в каземате своим присутствием.
Блудных духовных дочерей капуцина разослали в двенадцать разных женских монастырей.
Леваро оказался прав в своём циничном пророчестве о сложностях, ожидавших Джеронимо после представления горожанам, вернее, горожанкам. Оглашённый указ дал возможность десяткам похотливых жён, вырядившимся как на бракосочетание, посещать Трибунал и требовать встречи с инквизитором под предлогом денунциации.
Вся эта канитель утомляла Джеронимо, как галеры каторжника. По современной моде вырезы дамских платьев оставляли почти открытыми грудь и плечи, но некоторые жалобщицы были готовы и на большее. Вианданте в конце первого дня приема высказывался резко, но не грубо, но постепенно в его комментариях стали проскакивать и те выражения, которые, по его мнению, высказанному несколькими днями раньше, были недопустимы в речи монаха и патриция. Позволял он себе их, правда, изредка, и только в отсутствие Аллоро, но, когда с целью пожаловаться на сердечные боли, вызванные, вероятно, сглазом завистниц, к нему явилась в сиянии женских прелестей толстая донна Теофрания Рано и, схватив его за руку, приложила её к тому месту, которое, по её мнению, подверглось злодейскому сглазу, а другой рукой попыталась дотянуться до его мужского достоинства, Вианданте, сжав зубы и с трудом выпроводив её за дверь, пренебрегая присутствием друга, выругался так, что Гильельмо от неожиданности и испуга выронил из рук огромный том Аквината и зашиб им себе ногу.
– Che cazzo vuòi? С’è da impazzire!!!
Инквизитор послал слугу за водой и долго, злобно морщась, мыл ладонь, сохранявшую запах пота и резеды, ненавидимый им с детства. Приказал проветрить комнату, в которой от обильного смешения ароматов, выливаемых на себя прелестными жалобщицами, действительно, невозможно было дышать. Ещё больше разнервничался, услышав за спиной странный звук, похожий на сдавленный хохот и хотя, обернувшись, увидел на лице прокурора-фискала отрешённое от мирской суеты выражение глубокой задумчивости, вызванной, видимо, благочестивыми размышлениями над томом «Malleus Maleficarum», не обманулся в происхождении звука. Сукин хвост ещё и насмехается?
– С завтрашнего дня, Леваро, вы будете сидеть там вместо меня!
Леваро отрицательно покачал головой. Как бы ни так! У него есть свои обязанности по ведению следствия. Он на службе, а не в услужении, и в его задачу не входит защита инквизитора от блудных искушений.
Вианданте закатил глаза к небу. О, Боже!
– Джельмино, мальчик мой, иди, распорядись об обеде, – добродушно попросил он.
Как только за Аллоро закрылась дверь, Вианданте веско заявил синьору Леваро, что тот весьма мало понимает в том, что является искушением для монаха. Может быть, согласился Леваро, он ведь не монах. Откуда он может это знать? Но долг предписывает именно ему, инквизитору, принимать доносы и жалобы горожан. Уж не собирается ли он манкировать своими обязанностями?
Джеронимо обжёг наглого шельмеца гневным взглядом, но промолчал. После памятного им обоим объяснения в доме лесничего инквизитор не позволял себе критических выпадов в адрес подчинённого. Справедливости ради следовало заметить, что Леваро блестяще справлялся со своими обязанностями, ремесло своё любил и вкладывал в него всю душу. При этом полученный от мессира Империали урок имел последствием жесткий вывод, сделанный Леваро: если не хочешь, чтобы об тебя вытирали ноги – нечего и стелиться ковром. Его шутовство не исчезло, ибо было свойственно ему от природы, но если раньше он был в отношении к вышестоящим шутом заискивающим, теперь шутовство проступало дерзостью. Леваро не только отваживался высказывать своё мнение, но и имел наглость нахально отстаивать его. Но обретённое, а, точнее, мучительно обретаемое им чувство собственного достоинства, к его изумлению, не раздражало инквизитора, но поощрялось Вианданте, который относился к Элиа с неизменной мягкостью.
Впрочем, как с удивлением отметил Леваро, присмотревшись к инквизитору, тот вообще редко раздражался, был постоянно кроток и ровен в общении, нрав имел гармоничный и незлобивый, в отношении же к собрату Гильельмо, малышу Джельмино, порой проступала даже ласковая нежность. Экспансивные всплески, вроде описанного выше, происходили нечасто и, как заметил прокурор, всегда были связаны с дурными искушениями, коих инквизитор не мог избежать, ибо они были, увы, неотъемлемой частью его должностных обязанностей.
Сейчас Леваро закрыл окно и заметил, что, хоть он не может постоянно торчать в Трибунале, но завтра, так и быть, готов сделать одолжение его милости и помешать городским красоткам стащить с него мантию и разорвать штаны в клочья. Вианданте откинулся в кресле и застонал. «Господи, что же это?»
Вопреки пониманию суетного мира сего, искушение монаха инаково соблазну мирскому. Джеронимо были тоскливо неприятны ухищрения женской похоти, в своей отстранённости он отчетливо видел их и раздражался. Он, поставленный перед неизбежным и страшным выбором людей Духа – выбором между Наслаждением и Свободой, и – принужденный выбирать между ними, выбрал Свободу.
Да, именно отказ от внутренней Свободы – и есть подлинная цена Наслаждения. Он не хотел платить эту цену. Но заключенная в отказе от Наслаждения истинная стоимость Свободы Духа тоже была по карману немногим. Вианданте постиг наслаждение, краткость, обманчивость, беспорядочность и низость его утех. Его выбор был рассудочен и доброволен. Видя раздираемых похотью людей, Джеронимо искренне недоумевал, жалел их, ему казалось, что сама зависимость от движений плоти уподобляет их животным. В самом же себе он ненавидел подобные помыслы, как ненавидит человек грязевые пятна, заляпавшие одежду. Поддаваясь им даже ненадолго, Вианданте слабел, исполнялся презрением к себе и тёмной тоской.
…Леваро сдержал своё обещание и на следующий день, к вящему неудовольствию доносчиц, присутствовал в зале приёма. При этом фискал, некоторое время насмешливо наблюдая за женскими ухищрениями, с легким раздражением заметил, что присутствие Империали полностью упраздняет его мужественность. Леваро не был красив, но обычно выразительные черты его живого и подвижного, хорошо вылепленного лица, внимательные карие глаза и длинный, чуть искаженный горбинкой нос, типичный для уроженца Вероны, хороший рост и мужское обаяние обеспечивали ему изобилие женского внимания. Теперь же, за первый час приёма, он не заметил ни одного заинтересованного женского взгляда в свою сторону и, когда очередная жалобщица покинула залу, пожаловался на это Вианданте.
Империали тоном, лишённым даже тени сострадания, выразил ему своё сочувствие. От запаха восточных ароматических масел инквизитора слегка тошнило. Обиднее же всего было то, что за неделю, последовавшую за его представлением, никто ничего не рассказал о Ликантропе и не донёс на сообщниц Белетты. Сама же она, понимая, что костра ей всё равно не миновать, молчала, как рыба, и под пыткой, перенося её, как заметил Леваро, с терпением, несвойственным не только женщине, а вообще – невообразимым.
Впрочем, это никого в Трибунале не удивляло: ведьмы и колдуны, годами втиравшие в кожу дьявольские смеси дурмана и белены, опиумного мака и болиголова, полностью утрачивали обычную чувствительность.
Ничего нового не было и по прочим делам. Более, нежели всегда, бледная и возбуждённая донна Бьянка Гвичелли, явившись, поделилась с мессиром Империали соображениями об окопавшихся в городе пособниках злодея Лютера, но сообщенные ею шёпотом аргументы, подтверждающие её мнение, заставили того сначала усомниться даже в её способности достать пальцем до носа, а потом, когда сквозь поверхностную идиотичность суждений проступил потаённый смысл, инквизитор, как заметил Леваро, впервые покраснел до корней волос и закусил губу. На вопрос Элиа, заданный после того, как синьора покинула Трибунал, что такого сообщила донна Бьянка, Империали снова порозовел и попросил никогда больше об этом прискорбном случае не заговаривать.
Леваро был заинтригован. Всё это время он внимательно приглядывался к отношению нового начальника к женщинам и изумлялся: их чары совершенно не действовали на него. Леваро понимал в любви. Глаза мессира Империали всегда оставались ледяными, дыхание размеренным, лик бесстрастным. Опасения прокурора в храме Сан-Виджилио не оправдались. Леваро недоумевал, но в этом недоумении сквозило нечто восхищавшее его. Это была подлинная свобода духа, коей он сам был лишен, независимость от суетности, небесная неотмирность…
Сам того не замечая, Леваро втайне любовался главой Трибунала.
Общий же улов «дней милосердия» был незначителен. Несколько вздорных жалоб на сглаз, несколько бездоказательных и не подтвердившихся доносов на вроде бы приверженцев окопавшейся в городе еретической секты лютеран, несколько пустых денунциаций о дурной славе. Пустяки.
…В эти дни, вечерами, инквизитором на досуге были разобраны некоторые дела Трибунала, оставшиеся от Гоццано. Он прошёл в ордене, в школе высшей ступени, теоретическую подготовку по римскому, уголовному и церковному праву, но теперь, начав знакомиться с делами на практике, многое стал понимать иначе.
Все дела, проводимые Трибуналом по вопросам ереси, были сравнительно однообразны, и те, кто следовали за Лютером, вызывали только омерзение Империали. Ничтожный Лютер, изменивший монашеским обетам, выступавший за дешёвую и доступную церковь, за удешевление и проституирование святыни, казался ему просто животным. Но главной причиной отторжения для Империали было тяжёлое недоумение интеллекта. Боже мой! Дивному Аквинату, фанатичному приверженцу абсолютизма истины, с его несгибаемой волей, разумом тончайшим, аристократически-благородным и смиренным, мудрецу с безупречной чистотой души и совершенству логической гармонии его учения – они предпочли Лютера с его нечеловеческой ненавистью к разуму? Воистину, абсурд…
Империали не понимал лютеран. Чего ищут все эти ничтожества, якобы озабоченные возможностью «святой жизни»? Церковь, по слову апостольскому: «извергните развращённого из среды вас», – отлучала от себя содомита, колдуна и идолослужителя, злоречивого и хулящего глупым своим умствованием Святое Имя Его. Но когда и где преследовались святые? Гнала ли Церковь кроткого и милосердного, смиренного и целомудренного? Никогда. Что же мешает им быть святыми в Церкви? Но нет, они жаждут какой-то своей, особой святости! Им, видите ли, мозолят глаза подлинные и мнимые грехи священства и клира, прелатов высшего духовенства! Но кто поставил их, якобы алчущих святости, судить? Собственная зависть, алчность да злоба. Не святостью они озабочены, ибо святость не озабочена чужими грехами!
Сам Вианданте всегда досадливо морщился, когда слышал разговоры о греховных деяниях столичных прелатов и ватиканской папской курии, которые, особенно в последние годы, стали как-то сугубо разнузданны. Но никогда не высказывался об услышанном, справедливо полагая, что каждому суждено ответить за своё, и с него, Джеронимо Империали, за грехи кардинала Алессандро Фарнезе никто не спросит. Ни в этом веке, ни в будущем.
С этим всё было просто. Много сложнее казались Вианданте дела, связанные с колдовством. Здесь не обходилось без содействия со стороны сеятеля лжеучений, Прародителя Зла, Духа мерзости, которого за смердящий хвост не схватишь, и это усложняло процесс мышления инквизитора – из-за трудности понимания того, во что надо верить.
– «Ведьмы действительно принуждаются к участию в чародействах бесами, но они остаются связанными своим первым свободным обещанием, которым отдают себя демонам», – освежил Лелло в его памяти определение, данное в «Malleus Maleficarum», «Молоте ведьм», знаменитом труде кельнских ученых-инквизиторов Якоба Шпренгера и Генриха Инститориса. Он открыл лежащую на столе инкунабулу, хоть знал трактат почти наизусть. Как раз в это время с очередного обыска приехал Леваро, пожаловавшийся, что его конь потерял почти новую подкову. Элиа опустился на скамью и закрыл глаза.
– «Сначала необходимо выяснить вопрос, – продолжал между тем канонист по просьбе Империали, – почему так много ведьм среди немощного пола. По этому поводу, кроме свидетельств Священного Писания и людей, заслуживающих доверия, у нас есть и житейский опыт. Когда женщину хулят, то это происходит главным образом из-за её ненасытной страсти к плотским наслаждениям. Поэтому в Писании и сказано: «Я нашёл женщину горче смерти, и даже хорошая женщина предалась блуду». Из-за этой ненасытности женщин человеческая жизнь подвержена неисчислимому вреду. Поэтому мы можем с полным правом утверждать вместе с Катоном: «Если бы мир мог существовать без женщин, мы общались бы с богами». Да, мир был бы освобожден от многих опасностей, если бы не было женской злобы. Валерий писал Руфину: «Ты не знаешь, что женщина – это чудовище, украшенное превосходным ликом льва, обезображенное телом вонючей козы и вооруженное ядовитым хвостом гадюки. Это значит: её вид красив, прикосновение противно, сношение с ней приносит смерть».









































