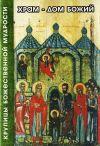Читать книгу "Храм"
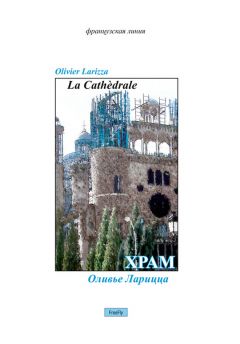
Автор книги: Оливье Ларицца
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Оливье Ларицца
Храм
Защиту интеллектуальной собственности и прав «Издательского дома «Флюид ФриФлай» осуществляет юридическая компания «Ведение специальных проектов»
От автора
Роман основан на реальных фактах, которые представлены в конце книги, но описываемая в нем история вымышлена. Диалоги между персонажами, включая те, в которых участвует Фернандо, – плод моего воображения, и, кроме меня, никто более не несет за них ответственность. Хочу также отметить, что образ мэра города Мехорада-дель-Кампо вымышленный: какие-либо совпадения с реальными людьми случайны.
Посвящается Вито Ларицца
Прикалывая то там, то здесь еще один лист, я создавал бы свою книгу, не скажу честолюбиво как собор, скорее как платье.
Марсель Пруст. Обретенное время
I
Бесцветное Рождество
Она мне сказала:
– Не переживай…
Я отвернулся. Взгляд бродил за окном среди крошечных, снежных хлопьев, резко падающих в свете уличного фонаря. И почти потерялся в распростертом, бездонном ночном небе, усыпанном алебастром.
– Не надо переживать… – повторила она.
В помутневшем оконном стекле не убежать от ее измученного лица, мерцающего десятками снежинок. Белые-белые, как стены в больнице. Потерять маму в Рождество – самое худшее, что только может быть.
* * *
В таком случае обычно говорят: все вокруг меня рухнуло. Прополз под руинами. И как парализованный застыл на месте. Стоял, оцепенев, перед этой женщиной, никогда не скупившейся на ласку, а теперь от нее осталось лишь безжизненное тело. Слезы не пролились – нет, – они поднялись из глубины и затвердели в уголках глаз как металлические пики, как ржавые звезды, которые очень долго будут сопровождать меня в тумане…
Отец сам занимался подготовкой похорон, канцелярской регистрацией, всем тем бумажным хламом, что его – бухгалтера по профессии – не пугал, и он легко мог с ним справиться. Скорбь отца меня мало тревожила, поглотила собственная. Я покинул места моего детства – Мец и Лотарингию – и поспешил вернуться в парижскую квартиру. Так не хотелось видеть погребение матери, и в то же время меня утешало, что наконец-то она избавлена от долгого страдания. Облегчение сменилось унынием, стал даже иронизировать: мне тридцать три – возраст, когда Он вроде бы воскрес.
На протяжении всех этих месяцев голгофы я во многом упрекал Иисуса, вновь был обижен на Господа Бога. Неужели Всевышний всесилен только в том, чтоб определять время своей встречи с дорогими для нас людьми – теми, кто вырывает нас из шумной равнодушной толпы? Да знал ли Он, каким необыкновенно добрым сердцем обладала моя мать? Как она опекала маленького Арно, брошенного на улице сумасбродной матерью-алкоголичкой, как она его холила, подкармливала теплым молоком с медом, его, который в промозглую осень влачил голодное существование… Нет, Бог не заслуживает того, чтобы писать Его имя с заглавной буквы, тем более если Он и вправду существует.
Во мне бушевал мятеж против Того, кто столь варварски вознаграждает ангелов неизлечимой болезнью. Успокоение приходило лишь в минуты ностальгии по счастливым и очень далеким временам, и это повторялось с точностью никому не известной геометрии, возможно потому, что отныне уже нет тех, ради кого стоит беречь свои воспоминания. Отец? В памяти тут же возникают его черные властные усы; его принципиальность нас отдаляла, мы никогда не были откровенными друг с другом. Но сейчас, испытав нестерпимо жестокую – словно битое стекло в живом теле – боль, мы безмолвно сблизились, несмотря на расстояние в сотни километров…
Да, это он ненастным ноябрьским днем сообщил мне о страшной болезни матери. На протяжении нескольких месяцев ее мучила сильная усталость, но врачи ничего не обнаружили, кроме банальной анемии. И когда отец объяснял по телефону результаты последних анализов, я не поверил. Отдыхая в своей парижской квартире, я всегда с наслажденьем пил чай «Огни Востока» и рассматривал пейзаж на красивой чайной коробке, которую когда-то мне подарила мать. Под японской яблоней две гейши ведут светскую беседу; обе одеты в кимоно с изысканным орнаментом и держат веер в руке. Справа за ширмой, на расстоянии нескольких сантиметров, возле лотоса медитирует маг в карминно-серебристом одеянии. Эта гравюра всегда вселяла такое душевное спокойствие! Она не изменилась ни на йоту и создает во мне ощущение вечной материнской ласки…
В моей жизни мать занимает такое же место, как и прежде. И тот период юности, когда она давала советы по поводу моего внешнего вида, маниакально подчеркивая детали – «Подними воротник!», «Почисти туфли!», – продолжался у меня вплоть до зрелого возраста. Я всецело полагался на ее изысканный вкус и порой откладывал покупку пальто или пары сапог до возвращения в родной город. А там был один-единственный магазин, где я великолепно одевался, но не «Гуччи» и не «Армани»: это происходило в магазинчике маминых глаз. Я глядел в эти маленькие голубые зеркала и видел в них самого элегантного мужчину, какой только может быть на этом свете. И если элегантность – вопрос любви, значит, мне не суждено походить на оборванца, простодушно думал я.
И вот средь бела дня нависла угроза обрушения; уже видно, как на мертвенно-бледном горизонте покрылся трещинами наш замок. Все спешат укрыться в палате, где белые, как кость, перегородки и такие же белые халаты, где у обесцвеченной постели молочный оттенок потерянной нежности. По вечерам в простыни врезаются лучи заходящего солнца, и на этом странном белом фоне они приобретают неожиданные цвета, нечто сродни помилованью. А мама, вытянувшись, лежит в самом центре этого пожарища, которое ее освещает. И, глядя на угасающий пурпур, вдруг замечаешь, как сильно высохла река детства, кроткая и дерзкая…
* * *
Я привез из Меца коробку, где хранились мои личные вещи: фотографии, школьные тетрадки, университетские конспекты – все лежало в определенном порядке, начиная со школы вплоть до учебы в университете. Меня приятно удивило то, что мама все это сохранила (в конце каждого года она сбрасывала в коробку ставшие ненужными вещи).
В этом скоплении хлама вдруг обнаружилась аудиокассета (таких кассет уже не выпускают). Заинтригованный, я вставил ее в старенький HI-FI, и с экрана хлынула волна из прошлого. На скрипучей пленке были запечатлены мои одноклассники в тот день, когда в епископстве записывали радиопередачу ко Дню матерей (нам тогда было по десять лет). Каждому ученику предстояло прочесть по две строчки из стихотворения Мориса Карема, воздавая хвалу материнской заботе. Охвативший меня жар и волнение отступили, главное – не сбиться с рифмы. Микаэль произнес: «И на твоем колене я скакал быстрей оленя…» А потом мой, в то время с хрипотцой голос продолжил: «О чем же мне сказать пора, чего не знаешь ты?..» Я не запнулся, и вечером мама меня похвалила.
Соленая вода воспоминаний с горечью проникла в горло, ибо горе было еще слишком свежо. Приступ тошноты поднял меня как утопленника, только что извлеченного из воды. Я задумался над вопросом Мориса Карема: так что же пора ей сказать, о чем она еще не знает? И только спустя двадцать три года нашел ответ: Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. Потому что мать никогда этого точно не знает наперекор убеждениям, будто она и так все понимает. И всякий раз, когда матери остается жить совсем недолго, мы сожалеем, что не говорили ей о своей любви. Неужто так будет всегда в наших отношениях с близкими людьми, которые еще рядом?
В глубине картонной коробки покоились «мадлены»,[1]1
«Мадлены» – сорт очень мягкого печенья, которое чаще всего покупали пожилые люди. (Здесь и далее прим. перев.)
[Закрыть] такие выпускали в давние времена, сейчас их уже не найти. Фотокопии «Декларации независимости Соединенных Штатов Америки» – мы бегло изучали ее в школе. Я с трудом подавил в себе приступ нервного смеха, когда перечитывал предусмотренные в ней неотчуждаемые права: «жизнь, свобода и преследование счастья». The pursuit of happiness… только и всего! И это – правда: мы изо всех сил гонимся за счастьем по пятам. Неужели это и есть американская роскошь – быть счастливым? По случайному совпадению внизу под любопытным документом оказалась поэтическая строфа, которую я старательно выписал в то время, когда был подростком и мечтал стать римбальдийцем.
Счастье… я не узнал тебя – божественный покой,
являемый нам будто ненароком
то в сонной статуе, то в облаке высоком,
то в птице, звавшей улететь далеко.
Я всматривался в облака, но не находил в них ничего особенного, разве что безмерную грусть. Пламенеющий отблеск заходящего солнца на бледном озере Лотарингии, черная шевелюра стаи ласточек, улетающих в теплые края, – от всего этого нет ни капли радости, когда мечется в агонии человек, которого ты нежно любишь. В миг, когда моя мать улетела много дальше, чем ласточки, – в последнюю миграцию, откуда уже не возвращаются, – я не почувствовал никакого божественного покоя. Величие бескрайнего неба не в силах исчерпать скорбь осиротевшего сердца. «Не спешите заживлять свои раны, – советовал Жан Сюливан, – если вам достанет Божьей милости и мужества, на их месте вырастут крылья». Но из чего же сотканы те крылья, что помогут воспарить и не позволят рухнуть в пропасть? Как распознать, будучи без сил, этого хамелеона души, что зовется счастьем? Как отыскать это счастье, где оно прячется? Слабое зимнее солнце не отвечало ни на один из моих вопросов.
В то время я работал в знаменитой звукозаписывающей компании на Левом берегу. Мы записывали диски популярных певцов и музыкантов; я отвечал за разработку рекламной стратегии.
Работа требовала более углубленного подхода, нежели то, что я мог делать с учетом требований профессии: безостановочно переходить от одной задачи к другой, быстро и эклектично, изобретательно – по команде. Очень мало времени на размышления. В конце дня часто появлялось чувство незавершенности, даже если уходишь с работы измотанным.
Я приспосабливался к скучным совещаниям, «мозговым штурмам», где мобилизуют некую дозу английских слов, очень полезных, когда надо скрыть отсутствие содержания. Все с притворным интересом слушали друг друга, щеголяя любезным выражением лица. Жослина – наша директриса – шикарная женщина сорока лет с золотисто-каштановыми волосами до плеч, глазами цвета барвинка, стройная как героини с полотен Модильяни, встряхивала челкой почти грациозно. К ней обращались на «ты», приветствуя, целовали в обе щеки, у нее был вид глубоко гуманного человека. И таковой она себя считала.
Мы обсуждали стратегии, которые надо было принимать, вопросы доходной части, которые считались решающими. Выбор обложки, фотографии артиста, и чтобы все это вызывало необходимые эмоции, а также многие другие соображения, что сводились в конечном счете к тому же самому – к прибыли. И если какое-либо из принятых решений бросало тень на нашу знаменитую этику, Жослина дарила всем перламутровую улыбку: «Да, это ужасно – воздействовать вот таким образом. Но что поделаешь? Народ этого хочет!» Говоря по правде, в этом не было ничего крамольного, ведь хорошая реклама еще никогда и никого не убивала. Мы всего лишь придерживались предписанных системой требований, что, помимо прочего, позволяло нам хорошо зарабатывать на жизнь.
Болезнь матери поколебала мою уверенность в себе, и «бросающее тень решение» наконец догнало меня: мир таков, каким позволяет себе быть или каким его делают? Моя мать тоже не избежала этой дилеммы. Она даже схватила этот мир в охапку, правда, как-то неловко и наивно: мир такой, каким мы его создаем. К тому же можно выбирать – плыть по течению или против него. И она сделала свой выбор – намеренно отказалась от многообещающей карьеры парикмахера, которая помогла бы ей вырасти как личности и приобрести общественный статус. В итоге – домохозяйка, заблудшая русалка так называемой «эмансипации», она плыла против течения. Это было так хорошо видно в реке ее глаз.
Ее не стало, и целую неделю, барахтаясь в печали, я неистово рассуждал. Мое существование казалось пустым, как белый лист или безлюдный пляж. Желая убежать от всепожирающей безысходности, я тоже решил плыть против течения. Попросил отпуск на год! Затем, убеждая себя (и в это не веря!) в том, что смогу рассказать свою историю, взялся за перо и чернила. Так много всего накопилось; предстоит все разложить по полочкам и понять. И может, где-то в конце пути забрезжит свет, который надо будет собрать и поделиться им с другими.
II
И я повстречал другие глаза
Вскоре после похорон просьба об отпуске была удовлетворена, я уехал.
Настал новый год. Стало быть, снова все сначала. Я цеплялся за эту иллюзию, хоть в жизни никогда нельзя вернуться в начало: прошлое невозможно снести до основания; мы только и делаем, что продлеваем свое прошлое, лелеем его, намерены даже возвысить, если этому не помешает наша хромота.
Купил билет на самолет до Мадрида. Решил пробыть там неделю, не дольше, выбрал наудачу в Интернете рекламное предложение «авиаперелет и отель». Хотелось узнать, куда приведет случай…
Приземлился в отеле «Веллингтон» – маленьком дворце в самом центре квартала Саламанка, который знаменит шикарными ресторанами, картинными галереями и рекламными вывесками магазинов высокой моды. После празднования Дня святого Сильвестра центр города потихоньку приходил в себя, и в парк Ретиро, что рядом с отелем, стекались усталые души. Кругом валялись конфетти, бумажные шляпы и серпантин, которые я топтал, как привидения. Новизна места должна была взволновать; между тем ничто не захватило – ни намека на впечатления, ни малейшего оживления. Словно я лишился чувств. У эвкалиптов, казалось, совсем нет аромата, розарий впал в зимнюю спячку. Неподалеку гулявший с родителями мальчуган жаловался на отсутствие циркача, что проделывал магические трюки с веревкой, и сверкавшей золотым гримом обольстительницы, с которыми можно было фотографироваться. Стоя лицом к пруду, одиноко маячили в отсутствие клиентов карикатурист и торговец африканскими безделушками, будто уцелевшие после катастрофы. На воде, что переливалась всеми цветами радуги, фланировала одна-единственная лодка, напоминавшая венецианскую гондолу. А эта молодая пара, неужели они все еще влюблены?
Я долго бродил в прохладе этого утра, пока не очутился в подземном автовокзале. Один из множества автобусов пробудил во мне любопытство – привлекло название конечного пункта его движения: Мехорада-дель-Кампо. «Поселок улучшенной планировки» – перевел я с испанского. Зеленые лампочки букв мигали, и я воспринял это как некое обещание. Спустя полчаса в тридцати километрах от автовокзала меня поразила голубая бесконечность утомленного неба, и неожиданно охватило желание пронзить эту голубизну, как те самолеты, что взлетают один за другим (аэропорт Бахарас находился неподалеку). Пусть меня затянет в половодье света, что хлынул сверху и крутился воронкой на крыше местного собора.
Приблизившись к этому собору, я увидел, что он не достроен и причудливо выступает посреди нового жилого квартала. Его изгибы и женские формы в стиле арт-модерн поразительно контрастировали с квадратными домиками, которые быстро размножались вокруг. Прямо перед его западным фасадом, что «плавился» в разнообразии красных кирпичей, расположился культурный центр. Меня сразу тронула эта недостроенная, вроде как искаженная, церковь. И мне вдруг захотелось в этой церкви заказать молебен за упокой матери, хоть гнев на Господа Бога не стих.
Когда я вошел внутрь, меня поразила еще одна неожиданная картина: сидя на корточках, старик заливает цементом пол. Неподалеку от него дымятся раскаленные угли – остатки сгоревших дров.
– Добрый день, – говорю я по-испански.
Старик, казалось, меня не замечает. Но я не отступаю:
– Кто вы?
Он поднял глаза от своего тяжкого труда, смерил меня взглядом с головы до пят и ответил:
– Я – твой отец, дитя.
* * *
Старика звали Фернандо Алиага. Ему было семьдесят семь лет. Его взгляд до сих пор живет в моей памяти: голубые глаза старика так похожи на глаза моей матери. В них соединились воедино небо, океан, звезды и ветер. Глядя в глаза дона Фернандо, кажется, что он много странствует.
Однако вся его жизнь прошла здесь, в пригороде Мадрида. Ему довелось застать франкизм, затем улучшение условий жизни, когда Испания вошла в Европейское сообщество. Впрочем, образ его жизни почти не изменился.
– В начале семидесятых, – объяснял он мне, – в нашей деревушке было около трех тысяч жителей. В середине восьмидесятых, с приходом Европы и комфорта, это место стало весьма престижным – в двух шагах от столицы. С тех пор дома растут как грибы. Но для меня ничего не изменилось. Я остаюсь «шутом Господа Бога», как они говорят…
И церковным сумасбродом. Таким прозвищем дона Фернандо наградили жители поселка, ибо они не могли понять его безумную затею – построить собор! Он посвятил всю свою жизнь строительству этой церкви, в которую я сейчас проник. Четыре десятилетия тяжкого непрерывного труда, еще более искусного с тех пор, как он ушел на пенсию, перестав работать скотником на ферме родителей. Скромную пенсию и церковные подаяния старик без остатка отдавал на создание своего произведения, покупал необходимые строительные материалы и очень редко нанимал помощника.
– Так много везде разбросано полезных вещей, – рассказывал он мне, опершись на колонну с ангелами. – Это безумие, сколько люди всего выбрасывают! У них нет ни малейшего представления о том, что имеет ценность…
Вот так я оказался в обществе этого необыкновенного человека, с которым не расставался на протяжении долгих недель, выискивая в его взгляде только одно: как на развалинах настоящего снова построить свою жизнь.
Каждое утро я ездил из Мадрида к дону Фернандо, это вошло в привычку. Кроме воскресенья (единственный день отдыха, который соблюдал), старик постоянно находился там, в своем необычном храме, с шести или семи часов утра. Однажды я даже не сразу его заметил. Я очутился внутри нефа. И, только подняв глаза, увидел старика: он красил купол, по крайней мере, его набросок – железный скелет под открытым небом – в ярко-синий цвет.
Вначале мы немного побеседовали. Я знал, что он ценит мое присутствие и мое молчание. Это чувствовалось в его просветленном взгляде. И в голубом цвете неба, что и привело сюда меня.
У дона Фернандо не бывало много посетителей. Раз в неделю его навещал помощник мэра. Он поддерживал старика отшельника. Впрочем, помощник мэра как-то мне сказал, что не представляет судьбу этого строения, когда отшельника однажды не станет.
– Епископ ему не выразил никакой поддержки, – признался он мне, пока Фернандо прихорашивал свой купол. – А без поддержки официальной Церкви собор не может служить местом культа. Кроме того, вы же видите, как все вокруг застраивается: участки земли идут по цене золота! Не исключено, что собор снесут после его смерти…
Слова помощника мэра меня расстроили. Сознает ли Фернандо такую перспективу? Когда гость уехал, я рассказал об этом старику, но тот, не теряя достоинства, оставался сосредоточенным на своей задаче. Он пытался почистить слегка поврежденную статую святого Антуана, которую ему подарил безвестный скульптор с руками волшебника.
– Я уже давно свыкся с мыслью, что не закончу свое творение, – пробормотал старик. – Конечно же не теряю надежды, что однажды епископ проявит интерес к собору. Кстати, один меценат установил здесь арматурные балки, чтобы предотвратить обрушение купола…
Он смолк. Я заметил на его шерстяной куртке капли краски, причем некоторые из них были многолетней давности. Эдакий Арлекин из другой эпохи, с другой планеты.
– Даже если мою церковь сотрут с лица земли, это не столь важно, – продолжил он. – Я ее построил не для себя.
– Тогда для кого? – спросил я.
– Для моей матери.
В его зрачках появился странный блеск, такой яркий и такой далекий, словно отблески полуденного солнца.
– Моя мать была героиней, святой! Она дала мне веру. Внушила мне любовь.
Меня пронзило желание упомянуть о своей матери.
– Не представляю, как можно внушить любовь… – промолвил я.
Он оборвал меня на полуслове:
– Любовь можно внушить, когда любишь, ибо она повсюду. И смерть – это тоже любовь.
– Я только что потерял мать…
– Знаю, дитя. Поэтому ты и вошел в мою церковь. Чтоб с нею еще хоть чуть-чуть пообщаться. Ведь эту церковь я построил из камней любви.
Через круглую рамку будущего витража проник солнечный луч и как маленькое богоявление осветил старика, который придерживается простой истины.
* * *
Тоска наваливалась по вечерам, когда лезвия ночи сворачивались спиралью в осиротевшем сердце. Тогда я бродил по улицам Мадрида, пытаясь излить свое горе, а потом снова нырял в бар отеля, где не так одиноко среди посетителей, постоянной суеты в проходе и нарочитого блеска люстр, панелей из дерева акажу и цинка, сценок охоты на картинах, бокалов с аперитивом. Опьяненный этим бутафорским сиянием, я засыпал.
Вот бы перепрыгнуть ночь – избежать ее. Жить с утра до утра, чтобы, едва покинув, вновь увидеть этого маргинала, который меня подбадривает; знать бы еще почему. Поэт камня! Я наблюдал его страсть, пыл, неистовство, не отгоняя мысли о том, что все это когда-то кончится. Пот застилал его смеющийся лоб с нимбом прохладного дня, и я едва сдерживался, чтобы не сказать: наступит день, когда эта восторженность будет уничтожена. Так что же тогда остается после всех наших усилий и наших страданий? Синева его глаз, как у моей матери, сольется в конце концов с океаном неба – уж это я точно знал.
Уже неделю, пока я здесь укрывался от горя, длилось скрупулезное украшение собора. Наперекор поговорке «Черт прячется в мелочах» можно утверждать, что именно в деталях сокрыта красота, и они ее усиливают. Дон Фернандо мастерил небольшие украшения с помощью стаканчиков из-под йогурта, которые служили формами. Всякий раз, подавая инструмент, я восхищался тщательностью его работы и размышлял о заложенной в нас относительности: неужели только она заставляет подняться выше, стать значительнее и лучше других.
И все-таки этот старик излучал особый свет, с блеском радости. Радости созидания.
– Когда я работаю – произнес он, не прекращая растирать шпателем светло-серую смесь, – то постигаю что-то сызнова. Словно только что родился на свет. Молодняк, как и те, что постарше, к сожалению, не могут даже представить, сколько радости доставляет созидание. Предпочитают что-то попроще, в то время как где-то там, на краю склона, в великолепной конструкции кроется наше счастье. Мне их жаль…
Короткими вспышками промчались в мыслях безликие ворота завода, витражи Левобережья, любезные улыбки Жослины, неизбежность социального плана… Но без чьей-либо поддержки я вряд ли решусь от них отказаться.
– А может, молодняк, как вы говорите, наоборот, доказывает этим ясность своего ума: они понимают тщеславие многих творений. И знаете, когда по восемь часов в день занимаешься малоприятной работой на конвейере, вряд ли будешь рассуждать о смысле созидания! А в конце месяца получаешь заработанные потом и кровью гроши, в то время как акционеры спокойно наживают на этом целые состояния…
– Мальчик мой, дорогой! Ты столкнулся с ней, с этой всемогущей Старухой с косой, в черном плаще с капюшоном… какая же она страшная!.. Да о каких состояниях на земле… ах, как это смешно! Состояния надо собирать на небе! Копить сокровища в сердце!
Чуть ли не библейский идеализм старика меня поразил. И все же я не осмелился упомянуть своего деда, выходца из Венгрии, который в адском темпе работал токарем-фрезеровщиком на заводе в Лотарингии, принимая такое условие как неизбежность и даже не пытаясь хоть на миг усомниться в нем. За мизерную зарплату он жертвовал своим здоровьем – при неблаговидном молчании современников. Эти простые люди никогда не носили одежды из той материи, что с таким трудом ткали, такие вот безымянные герои. В чем-то, сам того не ведая, Фернандо был похож на моего деда.
Пока я разглагольствовал, внимание старика переместилось на капитель, куда предстояло встраивать новую колонну. Он так тщательно все отшлифовал, что я не мог определить сюжет: вроде бы и не акантовый лист, но и не коринфский орден. Он полировал ваяние, облагораживал рисунок. И вдруг воскликнул елейным насмешливым тоном:
– Парень, ты задаешь слишком много вопросов! Смысл, значение?.. Вот невидаль! Да этого никогда не постичь. И незачем тут голову ломать. Вселенная не знает, куда катится, вот и мечется как флюгер, а у нас от этого головокружение. Поверь мне, заниматься делом – вот что действительно важно! Займись чем-нибудь, и тебе будет намного легче. Сразу почувствуешь, как все станет на место!
Со второй недели моего пребывания в Мадриде, после шести дней отдыха и размышлений, я присоединился к Фернандо – начал работать вместе с ним.
Следуя его инструкциям, я рубил зубилом, долбил молотом, паял, а ступеньки склепа уже мостил плитками сам, наугад. Но все это не доставляло ни малейшего удовольствия, наоборот. Пытаясь забыться, смягчить душевную боль физической пыткой, я тупел как бык. Испытал на собственной шкуре этимологию слова «работа» (с латинского tri palium означает орудие пытки в виде трезубца), что пронизывала мои вены, напряженные до предела руки. В конце дня горели все мышцы. Где же этот старик черпал силу, которой мне так не хватало?
Старик насмешливо смотрел на меня, хоть каждое его движение было наполнено заботой и любовью, сдержанным великодушием. Меня восхищало его великодушие, без сомнения исходившее от мудрости, умения сосредоточиться всем своим существом на одной-единственной задаче. Его сияние на протяжении долгих часов не ослабевало: сияние любви от хорошо сделанной работы.
– Хорошо, добросовестно работать – значит любить мир, – проговорил старик нараспев хриплым голосом. – Люди, по обыкновению, ни во что не углубляются. – И тут он искоса глянул на меня, измотанного до бесчувствия.
Фернандо скрывал ревматизм, который атаковал его конечности, почки. Покрытая трещинами кожа делала его лицо похожим на пергамент, но при большой нагрузке под струями пота она, казалось, разглаживалась, подобно старым камням, что сверкают под весенним дождем. Мое терпение очень быстро иссякало, и пока старик тянул время, прежде чем приступить к работе, мне уже хотелось ее закончить. Он не спешил переходить к отделке. Отодвигая завершение своего памятника – своего мавзолея, – он убеждался в некоем бессмертии.
Где и как жил этот странный человек, хрупкий как сухарь, что крошится на краю бездны? Какое прошлое, какие тайные раны он зарывал под тоннами бетона? Глазами и непокорностью к общепринятым нормам он напоминал мою мать, хоть я ему ничего не рассказывал о ней. Словно светолюбивый тростник.
Вечером, когда я уже был полностью измотан, он без моей помощи закончил установку одной из тех колонн, что поддерживали строение. Отступил на несколько метров, желая смерить взглядом результат, и заявил:
– Нехватку знаний о правилах архитектуры я восполняю излишком цемента. Буду, как всегда, действовать по наитию…
Конструкция кренилась. В ней было что-то от Пизанской башни и тростника: хоть она и клонится, но уж точно никогда не сломается. В глазах старика вспыхнул, как молния, фиолетовый блеск – единорог остался доволен. Он коснулся левой рукой подбородка и добавил задумчиво:
– Да! Я все делаю интуитивно, так любящая мать воспитывает свое дитя.
* * *
Он учил меня ценить неспешность.
– Вот уже несколько дней я наблюдаю за тем, как ты работаешь, мой мальчик, тебе обязательно надо научиться терпению. Иначе все будет немило, и ты надорвешься от работы. Именно поэтому я не езжу в Мадрид: там у людей никогда нет времени! Все куда-то спешат, куда-то опаздывают… и за чем же они бегут? Срочность – это не что иное, как изобретение, просто иллюзия. Ну, зачем торопиться? В любом случае, конечный пункт у всех один, всем хорошо известный. Главное, на пути к концу жизни найти что-то увлекательное.
Устанавливая временные подмостки из досок и медных труб, которые надо было закрепить с помощью нескольких крепежных муфт, я исступленно надрывался.
– Вы же знаете, я – не профессиональный рабочий! К тому же я никогда не отличался способностью собирать самодельные конструкции. Ведь я же могу назвать это самоделкой…
Дон Фернандо захохотал, обнажив во рту целую долину из пеньков и дыр. Он смеялся от всей души.
– Вот видишь, не всякий турист отважится зайти на эту интригующую стройку. Кстати! Час назад, пока ты дрых в своем позолоченном отеле, сюда забрела одна парочка с фотоаппаратом, похоже, французы. Щелк! Щелк! Потом увидели меня и тут же сбежали. Должно быть, приняли меня за нищего… Заметь, исчезли, как само собой разумеется.
Старик стал надевать на себя невзрачное широкое пальто из темно-синей шерсти, забрызганное краской и покрытое пылью, потом – шапку того же кирпичного цвета, что фасад собора. Штаны были подвязаны шнурком. У моей матери он, разумеется, получил бы выговор.
– Ты – тоже турист! – продолжил он чуть шаловливо. – Но, в отличие от тебя, у этих туристов, что приезжают сюда, желая увидеть страну, совсем нет времени на то, чтоб узнать меня. Как только они меня заметили, сразу же исчезли. Испугались, что я отъем толику их свободного времени. Люди не сознают, что упускают, когда ведут себя вот таким образом.
– А где люди ведут себя иначе?
– Нигде. Это верно, что…
Он поднял глаза к образу Богоматери Пилар, покровительницы Испании, которая нас благословляла сверху колонны (икона была размером около тридцати сантиметров). Затем уточнил:
– Ничто великое не совершается в спешке и в отсутствие терпения.
Я не оставлял его в покое:
– Вот как? Стало быть, вы уверены, что создаете нечто великое?
– Эта церковь была моей мечтой. А мечта – всегда великое дело.
* * *
Старик жил в доме своей сестры Джильды. У него осталась только эта семья; никакой собственности не было, за исключением трех или четырех вещей личного пользования, ржавого велосипеда, находящегося в жалком состоянии, и участка земли, унаследованного от покойного отца, – приблизительно один гектар пастбища, на котором вот уже сорок пять лет он голыми руками возводит собор. Мехорада-дель-Кампо – маленький поселок в окрестностях Мадрида. Днем начала строительства Фернандо выбрал 12 октября, так как в этот день испанцы чествуют свою Мадонну, знаменитую Богоматерь Пилар. Работа началась еще во времена режима Франко и продолжалась по шесть дней каждую неделю, начиная с рассвета. Труд Титана с верой Сизифа, единственным талантом которого было упорство. При первой же встрече я ему доверил мою страсть к голубому небу и взгляд отчаявшегося человека.
Я решил покинуть отель «Веллингтон» и снять комнату подальше от центра столицы. Прежде я всегда селился в самом сердце разных городов, так как меня привлекал волнующий шум их голосов, но теперь мне был нужен душевный покой. Вот почему я выбрал тихий (и всем доступный) квартал антикваров. На площади Каскорно женщина листала журнал «Психология», изданный на испанском языке, и это место мне сразу показалось близким, внушающим доверие, удобным для самоанализа. Я уже представил себя графином с водой, в которой полно всяких примесей, и надо успокоиться, чтобы частицы осели на дно, и тогда вода снова станет прозрачной. А еще я искал тишины, желая слушать Фернандо и размышлять над его нелепостью. Этот человек меня очаровал, мне хотелось раскрыть его тайну и понять его энтузиазм, которым он кичился за неимением элегантности.